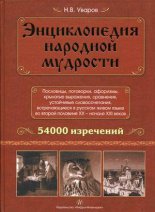Так было. Размышления о минувшем Микоян Анастас
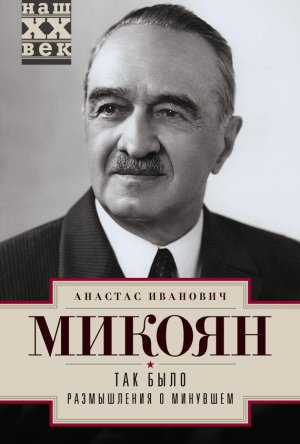
Помнится, в 1932 г. или в 1933 г. мы расхаживали втроем: Сталин, Молотов и я около здания правительства в Кремле, где была квартира Сталина. Беседовали спокойно по разным вопросам. В этот раз я больше слушал. Говорил Молотов. В тот период он как Председатель Совнаркома чувствовал ответственность за сохранение пропорций в экономике и, в частности, очень заботился о том, чтобы сохранить стабильность нашей валюты, уменьшить убытки хозяйственных органов и изыскать источники прибылей. Это было естественным и вытекало из его положения. При этом он часто перебарщивал и в связи с этим допускал ошибки. Эта черта свойственна Молотову. Помнится, я вместе с Орджоникидзе много спорил с ним, когда он зажимал капиталовложения по строительству новых предприятий в промышленности после успешного досрочного выполнения первой пятилетки. Он был под сильным влиянием наркома финансов Гринько. Гринько был умный человек, подготовленный, хорошо владевший вопросами своего наркомата. Он особенно напирал на Молотова по части сокращения расходов.
И вот Молотов стал приводить данные, что очень много совхозов убыточны, поэтому начал говорить о том, что сохранить нужно только те хозяйства, которые прибыльны или не дают убытков, ликвидировав убыточные и раздав их земли колхозам, поскольку мы убытков колхозов не покрывали, и никто их доходов и расходов не считал. Убытки тоже не считали. Знали только богатые, хорошие колхозы и слабые, бедные колхозы.
Я был удивлен такой постановкой вопроса Молотовым. Но, прежде чем высказаться, стал ждать, что скажет Сталин. Сталин слушал очень внимательно, курил трубку. Выслушав все доводы Молотова, немножко помолчал, а затем спокойно, не в обидной форме, толково объяснил Молотову: ему известно, что многие совхозы, даже большинство, являются сегодня убыточными. Но надо знать, что любая новая общественная формация до поры до времени нуждается в поддержке, без чего она зачахнет. Поэтому такое финансовое состояние совхозов, неприятное для бюджета, является естественным и закономерным. Надо принимать меры к ликвидации убытков, увеличению доходов совхозов, а до этого времени покрывать их дефицит, постепенно принимая меры и уменьшая дотации, пока они не встанут на ноги.
Я был очень приятно удивлен, услышав это объяснение от Сталина, которое, по моему мнению, было теоретически правильным. К тому же я лично был сторонником развития совхозов. И не случайно, что в дни сплошной коллективизации Калинин, уговаривая не торопиться с объединением всех крестьян в колхозы, особенно в районах не основного земледелия, имея в виду центральные районы России, которые он хорошо знал, будучи родом из Тверской губернии, предложил форсированно развивать зерносовхозы на свободных государственных землях.
Сталин не принял первого его предложения. Зато, желая удовлетворить Калинина, принял его второе предложение, считая, видимо, его правильным, и предложил при ЦИК создать комиссию по образованию совхозов во главе с Калининым. Калинин, зная мое отношение к совхозам, предложил включить и меня в состав этой комиссии.
В последние годы своей жизни Сталин, став крайне неустойчивым в своих взглядах, кажется в 1948 г., вдруг внес совершенно поразившее меня предложение в отношении совхозов — прямо противоположное тому, что он утверждал в 30-х годах. Сидели за обедом, беседовали, спокойно обсуждали недостатки в сельском хозяйстве, трудности; сетовали на то, что совхозы становились все более убыточными. (Хотя эти убытки надо считать условными, потому что от совхозов хлеб принимали в ценах, которые существовали по колхозам, то есть резко заниженным, а продавали этот хлеб на рынке в три-четыре раза дороже, и деньги эти в виде налога с оборота через Заготзерно попадали в бюджет не как доход от совхозов, а как налог от потребителя. Это, конечно, было неправильно.) Сталин говорил, что никаких убытков колхозов мы не покрываем, зато продукты от них получаем, а на совхозы много тратим денег на дотацию. Вдруг он неожиданно говорит: «Надо ликвидировать совхозы, превратить их в колхозы, так как колхозы — форма более выгодная для государства, более социалистическая форма, чем совхозы. И к тому же освободятся огромные средства, которые тратим на покрытие убытков совхозов».
Я был поражен. В особенности еще тем, что совсем недавно — перед окончанием войны или сразу же после войны — он выдвинул идею создания вокруг Ленинграда и Москвы большого количества совхозов со специальным назначением для производства продуктов для снабжения населения этих крупных городов. Я эту идею тогда поддержал. Заявление Сталина было тем более странным, что все знали, что в части Московской области, в Смоленской, Калининской, Ленинградской и северо-западных областях Российской Федерации колхозы фактически были разорены в ходе войны, населения было мало, главным образом старики. Колхозными средствами быстро это не восстановишь. И создание вокруг Москвы и Ленинграда совхозов было оправданным, так как эти земли близко расположены к потребителю. Казалось бы, это надо было поручить Министерству совхозов. Но почему-то Сталин предложил возложить это дело на меня лично, а тогда я не ведал Министерством сельского хозяйства и совхозов. Правда, под моим руководством работало Министерство мясомолочной промышленности. Вот он и предложил эти совхозы создать при Министерстве мясомолочной промышленности, организовав тресты этих совхозов и главные управления при министерстве.
Вообще, не один, а много раз Сталин возлагал на меня задания, которые прямого отношения к моим обязанностям не имели. Видимо, он был высокого мнения о моей оперативности, настойчивости, ответственности за порученное дело. И мне кажется, как будто я его и не подводил в таких делах. Например, зная значение каракуля как экспортного товара, дающего большую валюту, он еще до войны предложил мне изъять все совхозы каракулеводческие и зверосовхозы из Наркомата совхозов, передать их Наркомвнешторгу, создать новые совхозы на государственных землях и вовсю раздуть производство каракуля. Или, в начале войны он мне поручил создание алюминиевой промышленности на Урале, с чем я тоже вроде бы справился.
И вдруг такая перемена в Сталине! Я не выдержал и сказал: «Как это можно, товарищ Сталин? Ты знаешь, к каким последствиям это может привести? Это будет большим ударом по экономическим возможностям государства, не говоря уже о социалистическом секторе, наиболее боевом, где государство отвечает от начала до конца, государство, которое должно быть и может быть образцом для других. Эти убытки совхозов условные, и если правильно считать, то совхозы выгодны, а не убыточны. Наконец, ты же сам предложил вокруг Москвы и Ленинграда создать совхозы, которые теперь успешно развиваются, дают много мяса для снабжения населения городов».
Надо сказать, что Маленков, который обычно поддакивал Сталину, никогда ему не возражал, на этот раз ни слова не сказал. Но Сталин понял, так как знал Маленкова хорошо, что, следовательно, и он не согласен с ним. И другие члены Политбюро смотрели удивленно на Сталина — наверное, думали, что он их испытывает. На этом разговор кончился. Сталин понял, что никто его не поддерживает, даже Каганович не сказал ни одного слова в его поддержку, молчал.
Это показывает, как изменчив был Сталин в последние годы, как свойственно ему стало шараханье из стороны в сторону в решении крупных экономических вопросов.
Глава 42. Сталин. Эпизоды
Сталин, безусловно, был человеком способным. Он быстро схватывал главное во всех областях деятельности, даже в таких, которые сам плохо знал. Вообще, нет человека, который бы хорошо все знал. Но он искал и часто умел находить главное звено, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь, говоря словами Ленина. Но иногда у него проявлялись странности. Им овладевали какие-то идеи-фикс, которые превращались в подлинный фетишизм. Несколько примеров.
Накануне войны, в 1940 г., готовясь к войне, Сталин предложил отказаться от строительства крупных электростанций и ограничить мощность новых электростанций 40 тыс. квт. Объяснял он это тем, что если будут во время войны бомбить, а бомбить будут обязательно, и выйдет из строя большая электростанция, то и ущерб будет большой, а если небольшая станция, то и ущерб будет меньший. Молотов как Председатель Совнаркома СССР издал такое постановление. Конечно, потом оно было забыто.
Еще один факт. Занимаясь зерновыми проблемами, из всех видов зерна Сталин выделял только пшеницу. Это, конечно, главная культура для производства продовольствия, но он стал доводить эту истину до абсурда, в ущерб экономике страны (между прочим, такую ошибку повторил Хрущев в отношении кукурузы). И Молотов в угоду Сталину стал требовать, чтобы на Украине и Северном Кавказе основные посевные площади засевали яровой пшеницей, вытесняя традиционные для районов культуры — ячмень, овес, кукурузу. Он не понимал, когда я объяснял ему, что этого делать нельзя, или не хотел понимать, думая, что ему неправильно говорят.
Из многолетней практики украинского крестьянства ученым известно, что на Украине дает большой урожай рожь, а пшеницу сеют только озимого посева. Яровая пшеница дает урожай чуть ли не в два раза меньший, чем ячмень и чем кукуруза. После войны Сталин по этому поводу даже устроил скандал украинскому руководству. Вознесенский, хотя и понимал в этом деле, когда стали ругать его, почему такой небольшой план посева яровой пшеницы на Украине, не привел истинных аргументов, а лишь сослался на «поведение украинцев». И Маленков, ведавший сельским хозяйством, опираясь на мнение заведующего Сельхозотделом ЦК, нападал на Украину. Академику Лысенко, по указанию Сталина, поручили поехать на совещание украинских колхозников, выяснить положение с посевами пшеницы, а затем написать статью об этом в «Правду». И Лысенко, хорошо зная неприемлемость яровой пшеницы для Украины (он ведь работал там!), не пытаясь даже объяснить Сталину, выступил на Украине соответственно и стал посмешищем старых колхозников, прекрасно знавших, как вести сельское хозяйство.
Затем Сталин стал настаивать, чтобы пшеницу засевали и в тех районах, где раньше не засевали вообще, — в Московской, Калининской и других областях, где очень хорошо растет рожь. И хотя после ряда неудач удалось найти сорта пшеницы, которые прижились в Московской области, и сейчас, наверное, трудно утверждать, что пшеница здесь может догнать рожь по урожайности.
Почему-то Сталин считал рожь малоценной культурой, а пшеницу чуть ли не «пупом земли». Я ему доказывал, что рожь не надо вытеснять, что ржаной хлеб привычен русскому народу, что он полезен: не случайно его много потребляют в Германии, Норвегии, Финляндии — Сталина невозможно было разубедить, и дело дошло до того, что нам стало не хватать ржаной муки.
Такое «привилегированное» положение пшеницы сохранилось и на сегодня пшеница в заготовках занимает главное место. И когда надо расходовать зерно на корм скоту и для производства спирта за счет средств государства, отпускается доброкачественная пшеница, в то время как всем известно, что больший выход спирта из кукурузы и ячменя, и себестоимость спирта в этом случае самая низкая. Да и корма для скота из кукурузы и ячменя лучше и дешевле.
* * *
Другой пример. В ходе торговых переговоров Германия добивалась от нас получения мазута. Об этом узнал Сталин, и в его глазах мазут стал каким-то особо дорогим продуктом, каким-то фетишем. Он стал лично наблюдать, на что расходуется мазут у нас. И везде, где можно и нельзя, стали «ради экономии мазута» заменять его углем и торфом. Дело дошло до того, что по требованию Сталина было принято решение (и упорно осуществлялось!) по переводу и перестройке многих котельных электростанций с мазута на уголь, не считаясь с тем, на какие расстояния приходится возить этот уголь. Это было явным абсурдом. И многие не поверят, но было такое решение и даже частично был осуществлен перевод паровозов Северокавказской и Закавказской железных дорог с нефти на завозимый из Донбасса уголь, одна перевозка которого равнялась стоимости самого угля. Дело дошло до того, что уголь возился в нефтяные районы, а потребление мазута было настолько ограничено и запасы были такие, что не хватало емкостей для его хранения. Разубедить же Сталина в несуразности положения было трудно. Сразу после смерти Сталина это все было отменено.
* * *
Еще один пример. До присоединения к Советскому Союзу Западной Украины Сталин не интересовался натуральным газом, но знал, что в Европе его применяют очень широко для бытовых нужд путем производства газа из угля способом коксования. И вот неожиданно Сталин увлекся идеей газификации углей. Откуда-то ему стало известно, что такие опыты как будто делаются в Европе. Он потребовал создать Комитет по газификации при Совмине СССР. Помню, там работал опытным руководителем Максерман, и ныне работающий в газовой промышленности. Тогда появилась новая идея — газификация углей в самих шахтах под землей. Идея заключалась в том, что уголь газифицируется в самих шахтах и в результате добывается газ, а не уголь. Был такой проект ученых. Эти ученые верили в свое дело, но оно двигалось очень туго. Тогда Сталин поручил мне взять под свое наблюдение этот комитет. Я не мог возражать, лишь сказал, что хотя и ничего не понимаю в этом деле, но окажу помощь и поддержку тем, кто им занимается.
Я действительно помогал как мог: выделил шахту под Москвой, был составлен проект, начаты опыты. Какие-то из них были удачными, но все-таки видно было, что в ближайшее время до массового производства дело не дойдет. И тут, когда Западная Украина была присоединена к Украине, из доклада Хрущева Сталин узнал, что там развито производство натурального газа. Конечно, по сравнению с нынешними масштабами, это была мелочь. Хрущев выяснил мнение специалистов и внес предложение заказать по Фонду помощи ООН пострадавшим в войну странам трубы, чтобы газ подавать из Западной Украины в Киев, что и было сделано. Сталин ухватился сразу же за этот газ — он для него тоже стал каким-то новым фетишем. При этом он считал, что это такое дорогое топливо, что его нельзя разбазаривать: разрешил применять его только для отопления квартир. И лишь после длительных многократных споров я добился все-таки от Сталина разрешения давать газ — в виде исключения! — для хлебозаводов, поскольку доставка угля к ним — трудное дело. Он согласился только после того, как я ему показал конкретные цифры. Затем я предложил перевести и сахарные заводы на снабжение газом, так как часто из-за перебоев в доставке угля эти заводы стояли, хотя газопровод проходил рядом. Я предложил перевести и эти сахарные заводы на снабжение газом и в связи с этим изменить баланс потребления газа. Много спорил и уговаривал. Наконец Сталин согласился. Вот, собственно, только эти два отступления допустил Сталин.
Когда же в Саратовской области были открыты месторождения газа, Сталин загорелся и предложил мне заказать в Америке трубы для доставки газа из Саратова прямо в Москву. Так и сделали. Но и в Москве Сталин позволял использовать газ лишь на бытовые нужды и только на некоторых заводах. А ведь нужно было немножко подумать о производстве газа из нефти, и тогда, еще при жизни Сталина, мы имели бы большое количество газа.
* * *
Особый фетишизм Сталин проявлял к золоту — прямой контраст тому, как подходил к нему Ленин. В моменты, когда нужно было покупать оборудование для индустриализации страны, для строительства новых заводов, в особенности тракторных, мы вывозили золото за границу для платежей. Мне казался естественным вывоз золота в каком-то количестве за границу как экспортного товара, поскольку наша страна — добывающая золото. Какой смысл из года в год добывать золото и все класть в кладовые, когда, превратив его в машины, можно двинуть вперед экономику?!
У нас в стране быстро росла добыча золота. Когда наркомом внешней торговли стал Розенгольц, Сталин запретил ему вообще вывозить золото за границу и велел обеспечить такое соотношение экспорта и импорта, иметь настолько активный баланс, чтобы покрывать не только расходы по импорту, но и другие государственные расходы в иностранной валюте и сверх того производить накопление валюты. Это, конечно, привело к резкому сокращению импорта из-за границы промышленного оборудования и сырья, что отрицательно сказалось на нашем развитии.
* * *
Надо отдать справедливость Сталину, что он накануне войны с Германией, в начале 1938 г., принял правильное решение выделить известное количество золота из государственного резерва для покупки дефицитных цветных металлов и натурального каучука, без которых нельзя было воевать. Сообщено мне это было достаточно необычно, один на один на второй день после назначения меня наркомом внешней торговли в ноябре 1938 г.: определенное количество золота выделяется в распоряжение Наркомвнешторга специальным назначением. Цель покупка по известному плану цветных металлов и каучука — в секрете от всех государственных и партийных органов. Об этом не знает ни Госплан, ни другие органы — никто не знает. Наркомфин знает только, что это золото он должен отпускать наркому внешней торговли не спрашивая. Более подробно об этом рассказано выше. Здесь только хочу добавить, что Сталин правильно понимал, что если бы Госплан знал о наличии такого резерва, то расходовал бы его, и мы остались бы без достаточного резерва.
Я был обрадован такому шагу Сталина. Я даже удивился, что он отошел от своего отношения к золоту. Он, конечно, понял, что война — это такая опасность, что фетиши должны отступить на задний план.
* * *
Вот некоторые особенности поведения Сталина и решения экономических вопросов, связанных с войной и в годы войны.
Вновь подчеркиваю, что Сталин многое понимал в вопросах экономической политики. Он большую роль сыграл в деле индустриализации страны, в деле создания военной промышленности. Конечно, главная заслуга здесь до 1937 г. принадлежит Серго Орджоникидзе, который всецело отдался этому делу, начатому еще Дзержинским и Куйбышевым. Серго особо заботился об оборонных заводах. А так как многие такие заводы были в Ленинграде, он опирался на безграничную помощь и поддержку Кирова, который следил за каждым военным заводом, и Серго за них был спокоен.
Сталин как секретарь ЦК партии поддерживал всемерно это дело, иногда в борьбе с Молотовым как Председателем Совнаркома, который экономил деньги. Поэтому заслуга Сталина в индустриализации страны большая.
* * *
В последние годы Сталин нередко проявлял капризное упрямство, порожденное, видимо, его безграничной властью, ставил в тупик неожиданностью своих решений и поступков.
Как-то в 1947 г. он выдвинул предложение, чтобы каждый из нас подготовил из среды своих работников пять-шесть человек, которые могли бы заменить нас самих, когда ЦК сочтет нужным это сделать. Он это настойчиво повторял несколько раз.
Высказавшись в поддержку такой идеи, я заметил, что, зная своих работников, не могу подготовить пять-шесть человек с гарантией, что они смогут меня заменить, хотя два-три работника у меня есть на примете. Если с ними хорошо поработать года два, то они могут стать достойными кандидатами для замены. В ответ на вопрос Сталина, кто они, я назвал трех своих заместителей: Крутикова, Меньшикова и Кумыкина, и конкретно рассказал, на что они способны, какие имеют достоинства и недостатки. В последующем Сталин часто спрашивал о них. Отвечая ему, я всякий раз подчеркивал способности Крутикова.
Через год Сталин неожиданно предложил Крутикова на должность заместителя Председателя Совета Министров СССР с возложением на него обязанностей, связанных с внутренней торговлей. Я резко возражал, убеждая Сталина, что он не готов для такой ответственной должности, что для этого надо ему еще поработать министром, но даже министром внешней торговли он сегодня не может еще стать, но через год это может быть реально.
«Как так? — спросил Сталин. — Ты же его очень хорошо рекомендовал!» (Он, видимо, решил, что я не хочу расставаться с таким работником.) — «Да, имея в виду, что он хорошо работает моим заместителем, и я вижу для него в перспективе должность министра. Но я же не говорил, что он может стать твоим заместителем, к тому же прямо сейчас».
Сталин со свойственным ему упрямством, несмотря на мои настойчивые возражения, в июле 1948 г. все же провел назначение Крутикова, даже не побеседовав с ним. Через семь месяцев он был вынужден освободить его с переводом на меньшую работу.
* * *
В 1949 г., в феврале месяце, после моего возвращения из Китая, когда я 9 дней был в партизанском штабе Мао Цзэдуна, в горах, вел ежедневные переговоры с утра до поздней ночи в присутствии Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чжоу Эньлая, Жень Биши, Дэн Сяопина, я вылетел во Владивосток. Вдруг звонок из Москвы по ВЧ на квартиру начальника Управления МГБ Гвишиани (Сталин сам определил в Москве, чтобы в Хабаровске я ночевал на квартире Гоглидзе, а во Владивостоке — у Гвишиани, как места, наиболее надежных с точки зрения безопасности: оба были руководителями госбезопасности).
Позвонил Поскребышев: «Здесь сидят все члены Политбюро, передают вам привет, поздравляют с успешно проведенной работой в Китае. (Члены Политбюро собирались каждый день, читали мои шифровки, и Сталин посылал мне каждый раз соответствующие указания.) Все ждут, когда вы приедете».
Я сказал, что настолько устал, что решил ехать в Москву из Владивостока поездом: хотелось выспаться, немножко почитать литературу, так как во время поездки лишен был этой возможности. В ответ на это Поскребышев передал, что Сталин и члены Политбюро считают, что такая долгая задержка в пути нежелательна, и предлагают мне вылететь завтра на самолете. Я был очень огорчен этим решением. Но надо было его выполнять. Сказал только, что мною уже намечено в Хабаровске краевое совещание руководящих работников рыбной промышленности Тихоокеанского бассейна, которое нельзя отменить, теперь уже поздно. Поэтому послезавтра проведу совещание в Хабаровске и на следующий день вылечу в Москву.
Прибыл в Москву. Сталин, видимо, был доволен моей поездкой, много расспрашивал. Я рассказывал о встречах, о личных впечатлениях, об обстановке в Китае и т.д. После беседы Сталин несколько неожиданно, без всякой связи с темой разговора говорит: «Не думаешь ли ты, что настало время, когда тебя можно освободить от работы во Внешторге?» Когда я согласился, он спросил: «Кого ты предложишь вместо себя?» Я назвал кандидатуру Меньшикова. Это было принято, и 4 марта 1949 г. Меньшиков был назначен министром.
Это неожиданное предложение Сталина я принял без всякой обиды, поскольку уже более 10 лет был наркомом и министром, аппарат Внешторга работал хорошо, и работа без меня могла пойти без ущерба для дела. Наблюдение и руководство вопросами внешней торговли, по предложению Сталина, все же было оставлено за мной как заместителем Председателя Совета Министров СССР.
Но Меньшиков недолго пробыл министром.
В конце лета 1951 г. вместе с женой мы отдыхали в Сухуми. Раз, иногда два раза в неделю я заезжал к Сталину, который отдыхал в Новом Афоне. В это же время в Мюссерах отдыхал Маленков, а в Сочи — Булганин.
Как-то сидели у Сталина за ужином все названные товарищи. Были еще Поскребышев и Власик — начальник охраны. Как обычно, шла беседа на разные темы. Проходила она в спокойном, уравновешенном тоне, не так, как иногда остро, неприятно. Все шло хорошо. Около 4 часов утра подали на стол бананы.
Надо сказать, что Сталин очень любил бананы. После войны он предложил импортировать бананы для некоторых больших городов Советского Союза. Эта задача была возложена на меня как министра внешней торговли. Хотя были большие трудности по доставке небольших партий бананов, особенно в зимних условиях, в Москву, Ленинград, Киев и другие города, но доставка была налажена.
За границей использовались соответствующие иностранные компании, особенно шведские и австрийские. Все шло удачно, не было случаев порчи бананов или каких-либо других недоразумений с их доставкой и хранением. Бананы, поступавшие к нам по импорту, отправлялись Сталину. Он к ним претензий не предъявлял. У меня в доме бананов не бывало.
На стол подали крупные бананы, на вид хорошие, но зеленые, видимо, не очень спелые. Сталин взял банан, попробовал и говорит мне: «Попробуй бананы, скажи свое мнение о их качестве, нравятся они тебе или нет?» Я взял банан, попробовал. На вкус он напоминал картошку, для употребления совершенно не годился.
«Почему так?» — спрашивает он. Я ответил: «Трудно сказать, почему. Причин здесь может быть много. Возможно, поступили в торговую сеть прежде, чем созрели окончательно, возможно, хранились неправильно или был нарушен режим перевозки. Скорее всего, неправильно была организована доставка бананов. Отправлять через море их нужно недозрелыми, но все же не совсем незрелыми».
Сталин тогда спрашивает: «Почему мог иметь место такой случай? Ведь сколько лет мы получали бананы, никогда этого не было». Я ответил, что в практической работе такой случай может быть из-за недостаточного контроля. Этот случай нужно выяснить и в дальнейшем устранить причины его повторения. «Такое объяснение меня не убеждает, — сказал Сталин. — Почему же, когда ты был министром, таких случаев не было, а когда министром стал Меньшиков, это случилось? Значит, министр работает плохо». Я стал защищать Меньшикова: «Товарищ Сталин, министр не может нести ответственность за каждую отдельную операцию. Для этого дела у него подобраны соответствующие люди, знающие свое дело. Министр может быть в курсе крупных операций и отвечать за них. В данном же случае нельзя Меньшикова обвинять. Это может с каждым случиться».
Это Сталина опять не убедило. «Нет, — говорит он, — ты не прав. Меньшиков отвечает за все». Я тогда сказал: «Давайте лучше хорошо проверим это дело, найдем виновных». Я знал, что без поиска виновных он не успокоится. «Хорошо, согласился Сталин. — Организуй проверку и сообщи результаты». Разговор проходил в нормальном тоне, спокойно.
Мы разошлись. В 5 часов утра я был в Сухуми. Конечно, не было смысла в это время звонить в Москву и давать указание о проверке. Считая, что это дело не экстренное, я решил поспать, а днем позвонить. Проснувшись около 12 часов, позвонил Власову в Москву (он был моим заместителем в Бюро Совмина по торговле и пищевой промышленности) и поручил ему разобраться с этим фактом. Сказал, что прошу провести срочную объективную проверку всего дела, выяснить причины недоброкачественности бананов и, установив виновников, наметить меры к недопущению повторения таких случаев. Власов мне и говорит: «Анастас Иванович, я уже знаю об этом деле. Мне звонил Берия, как только я пришел на работу. Я уже вызвал к себе работников Минвнешторга, которые имеют отношение к этому делу. Выясним все обстоятельства дела, разберемся».
Я был удивлен, почему Берия вмешался в это дело, откуда он знает об этом. Решил позвонить самому Берия: «В чем дело, почему ты занимаешься проверкой «бананового дела»?» Берия отвечает: «Я не хочу этим делом заниматься, поскольку никакого отношения к нему не имею, но Сталин мне позвонил около 6 часов утра и поручил строго-настрого расследовать это дело. Я, конечно, перепоручил его твоему заместителю, которому проще ознакомиться с вопросом». Я рассказал, что Сталин мне поручил проверку этого дела. «Но если он перепоручил его тебе, то ты им и занимайся и сообщи Сталину результаты проверки. Я заниматься этим делом больше не буду». Действительно, я не стал звонить Сталину и не спрашивал Власова о результатах проверки — решил отстраниться от этого дела совсем.
Через несколько дней у меня и у Маленкова кончался отпуск и мы должны были возвратиться в Москву. Я позвонил Маленкову, сказал, что собираюсь к Сталину, не хочет ли он вместе со мной заехать к нему. Он согласился.
Было около 2 часов дня. Сталин в это время пил чай. Я тоже сел за стол. Сталин стал расхаживать по комнате с трубкой во рту. Я не стал ему напоминать о «банановом деле», а он и не расспрашивал меня. Потом неожиданно, обращаясь ко мне, сказал: «Видимо, выдвижение Меньшикова на должность министра было ошибкой — он не соответствует своему назначению, работает плохо. Импорт бананов — небольшое дело, а он его организовал плохо, и это показывает истинное лицо руководителя министерства. Лучше выдвинуть на должность министра Кумыкина. Приедешь в Москву, подготовишь проект соответствующего решения, поговоришь с Кумыкиным и Меньшиковым и пришлешь мне этот проект». Я запротестовал: «Товарищ Сталин, я думаю, что это пользы делу не даст, а скорее вред принесет. Я очень хорошо знаю их обоих по долгой совместной работе. Особенно долго, почти 25 лет, я работал с Кумыкиным. Я его высоко ценю как работника, уважаю как человека. Это — принципиальный, политически подготовленный, достойный руководитель. Он силен в экономических, торговых переговорах. Очень себя хорошо держит, знает правила международных отношений. В этом он силен, пожалуй, сильнее всех в министерстве. Но по части руководства оперативной стороной дела внешней торговли он слабее — у него нет такой подготовки. Он юрист по образованию. Главное, в своей работе он не касался оперативных дел: не возглавлял торговых объединений, контор, не заключал контрактов и т.д. С другой стороны, Меньшиков, будучи несколько слабее Кумыкина в части политической подготовки, компетентнее в области торговых договоров. Он сильнее Кумыкина в торговых операциях, потому что окончил Институт внешней торговли, имеет специальное образование, работал в торгпредстве в Англии, возглавлял крупное объединение по торговле лесом «Экспортлес», работал в ЮНРРА по оказанию помощи народам после войны — успешно работал на всех этих местах. В Министерстве внешней торговли он хорошо работал моим заместителем. Как Кумыкин, так и Меньшиков пользуются большим авторитетом в министерстве. Наконец, Меньшиков хорошо знает английский язык и не нуждается в переводчиках при деловых встречах. Кумыкин же знает французский язык, и не так хорошо, как Меньшиков английский. Кроме того, — добавил я, — сейчас они друг друга дополняют, Меньшиков как министр, Кумыкин как его первый заместитель. Неудобно менять их местами, делать Меньшикова заместителем, а Кумыкина министром. Не поймут этого. Я считаю, что ничего делать не надо».
Сталина не удовлетворили мои доводы. Он стал угрюмым, но меня не прерывал. Потом сказал: «Ты не прав, просто упорствуешь». Я говорю: «Нет, товарищ Сталин, это соответствует действительности». Тогда Сталин обратился к Маленкову: «Вы приедете в Москву, подготовьте такой проект решения — назначить Кумыкина министром внешней торговли с освобождением от этой должности Меньшикова».
Я не стал больше вмешиваться в это дело. Маленков тут же взял бумажку, записал это поручение Сталина (хотя в этом не было никакого смысла, но Маленков любил записывать). Прилетев в Москву, он сразу же мне позвонил: «Вызови Меньшикова и Кумыкина, поговори с ними и подготовь проект решения для товарища Сталина». Я удивился: «Зачем? Сталин хотел это дело поручить мне, но, видя, что я не согласен с ним, поручил его тебе. Ты и выполняй его указание. А мне нечего в это дело впутываться». Маленков стал уговаривать, что я лучше знаю этих товарищей и само дело и найду с ними общий язык.
Нехотя я согласился. Сначала я вызвал Кумыкина: «ЦК партии недоволен работой товарища Меньшикова, считает, что он не справляется с обязанностями министра. ЦК высокого мнения о ваших способностях, опыте. Я имею поручение ЦК передать вам предложение о том, чтобы вы стали министром внешней торговли. Я считаю, что вы с этим делом справитесь и возражений с вашей стороны не будет».
Кумыкин побледнел, изменился в лице. Я был просто поражен этим. Почему такое действие произвело мое предложение? Дрожащим голосом он ответил: «Анастас Иванович, не делайте этого, помогите мне избавиться от этого назначения, я не могу быть министром, не хочу, я хочу работать так, как сейчас работаю». У него на глазах даже слезы появились. Я стал его убеждать: «Не понимаю, почему вы возражаете? Сталин этого хочет, он полностью доверяет вам, высокого мнения о вас. Он предложил вашу кандидатуру вместо Меньшикова. Вы имеете достаточный опыт, большие знания. Кроме того, — сказал я, — в министерстве вы пользуетесь большим влиянием, да и я вам помогу».
Он еще больше разволновался, просто заплакал: «Не делайте этого, не губите меня». Я стал его успокаивать, сказал, что поддержку ЦК он имеет, я ведаю внешней торговлей и обещаю свою поддержку и помощью, и советом, и делом. В общем, полчаса потребовалось, чтобы успокоить его. В конце концов договорились, что он не будет возражать.
Потом я вызвал Меньшикова. Сказал ему следующее: «Я знаю, что вы стараетесь сделать все возможное, чтобы руководить министерством хорошо. Но все-таки в ЦК сложилось мнение, что вы не вполне справляетесь с обязанностями министра. В особенности это мнение усилилось в связи с фактом недоброкачественности бананов. По всему видно, что вы не крепко руководите министерством, передоверяете оперативную работу председателям объединений, не контролируете, не вникаете в детали. Ввиду этого в ЦК есть мнение, чтобы вас освободить от этого поста, а министром сделать Кумыкина. Я думаю, вы правильно поймете это и воспримете как коммунист. Потом поговорим о вашей дальнейшей работе. Работа будет вам дана в соответствии с вашими способностями. Я прошу пока это не передавать никому, пока не получите выписку из решения ЦК». Меньшиков — выдержанный, спокойный человек, понял все прекрасно, принял как должное и согласился.
Я подготовил проект решения, показал Маленкову — тот замечаний не сделал. Послали на юг Сталину, который и подписал сразу же постановление. Так с 6 ноября 1951 г. Кумыкин стал министром внешней торговли. Он пробыл в этой должности 1 год и 4 месяца, до слияния министерств внешней и внутренней торговли и назначения меня опять министром. (Слияние это было ошибочной мерой, принятой после смерти Сталина в ходе «волны слияний», предпринятой Маленковым, Берия и Хрущевым.) А дать Меньшикову ответственную работу Сталин не разрешил. Боясь за судьбу Меньшикова, ибо Берия мог опять получить «поручение» Сталина, я отправил его начальником таможни на Амур, на китайскую границу. После смерти Сталина он стал послом в Индии, затем в США.
* * *
Сталин очень любил смотреть кинокартины, особенно трофейные. Их тогда было много. Как-то Большаков, бывший тогда министром кинематографии, предложил показать картину английского производства. Название ее не помню, но сюжет запомнил хорошо. В этой картине один моряк — полубандит-полупатриот, преданный королеве, берется организовать поход в Индию и другие страны, обещая привезти для королевы золото, алмазы. И вот он усиленно набирает команду таких же бандитов. Среди них было 9 или 10 близких соратников, с которыми он совершил этот поход и возвратился с богатством в Лондон. Но он не захотел делить славу со своими соратниками и решил с ними расправиться. У него в несгораемом шкафу стояли фигурки всех его сотоварищей. И если ему удавалось уничтожить кого-то из них, он доставал соответствующую фигурку и выбрасывал ее. Так он по очереди расправился со всеми своими соратниками и все фигурки выбросил.
Это была ужасная картина! Такое поведение даже в бандитском мире, наверное, считалось бы аморальным. В этом мире ведь своя мораль есть товарища своего не выдавай и т.д. А здесь отсутствие даже бандитской морали, не говоря уже о человеческой. А Сталин восхищался: «Молодец, как он здорово это сделал!» Эту картину он три или четыре раза смотрел. На второй или третий раз после показа этой картины, когда нас Сталин вызвал к себе, я стал говорить, что это бесчеловечная картина и т.д., конечно, не в прямой полемике со Сталиным, а с другими. Мы говорили между собой и удивлялись, как Сталин может восхищаться таким фильмом. По существу же, здесь он находил некоторое оправдание тому, что он делал сам в 1937-1938 гг. — так я, конечно, думаю. И это у меня вызывало еще большее возмущение.
Видимо, этим же объясняется восхищение Сталина личностью Ивана Грозного, особенно его деятельностью, когда он в интересах создания единого русского государства убивал бояр самым зверским методом, не считаясь ни с какой моралью, за что русские историки еще при царском режиме критически относились к нему. Сталин же говорил, что Иван Грозный еще мало убил бояр, что их надо было всех убить, тогда он смог бы раньше создать действительно единое крепкое русское государство. Он оправдывал и многоженство Ивана IV: у жен-де было большое приданое, которое Иван Грозный направлял на создание армии. Как-то Сталин сказал, что Иван Грозный был женат в действительности не на черкешенке, а на грузинке, потому что в старой России грузинок называли черкешенками.
Видимо, этими же мотивами можно объяснить оценку Сталиным некоторых действий Гитлера, хотя это было еще до развертывания репрессий. Так, когда Гитлер, стремясь укрепить свою власть, послал своих соратников в казармы штурмовиков и учинил там расправу на месте без суда и следствия над верхушкой левых штурмовиков — Ремом и другими, это поразительное зверство вызвало всеобщее возмущение. И я был поражен, когда Сталин, возвращаясь несколько раз к этому факту, восхищался смелостью, упорством Гитлера, который пошел на такую меру, чтобы укрепить свою власть. «Вот молодец, вот здорово, — говорил Сталин. — Это надо уметь!» На меня это произвело ужасное впечатление. Это же бандитская шайка, которая по-бандитски друг с другом расправляется! Чем же она может вызвать восхищение?
* * *
В 1948 г., когда Сталин отдыхал в Мюссерах, я приехал к нему вместе с Молотовым. Был и Поскребышев, который редко сидел за обеденным столом, но в этот раз он присутствовал. Видимо, это присутствие было заранее согласовано со Сталиным и сделано с определенной целью, как я потом догадался. Происходила обычная для такого случая нормальная беседа. Я сидел рядом со Сталиным, но за углом стола. Поскребышев сидел на другой стороне стола, с краю, Молотов напротив меня.
Вдруг в середине ужина Поскребышев встал с места и говорит: «Товарищ Сталин, пока вы отдыхаете здесь на юге, Молотов и Микоян в Москве подготовили заговор против вас».
Это было настолько неожиданно, что с криком: «Ах ты, мерзавец!» — я схватил свой стул и замахнулся на него. Сталин остановил меня за руку и сказал: «Зачем ты так кричишь, ты же у меня в гостях». Я возмутился: «Невозможно же слушать подобное, ничего такого не было и не могло быть!» Еле успокоившись, сел на место. Все были наэлектризованы. Молотов побелел, как бумага, но, не сказав ни слова, сидел как статуя. А Сталин продолжал говорить спокойно, без возмущения: «Раз так — не обращай на него внимания». Видимо, все это было заранее обговорено между Сталиным и Поскребышевым. До этого подобных случаев не было.
Сталин постепенно перевел разговор на другую тему. Но этот инцидент произвел на нас такое впечатление, что посещение наше оказалось короче обычного, и мы вскоре уехали.
Видимо, у Сталина зародились какие-то подозрения, и я допускаю, что в возникновении их содействовал Поскребышев. И вовсе не потому, что он имел что-то против Молотова и меня. Обычно один на один со мной он всегда объяснялся мне в любви, говорил, что высоко ценит меня, противопоставлял другим, например Молотову, в честности и корректности и пр. Просто он это сделал, выполняя поручение Сталина. Желая понравиться Сталину и укрепить свое положение, Поскребышев мог до этого, наверное, рассказать Сталину, что я часто захожу в кабинет Молотова, и это соответствовало действительности. Поскребышев, видимо, вел наблюдение, кто и куда ходит.
Мои частые посещения кабинета Молотова вызывались тем, что, когда Сталин поручал какое-либо дело Молотову (а это обычно касалось вопросов внешней политики), Молотов всегда старался, чтобы не ему одному поручали, а еще двум-трем товарищам. А так как я занимался многие годы вопросами внешней экономики, то, естественно, доля этих поручений падала на меня. В отличие от Молотова я не любил делить с кем-то ответственность, поэтому часто возражал против совместных поручений. Однажды, когда тот, получив поручение Сталина, попросил его в моем присутствии, чтобы и я принял в нем участие, я возмутился: «Что я, хвост что ли, твой?» Но не всегда удавалось освободиться. Отношения с Молотовым у меня были неплохие, но и не близкие. Поручения эти обычно давались Сталиным устно. Поскребышев мог даже о них и не знать.
Подозревать как Молотова, так и меня в кознях против Сталина было бессмысленно. Хотя отдельные критические замечания в его адрес по некоторым вопросам я и высказывал в беседах не только с ним, но и с другими. Молотов меня не выдавал, но всегда вел себя как преданный сторонник Сталина. Так что, конечно, такого рода обвинения были абсолютно беспочвенны. Видимо, Сталин через Поскребышева хотел учинить проверку, как мы будем реагировать на это обвинение.
Но очень возможно, что эта странная идея о совместной нашей с Молотовым подготовке «заговора против Сталина» у него сохранялась после этого случая все время, и в конце 1952 г. он решил избавиться от такой опасности.
Спокойным со Сталиным не мог чувствовать себя никто. Как-то после ареста врачей, когда действия Сталина стали принимать явно антисемитский характер, Каганович сказал мне, что ужасно плохо себя чувствует: Сталин предложил ему вместе с интеллигентами и специалистами еврейской национальности написать и опубликовать в газетах групповое заявление с разоблачением сионизма, отмежевавшись от него. «Мне больно потому, — говорил Каганович, — что я по совести всегда боролся с сионизмом, а теперь я должен от него «отмежеваться»! Это было за месяц или полтора до смерти Сталина — готовилось «добровольно-принудительное» выселение евреев из Москвы.
Смерть Сталина помешала исполнению этого дела.
Глава 43. О мемуарной литературе
Я предъявляю к книгам историческим и мемуарным, в том числе своим собственным, определенные требования. Я — сторонник объективности в описании исторических фактов. Автор не должен так отбирать факты, чтобы подогнать их под свою личную концепцию. А ведь есть люди — я много встречал таких среди моих редакторов в Политиздате и в некоторых журналах, — которые, возражая против приведения в книге политически неприятных фактов, скажем, фактов о наших неудачах, попыток вскрыть их причины, обвиняют авторов как раз в субъективизме, что неправильно и несправедливо. Объективный подход к историческим фактам требует не замалчивать те факты, которые кажутся «невыгодными», не преувеличивать «выгодные» факты, тем более не искажать их.
Но, естественно, каждый мемуарист, а тем более историк, приводя объективные факты, может — если не должен — давать свое толкование им и свою оценку. Она может быть правильной, может быть и неправильной, здесь все зависит от подготовки и таланта автора.
К сожалению, упомянутые вредные явления в советской исторической науке часто повторяются в той или иной степени, иногда просто до тошноты. У образованных и знающих людей такие явления вызывают возмущение. Читатель проникается недоверием к трудам с такого рода фальсификацией. Это — один из источников скепсиса и недоверия к официальным учебным изданиям по истории партии, подслащенным, лакированным, и к мемуарам в этом духе, которые вызывают у нашей молодежи законную неудовлетворенность.
Наш агитпроп тщательно оберегает население от буржуазной политической литературы, боясь ее воздействия на умы людей. А ведь мы, помню, в молодости читали буржуазную литературу, антимарксистскую наряду с марксистской. И, сопоставляя прочитанное, мы лишь укреплялись в нашей вере в марксизм, в его правильном понимании. В 20-е гг. вплоть до 30-х гг., мы в губкомах получали и читали такой враждебный и «опасный» документ, как «Социалистический вестник», издававшийся в Берлине меньшевиками под руководством опытного меньшевика, врага Советской власти Мартова. Мы читали и белогвардейскую литературу, получая ее через ЦК. И это, я по себе чувствую, не поколебало веру и преданность нашему делу. Ведь часто бывает даже полезно посмотреть на наши дела чужими глазами.
Я всю жизнь продолжаю читать антисоветскую литературу, и не без пользы, если есть там аргументы и факты.
В отношении умалчивания наших неудач в Великой Отечественной войне, хотя она и была победоносно завершена, хотя в ее горниле были проверены патриотические чувства и настроения советских людей, я хочу сказать несколько слов.
Мы можем и должны гордиться и нашим народом, и нашей партией за победу в Великой Отечественной войне. Но я не могу пройти спокойно мимо того, как многие военные мемуаристы пишут только о последних сражениях, главным образом второго периода войны, после перелома в соотношении сил между нами и Германией, и либо замалчивают полностью, либо мельком касаются серьезных поражений, которые мы терпели и на которых научились воевать. Ворошилов и его окружение в Наркомате обороны не учили армию тактике отступления. Это — одна из причин, почему создавалась паника, почему так много потерь мы имели в начале войны и так долго мы отступали.
Отступление на какое-то расстояние было неизбежным. Но чтобы Гитлер со своими полчищами мог дойти до Волги, закупорить Ленинград, добраться до Кавказа — нам никому и в голову не приходило!
Когда читаешь военные мемуары, то стараешься найти толковый ответ на этот вопрос. Но он закрыт от читающих, включая слушателей военных училищ и академий, за семью печатями. Это — опасное явление для нашей сегодняшней армии на случай большой войны или локальных войн. Последние вообще требуют специальной подготовки, типов вооружения и тактики.
Все это я пишу для того, чтобы вскрыть некоторые недостатки в военных мемуарах по истории Великой Отечественной войны. Хотя я и не считаю себя знатоком военного дела, не изучал его специально, а когда-то был лишь рядовым солдатом, потом комиссаром в условиях военных действий. С 1926 г. я был членом Совета Труда и Обороны, во время Великой Отечественной войны был членом Государственного Комитета Обороны.
Некоторую уверенность в этой критике мне придает тот факт, что я помню, как мы и в ГКО и в Ставке Верховного Главнокомандования обсуждали все — с участием военных и без них. Мы каждый день, а если днем не могли, то ночью, собирались у Сталина, проводили обмен мнениями. Сталин говорил по телефону с командующими фронтов, мы разбирали поступающие сведения из Генштаба, обсуждали, держали связь с фронтами. Словом, я не буду останавливаться на событиях положительных, победных, много раз описанных. Большинство из них описаны правильно, правда, со многими преувеличениями. Но главный дефект таких описаний тот, что наши неудачи или не приведены вовсе или о них сказано вполголоса, мимоходом, без попыток анализа. И вообще, в военных мемуарах последних лет я не обнаружил описания каких-либо ошибок Верховного Главнокомандования, Ставки. Хотя без них не могло быть. И сам Сталин это понимал, и все мы понимали. Но некоторые возникали из-за характера Сталина и всех отрицательных его сторон, которые проявились и в ходе Отечественной войны, хотя и в меньшей степени, чем до и после нее.
В этом отношении книга воспоминаний Г.К.Жукова наиболее интересна, и я считаю ее полезной.
Но все же я нашел ее однобокой, а в ряде мест даже обнаружил элементы фальши. Есть некоторое преувеличение роли самого Жукова. Я не заметил ни одного его действия, к которому он относился бы критически. Хотя понятно, что без ошибок людей не бывает, тем более в войну, где действия велись со многими неизвестными в отношении очень сильного противника.
Здесь я хочу ограничиться только постановкой вопросов, иногда без всякого анализа, иногда поверхностно. Я не мог проверить на основе документов или по собственным записям, не ошибаюсь ли я, не субъективно ли мое мнение. Кроме того, зная на собственном опыте наших редакторов, воспитанных агитпропом, я не могу судить, где работа этих редакторов, а где перо самого Жукова.
Замечание первое. Почему мы понесли огромные потери в первые месяцы войны и почему через три месяца после начала войны немцы оказались под Москвой и Ленинградом?
В 1939 г., как известно, мы вернули Украине и Белоруссии их исконные земли. Границы отодвинулись далеко на запад, что с точки зрения обороны имело большое положительное значение. Тогда было принято правильное решение начать строительство новых оборонительных сооружений взамен старых по новой западной границе. Детального хода строительства оборонительного рубежа на старой границе, создававшегося с учетом линий «Мажино» и «Зигфрид», я не знал, думал, что строительство закончено. (Мы ведь знали о линии «Мажино», потом стало известно, что Гитлер строит линию «Зигфрид».) После того как немцы прошли всю Белоруссию, мы стали допытываться у военных, а где же эта старая оборонительная линия, почему не сопротивлялись на ней, почему не могли остановить наступление немцев? Что на новых оборонительных рубежах этого еще нельзя было сделать, я понимал. Поскольку Сталин не ждал в ближайшее время войны, то оборонительные рубежи строились чрезвычайно медленно. Будь сооружены обе линии вовремя, и новая и старая, возможно немцы дальше старой границы и не прошли бы. А если бы и прошли, то не было бы таких больших жертв с нашей стороны, армия была бы сохранена, мы могли бы спокойно отмобилизоваться, и может быть, немецкое наступление на Белоруссию не было бы таким роковым.
Что же оказалось на деле? Не все оборонительные сооружения по старой границе были достроены, а с началом строительства оборонительной линии на новой границе работы на старой линии и вовсе прекратились.
Однако значительное количество их уже было построено. И вполне они могли служить хорошей преградой немцам. Значит, ошибка была первая в том, что давно намеченные оборонительные рубежи были заброшены строителями, хотя могли быть второй линией обороны. И немного средств требовалось для завершения этого строительства.
Оказалось и другое. Даже те оборонительные сооружения, которые были готовы, не были укомплектованы войсками, не было в достатке пулеметов и пушек, которых тогда в стране у нас хватало. Словом, эти сооружения были в состоянии заброшенности.
Это — грубейшая ошибка в первую очередь, конечно, командования Белорусского военного округа. Но беда усугубилась тем, что опытные, знавшие дело командующие были ликвидированы (конкретно, командующий Белорусским военным округом Уборевич), а у новых не хватило кругозора, опыта и знаний, чтобы это понять. Ведь факт, что герой испанской войны, комбриг танковых войск Павлов, человек, несомненно, храбрый, преданный, знающий военное дело, не смог добиться достройки старой оборонительной линии, или, во всяком случае, обеспечить вооружением тех частей линии, которые были закончены строительством.
Таким образом, мы вложили огромные деньги в две оборонительные линии по западу, с севера на юг, и ни одна из них не была использована.
Почему Жуков, командовавший Киевским военным округом, не только не подумал об этом в свое время, но более того — умолчал об этом факте, не попытался проанализировать его и дать ему оценку?
А разве это было бы вредно для чести нашего народа? Нет. Наоборот. Это объяснило бы, почему наши войска не могли оказать серьезного сопротивления немецкому наступлению в первые месяцы войны на западных территориях. Войска не были виноваты. Виноваты были и лидер государства, и нарком обороны, и командующие округами. Известно, что наш солдат храбрый и хорошо воюет. Но, как известно из военной истории, без средств для организованного сопротивления войскa бывают подвержены панике.
Поэтому паническое отступление в первые месяцы войны, массовые окружения нельзя ставить в упрек солдатам, младшему командному составу, да, возможно, и среднему. Формально ответственность несет высший командный состав. Но если по существу разобраться, то их тоже трудно обвинять: ведь они попали на такие высокие должности не по собственному желанию. Их выдвинул Сталин или нарком обороны вместо старых, репрессированных кадров.
Через месяц или два после начала войны, когда Белоруссия была так позорно потеряна и вместе с ней — огромное количество наших отборных войск, попавших в окружение, воевавших до последнего патрона, павших смертью храбрых или сотнями тысяч попавших в плен, Сталин предложил предать военному трибуналу командующего этими войсками Павлова.
Ничего чрезмерно компрометирующего против Павлова не было. Абсолютно чистый, честный, лично обаятельный человек, безупречной храбрости, преданный, умевший руководить танковыми войсками в пределах бригады, но не имевший другого опыта высшего командования. А он был сразу назначен командующим всеми войсками Белорусского округа. Его можно обвинить только в том, что он категорически не отказался от такого выдвижения.
Но на него возложили ответственность за огромные потери войск и провал фронта. Формально можно было его разжаловать, и только, и Павлов просил дать ему возможность оправдать себя в боях в роли командира танковой бригады. Так и надо было, но Сталин настоял на его расстреле.
Известно, какое отрицательное отношение у меня было к репрессивным мерам, которые он применял. Но должен признаться, что в тот момент, хотя лично против Павлова я ничего не имел и было жалко его терять, мне казалось, что Сталин в чем-то прав. Это была жестокая мера, но она казалась оправданной обстановкой. Надо сказать, что за всю войну это был первый и единственный случай расстрела командующего. Но было позорно то, что после победоносного ведения войны Сталин добился расстрела командующего Сталинградским фронтом Гордова, Кулика и некоторых других.
Замечание второе. Еще одной преступной ошибкой Сталина кроме уничтожения командных кадров армии, партии и государства в канун войны было то, что он вбил себе в голову, что Гитлер в ближайшие год-два не нападет на нас, хотя и он и мы знали, что война с Германией, победившей почти всю Европу, неизбежна. Поэтому оборонные мероприятия он растягивал, а не ускорял. Если в течение года-полутора после начала войны при эвакуации основных центров производства вооружения из Ленинграда, украинских городов, особенно Харькова, а также из Тулы, Москвы нам удалось добиться хороших результатов, а через год, к моменту боев у Курской дуги, явного превосходства в производстве самолетов, танков, противотанковых средств, боеприпасов, возникает мысль: а разве мы не могли это сделать раньше, начиная с осени 1939 г., когда началась уже европейская война и почти два года было в нашем распоряжении до начала войны? Мы могли бы в более благоприятных условиях осуществить эти меры с меньшими издержками и с большим эффектом, имея больше времени, больше ресурсов. Могли бы, если бы Сталин понимал, что война близка.
Но мы продолжали гражданскую жизнь, как будто война далеко, а надо было это сделать в ущерб гражданской промышленности, в данном случае машиностроению, паровозостроению, комбайностроению, как это было сделано потом, наспех, экспромтом в начале войны, опираясь на наших талантливых наркомов и научные кадры.
Сталин же заботился о том, чтобы ничем не дразнить немцев, думая, что этим можно оттянуть войну, в то время когда она уже стучалась в дверь. Более того, он считал, что, пока Гитлер Англию не захватит, он не пойдет на нас, что немцы убедились в правильности теории Бисмарка, что Германия никогда не победит в войне, если одновременно будет воевать на два фронта.
Но времена Бисмарка прошли. Вся Западная Европа была под властью Гитлера, а на западе сопротивлялась только островная Англия, которая не способна была нанести удар по Германии на континенте. Опыт показал, что, несмотря на длительные ожесточенные сражения Советской Армии, обескровившие вермахт, англичане вместе с американцами, канадцами в течение почти четырех лет с начала войны с немцами не осмеливались высадиться во Франции. Более того, под Арденнами они потерпели серьезное поражение, от последствий которого мы спасли их ценой больших жертв, начав — по просьбе Черчилля и Рузвельта преждевременное всеобщее наступление против немцев по всему фронту.
Сталин пытался осенью 1940 г. в дополнение к Договору о ненападении добиться соглашения с Германией о сферах влияния, полагая, что гитлеровская шайка недолго будет господствовать в Германии.
Косвенно это можно видеть из воспоминаний Бережкова о поездке Молотова в Берлин осенью 1940 г. для переговоров. Бережков когда-то работал в моем аппарате во Внешторге. По просьбе Молотова я ему уступил его.
В частности, помнится, в переговорах речь шла о том, чтобы Гитлер не нападал на Болгарию, Дарданеллы и, кажется, Румынию, поскольку они должны быть «зоной советского влияния».
Бережков не дает оценки хода этих переговоров. Он хвалит Молотова за то, как тот давал отпор наскокам Риббентропа и твердо держался нашей линии. Но любой на этом месте вел бы такую же политику. А ведь весь смысл переговоров, о которых Молотов, вернувшись, рассказал, заключался совсем в другом. (Я сейчас диктую по памяти.)
Молотов спрашивает Риббентропа: «Вы воюете с Западом. Мы понимаем это. Но нам непонятно, почему в это же время вы заключили военное соглашение с Румынией и сосредоточиваете там, в Румынии, германские войска, с какой целью?» Риббентроп, не отрицая этого факта, ловко отделался от вопроса и не раскрыл карты.
Молотов задает другой вопрос: «Почему вы сосредоточили несколько дивизий своих войск в Финляндии? Против какой угрозы они выставлены там? Какая цель сосредоточения этих войск здесь, у наших границ, под Ленинградом?» Ловкими отговорками Риббентроп отделался и от этого вопроса.
И, наконец, главный вопрос, который Молотов задает: «Почему такое большое количество дивизий из западных районов Европы, где идет подготовка у вас к нападению на Англию, перебрасывается в Польшу, вблизи наших границ?» Риббентроп отвечает, что войска эти в боях на Западе устали, переброска в Польшу имеет целью дать им отдых.
Десятки дивизий одновременно перебрасываются на отдых именно в Польшу! Не в Венгрию, не в Чехословакию или Италию, где климат для отдыха лучше! Такого вопроса Молотов, кажется, и не задавал.
Не надо быть большим политиком, чтобы, сопоставив три факта концентрации войск в Румынии, Польше и Финляндии в больших количествах на границах нашей страны, с которой есть Пакт о ненападении, сделать вывод — идет подготовка к началу войны против нас.
Меня не волновало то, что Риббентроп, а затем и Гитлер прямо отбрасывали предложение о сферах влияния, сказав, что они не могут терять свое влияние ни в Румынии, ни в Болгарии, ни в Дарданеллах, зато согласны дать нам возможность продвигаться на Персию, к водам Персидского залива. Это было не только грубым отклонением нашего предложения, но просто издевательством.
Я, будучи сторонником Пакта о ненападении, был настроен против директив, данных Сталиным Молотову в переговорах с Германией о сферах влияния. Не только потому, что это было нереально, так мне, по крайней мере, казалось. Но такое соглашение носило характер какого-то союза с гитлеровской Германией, что не было понято коммунистами всего мира, и я внутренне отвергал это.
После доклада Молотова о переговорах в Берлине я думал, что у Сталина наконец раскроются глаза на реальную действительность и он предпримет срочные меры.
Да, Сталин принял решение о строительстве артиллерийских заводов и других военных предприятий. Очень хорошим было решение об авиационном комплексе в Куйбышеве, строительство которого было закончено через полгода после начала войны и который сыграл огромную роль в войне. Но выглядит анекдотом, что тогда же было принято решение о строительстве большого артиллерийского завода в Киеве, который через год оказался под властью немцев.
Все эти ошибки вытекали из главной порочной установки Сталина, что Гитлер с нами войну не начнет в ближайшее время. Несмотря на поступавшие сигналы со всех сторон: от советской разведки за границей, из войсковых частей с мест, от пограничных войск, донесений нашего посла Деканозова в Берлине, начальника разведки НКВД Амаяка Кобулова, представителя разведки Генштаба в Берлине Михаила Воронцова и многих-многих других. Даже из Японии от Рихарда Зорге, о ком мы в Политбюро тогда и не знали.
Из этой же порочной установки Сталина вытекает и другая ошибка. За месяц или два до начала войны начали поступать из западных военных округов, особенно из Минска, сообщения о том, что немецкие военные самолеты не только появляются в советском воздушном пространстве, но облетают много раз советскую территорию. Командование требовало принять меры против них. Но Сталин был до того осторожен, что дал указание не сбивать эти самолеты, дабы не провоцировать немцев, хотя в данном случае речь шла о защите прав суверенного государства. А немцам это помогло засечь пункты связи, расположение радиостанций войсковых частей и в первый же день наряду с нанесением ударов по военным аэродромам, где почти половина самолетов была уничтожена на земле, уничтожить и их. Тогда только сообразили, что надо иметь две радиостанции: одну для пользования в мирное время, другую — в другом пункте — на случай войны. Могли бы вовремя подумать об этом! Ведь вскоре после начала войны нам удалось создать дублирующую радиосвязь.
Это все я диктую по памяти.
Жуков, когда писал воспоминания, пользовался всеми документами Генерального штаба. Более того, как штабист, он же каждый день все важные события всегда записывал.
Но почему-то он не написал о том дне, когда Сталин появился в Наркомате обороны в первый или второй день войны ночью, с ним были Молотов, Берия, Маленков и я, и Жуков в ответ на нападки Сталина разрыдался. Этот факт не компрометирует Жукова ни в какой степени. Зато характеризует Сталина. И все же Жуков почему-то об этом умолчал. Или там «поработали» редакторы? Я по своему опыту знаю, на что они способны, если имеют указания от своего начальства.
Ввиду того, что военные события развивались в полном противоречии с военными планами, приходилось действовать экспромтом, часто поспешно. Поэтому многие мероприятия отнимали много сил и средств, оказывались бессмысленными или с малыми результатами и большими жертвами.
Экспромтом можно считать и то, что в начале войны приняли мы решение (я был также за это решение) построить противотанковые рвы с севера на юг, мобилизовав больше миллиона человек. И люди шли строить эту линию день и ночь — женщины, юноши, девушки, только бы помочь стране! Не успели кончить эту огромную линию, как она оказалась бесполезной, так как была без войск, без вооружения.
После мы построили другую такую же линию на сотни километров ближе к Москве. И тоже почти полмиллиона человек работало, и также она оказалась бесполезной.
Жуков обходит почему-то вопрос о том, какая паника охватила некоторые наши отступавшие части, оказавшиеся в тяжелых условиях, в окружении, без руководства.
Тогда нами были приняты крутые меры против дезертиров. Пограничные части были переброшены в места, где происходило дезертирство, с правом расстрела на месте. Это был страшный момент. Но положение сравнительно быстро удалось восстановить. Дезертирство как массовое явление было ликвидировано, и многие солдаты, которые бежали в панике, потом стали образцовыми бойцами.
Помню, какая гордость охватила меня за нашу армию, которая согласно принятому заблаговременно плану сражалась под Смоленском. По существу, это была первая по-настоящему организованная оборона. Во главе стоял Тимошенко. Около двух месяцев шли кровопролитные сражения, невиданные по своей жестокости, упорному сопротивлению. Я считаю, что это была прелюдия Сталинграда. Однако ввиду превосходства противника в танках и авиации мы вынуждены были отступить. Но это время было ценно для нас в смысле подтягивания сил из тыла.
Теперь все пишут, что немцы наступали с большим превосходством не только в технике, но и в численности своих войск. Но, насколько помню, ни нарком обороны, ни начальник Генштаба не требовали большего количества войск, полагая, что этого достаточно. Однако 100-процентного укомплектования дивизий не было.
Наконец, можно было бы организовать офицерские курсы, для более широкой подготовки офицерского состава. Было ясно, что потери офицерского состава будут, а офицеров готовить нужно в мирное время. Ни одного из этих мероприятий не было сделано до войны.
Наши военные мемуаристы много пишут о военных делах, но никто не вникает в суть того, как удалось после потери Украины, блокады Ленинграда, эвакуации военных заводов из Центральной и Южной России, Украины в течение почти полугодия восстановить прежнее производство вооружения, а через полтора года на третьем году войны — превзойти могущественную гитлеровскую Германию и всю подвластную ей Европу по производству всех видов вооружения. Странно, что такие видные военные деятели, как Жуков и другие, не нашли возможным упомянуть о Малышеве, талантливейшем хозяйственном организаторе, честнейшем человеке. Он добился блестящих успехов в производстве танков, которые не только по количеству, но и по качеству превосходили немецкие танки, что предопределило исход грандиознейшего танкового сражения на Курской дуге. Ни слова никто не сказал о Шахурине, наркоме авиационной промышленности. Правда, Жуков в своих мемуарах упомянул об Устинове, наркоме вооружения, ибо это трудно было не сделать, так как Устинов теперь секретарь ЦК партии.
О Ванникове ни слова не сказано, хотя он занимался производством боеприпасов для всех видов вооружения, был хорошим организатором этого дела. Наконец, ничего не сказано и о крупном специалисте в металлургии, талантливейшем организаторе Тевосяне, который сделал так много для производства высококачественной брони для танков. А это было невероятно трудным и важным делом.
* * *
Многие мемуаристы, которые встречались со Сталиным один или несколько раз, выносили положительное, приятное впечатление о нем и об этом пишут, не греша перед своей совестью. Но они из этого делают вывод для общей характеристики и оценки деятельности Сталина, его характера, поведения, умения вести беседы, общаться с людьми.
Действительно, Сталин, когда хотел, когда, по его мнению, это было необходимо, владел собой полностью, умел так повести прием людей и беседу с ними, что производил отличное, приятное впечатление.
Это касается и советских людей, и особенно иностранцев. Известно, с каким мастерством, выдержкой он вел переговоры с Черчиллем, Иденом, когда они приезжали в Москву; с Рузвельтом и Черчиллем на Тегеранской и Ялтинской конференциях и на Потсдамской конференции, где кроме Черчилля были Эттли новый английский премьер и Трумэн — президент США после смерти Рузвельта. И теперь, когда перечитываешь записи бесед, чувствуешь превосходство Сталина в манере высказываний и точности формулировок, легкости, спокойствии и разумности. Где нужно, он настойчив, умеет находить новые аргументы в поддержку своей линии, не уступая им; в других случаях делает уступки, которые не противоречат нашим интересам, что производит приятное впечатление на собеседников.
Иногда, уже имея свое твердое мнение, он спрашивал мнение Черчилля. Например, это касалось визита де Голля в Москву во время войны, подписания с ним франко-советского договора о дружбе.
Я помню, у Сталина и у нас было твердое мнение, как вести себя в отношении де Голля, но он все же спрашивал совета у Черчилля по вопросам этого визита, выясняя его мнение о возможности заключения договора в двух вариантах: франко-советский договор аналогично английскому или трехсторонний англо-франко-советский договор. Он спрашивает Черчилля, но в такой форме проводит все это, что, конечно, проводит нашу линию, не сталкиваясь при этом с Черчиллем, а, наоборот показывая готовность принять его совет.
Первым послом Индии в Москве был Радхакришнан, затем ставший Президентом Индии. Это очень симпатичный, культурный человек, независимых прогрессивных взглядов и хорошо к нам относившийся. Сталин вообще редко тогда принимал послов. Помнится, что, кроме английского, американского и один раз аргентинского посла, когда Перон был главой государства, других он не принимал. Индийский посол был у него в связи с начавшимся голодом в Индии.
После приема посла Сталин нам рассказывал, что на него произвели приятное впечатление высказывания и сама личность этого посла, что обещал, не ставя предварительно вопроса на Политбюро, оказать помощь Индии поставкой в кратчайший срок 10 тыс. т пшеницы за плату. Посол был очень доволен, конечно.
По окончании беседы Радхакришнан, беседуя с другими послами и, кажется, с корреспондентами, с восхищением отзывался о Сталине, что стало достоянием широкого круга людей и прессы, о приятном впечатлении, произведенном Сталиным на него, о его спокойствии, разумности, умении слушать собеседника, находить правильный ответ.
Сталин мне сказал, что надо поскорее отгрузить пшеницу в Индию, чтобы она пришла раньше, чем капиталистические страны окажут помощь Индии, что это произведет хорошее впечатление. Он был прав, конечно. Но я стал отговариваться, что есть одна опасность в коммерческом отношении: если отгрузить пшеницу до подписания контракта о продаже, то это обстоятельство ухудшит нашу позицию в переговорах о цене на пшеницу, поскольку она колеблется. Индия может нам недоплатить, и мы вынуждены будем согласиться с любой ценой ввиду того, что пшеница уже отправлена. Сталин настаивал на немедленной отгрузке: даже если мы будем иметь потери, политический эффект превзойдет их.
Я согласился, но это предупреждение сделал, чтобы в будущем не было недоразумений со Сталиным. По телефону я дал указание Морфлоту и Внешторгу, хотя в планах перевозок это и не было предусмотрено, изменить планы и через день-два поставить пароходы под погрузку пшеницы для ускоренной отправки ее в Индию.
Действительно, кажется, через две недели или меньше первыми с пшеницей прибыли советские пароходы. И хотя не так много ее было, не только индийское правительство, но и пресса и общественность приняли этот факт с большой благодарностью и с уважением к Советскому Союзу, который так быстро пошел на поставку пшеницы ввиду голода в Индии. Надо сказать, что и в переговорах Экспортхлеба о цене на эту пшеницу никаких затруднений не было, вопреки нашим опасениям Индией была оплачена нормальная цена.
Естественно, Радхакришнан, с которым я много раз потом встречался, был самого лучшего мнения о Сталине.
Известно, какую антиамериканскую, независимую националистическую позицию занимал глава аргентинского государства Перон. Перонизм — это было интересным явлением в Америке, одной из форм национальной борьбы с американским господством, вообще-то носившей прогрессивный характер.
Сталин в беседах о Пероне, в какой-то мере узнав слабые стороны и недостатки этого движения, все же ценил независимую позицию Перона и его партии. В связи с этим он принял аргентинского посла по его просьбе, больше выслушивал и выспрашивал и произвел на посла большое впечатление. Посол, помню, способный человек, со своей стороны произвел на Сталина благоприятное впечатление. Сталин обещал предоставить Аргентине долгосрочный кредит в 100 млн долларов. Тогда для нас это была большая сумма и беспрецедентная для предоставления несоциалистической стране.
Мне было поручено вести дальнейшие переговоры об условиях этого кредита. Я несколько раз встречался с послом, подготовил договор, подписал. Суть договора сводилась к тому, что мы предоставляем им оборудование и другие товары советского производства, кажется, на 10-летний срок. Аргентина предоставляет нам товары своего производства, которые нам были нужны: кожу, шерсть и др. Посол с восхищением говорил о Сталине.
Конечно, люди от этих кратковременных встреч со Сталиным выносили о нем хорошее впечатление. Более того, у них складывалось мнение о Сталине вообще, об общей его характеристике. Их обвинять в этом нельзя, но они должны знать, что это не основание для общей оценки Сталина — человека такого сложного характера. От них и нельзя было требовать другого, они другой стороны жизни Сталина и его деятельности не знали.
Но вот удивительно другое, когда некоторые советские люди, на глазах которых проявились худшие черты характера Сталина, предвиденные Лениным, когда проявился произвол в невероятных формах, которые даже Ленин не мог предполагать (произвол и беззаконие 1937-1938 гг., приведший к уничтожению многих тысяч руководящих деятелей всех областей нашего государства и партии и миллионов простых людей), в своих мемуарах дают высокую общую оценку Сталину. Это видно в меньшей степени в мемуарах Жукова, в большей степени касается мемуаров Штеменко, который, приводя в своих воспоминаниях хорошее о Сталине, ловко обходит все то, что может бросить тень на личность Сталина, о чем, конечно, хорошо знал Штеменко. Хотя Штеменко себя вел лично так, что, работая со Сталиным вторую половину войны, находил поддержку с его стороны. Но Штеменко хорошо знал о многих фактах в отношении других лиц как до войны, так и после войны, что проявилось в отношении нового командующего ВВС Новикова, наркома авиационной промышленности Шахурина, маршала артиллерии Яковлева, которые совершенно необоснованно были арестованы. Даже эти три факта, если бы не было других, не позволяют Штеменко петь такие дифирамбы о характере Сталина, как он это делает, да и Жуков тоже.
Но особо неприятное впечатление оставляют воспоминания маршала авиации Голованова. Нужно сказать, что он на меня производил всегда хорошее впечатление, и я высоко его ценил как летчика и человека. Я присутствовал в Ставке, когда первый раз появился там Голованов, предложив свою часть гражданских транспортных самолетов целиком для военных целей. Помню, как он пришел: высокого роста, красивый, стройный, подтянутый, малоразговорчивый. Коротко он сказал, без лишних слов, о своем предложении. Это произвело на нас очень хорошее впечатление.
В своих воспоминаниях Голованов много раз упоминает о том, что был у Сталина и что его дивизия была лично подчинена Сталину. Этим он хвастает и хвалит за это Сталина. Как это можно, чтобы Сталин, Верховный Главнокомандующий, взял в свое подчинение, под свое командование одну только дивизию дальнебомбардировочной авиации? Мне кажется, что все это он чересчур преувеличил. Он хвалит Сталина за то, что тот принимал его много раз в отсутствие командующего Военно-воздушными силами и обсуждал с ним вопросы дальней авиации, не интересуясь мнением командующего, мнением Генштаба. Но ведь это говорит о нетерпимом, порочном методе руководства Сталина.
Голованов в своих воспоминаниях приводит эпизод встречи Нового года и беседу с командующим ВВС Смушкевичем. Смушкевич сказал ему, что не может добиться приема у Сталина, хотя необходимо решить важный вопрос о подготовке авиации к боевым действиям. Он попросил Голованова, зная расположение к нему Сталина, обратиться к нему с письмом и изложить суть беседы Смушкевича с Головановым. Голованов так и сделал. И он не осуждает здесь Сталина за такое отношение к командующему ВВС. Разве Голованов не понимает нетерпимость положения, когда накануне войны командующий ВВС не имеет возможности поговорить со Сталиным по коренным вопросам авиационной подготовки? Хотя Смушкевич — заслуженный летчик, героически показавший себя в испанских событиях, самим же Сталиным был выдвинут на эту высокую должность командующего ВВС. Голованов не считает это отрицательной стороной деятельности Сталина. Потом мельком Голованов сообщает, что командующим ВВС стал Жигарев, не объясняя, какую роль он сыграл в войне, куда же делся Смушкевич, какая судьба его постигла (а ведь он был расстрелян!).
Вместо Смушкевича был назначен Жигарев, бывший кавалерист, человек хороший, несомненно талантливый, но тогда не ахти какой опытный в авиационных делах. Затем Сталин снял его с этой должности и направил на Дальний Восток командовать ВВС. Вместо Жигарева был назначен Новиков, который почти до конца войны успешно руководил авиацией.
Такая организационная чехарда — снятие двух командующих ВВС почти в течение полугода, разве не дает штриха к характеру Сталина как человека и руководителя. Неужели Голованов об этом не думает? Думает и знает. Или Голованов был ослеплен? Во всяком случае, из этих личных фактов он делает общую оценку Сталину, дает высокую оценку его характеру, его отношению к людям. Конечно, у него нет основания для такого обобщения. Поэтому такого рода мемуары приносят вред и, мягко говоря, искажают истину.
Наверное, не мог Голованов не знать, что после войны маршал Жуков был с руководящих постов в Министерстве обороны снят и назначен командующим Уральским военным округом, где фактически и не было никаких войск, кроме учебных заведений и отдельных мелких воинских частей. Но это не главное. Он не мог не знать, что после окончания войны были арестованы и расстреляны маршал Кулик, генерал Гордов, который какое-то время был командующим Сталинградским фронтом, затем командармом и воевал хорошо, и некоторые другие.
Если у них были какие-то промахи, неправильные высказывания, имевшие место, конечно, после войны, ибо в войну они не привлекались к ответственности, то разве надо было их расстреливать? Разве нельзя было их понизить в должности, уволить из армии, послать на пенсию, наконец?
Разве эти факты не доказывают отрицательных черт характера Сталина в отношении к людям? Во всяком случае, они не говорят о его заботе о людях.
Глава 44. Моя оценка Сталина
Часто товарищи спрашивают, какую оценку вы даете Сталину? Это ставит меня в трудное положение, потому что невозможно односложно давать характеристику Сталину. Это фигура сложная по натуре, и сложный путь был у него в партии и государстве. В разные периоды он выглядел по-разному: то выпячивая положительные стороны своего характера, то, наоборот, в других условиях, отрицательные черты брали верх. В этом смысле характеристику Сталину, данную Лениным в так называемом «завещании», надо считать абсолютно правильной и точной, подтвержденной всеми последующими событиями.
Я подчеркиваю — правильность сейчас, потому что, во-первых, когда мы познакомились с «завещанием» Ленина, внутренне мы не вполне готовы были к такой оценке, были убеждены, что Ленин не во всем был прав в личной характеристике Сталина.
Когда теперь пытаешься дать Сталину характеристику и определить свое отношение к нему, попадаешь в весьма трудное положение.
Первое. Как фактически я относился к нему в те или другие периоды истории нашей партии, ранние периоды, скажем, до 1934 г.? Я не только разделял политическую линию партии, в определении которой Сталин играл большую роль, но и в методах и тактике работы был согласен с ним, хотя в отдельные моменты бывали у него срывы, которые мы замечали, но такие срывы были редки, поэтому не портили общего отношения и доверия. Я ему полностью доверял.
Отношения стали меняться в худшую сторону после убийства Кирова, в годы необоснованных массовых репрессий против ленинских кадров и их окружения, и вообще против широких масс народа в 1936-1940 гг.
Теперь на многие вопросы я имею другой взгляд, потому что в то время очень много фактов, документов, которые освещали деятельность Сталина, мы не знали. Подлинные документы о фактах репрессий нам не рассылались. Нам присылали только лишь те документы, как теперь стало ясно, которые было выгодно разослать, чтобы в желаемом духе настроить нас. Рассылались, например, протоколы допросов видных товарищей, в которых те признавались в совершенно невероятных преступлениях, которые и в голову никому не могли прийти, а они подписывались под ними. Сталин так и говорил: «Невероятно, но факт, они сами это признают». Сталин позже, стараясь придать более правдивый характер показаниям, рассылал протоколы допросов, где на каждой странице стояла подпись обвиняемого, чтобы, как он говорил, «исключить фальсификацию и подлог».
Например, дела военных: Тухачевского, Уборевича, Якира и других. Как-то не в обычном порядке на заседании Политбюро, а в кабинете у Сталина, куда нас, членов Политбюро пригласили, Сталин стал излагать сообщение, что по данным НКВД эти военные руководители являются немецкими шпионами, и стал зачитывать какие-то места из документов. Затем он добавил, что у него были сомнения, насколько правильно сообщение НКВД, но они рассеялись после того, как недавно было получено сообщение от чехословацкого президента Бенеша, что их разведка имеет данные через свою агентуру в немецкой разведке, что перечисленные военные руководители завербованы немцами.
Это было невероятным. Но не все были поражены — видно было, что это сообщение предварительно обсуждалось Сталиным с Ворошиловым как с наркомом обороны, потому что он не удивился, не возражал, сомнений не высказывал.
Я сказал Сталину: «Уборевича я очень хорошо лично знаю, других также знаю, но Уборевича лучше всех. Это — не только отличный военный, но и честнейший, преданный партии и государству человек. Уборевич много рассказывал мне о своем пребывании в Германии, в немецком штабе для повышения своей квалификации. Да, он высказывал высокую оценку генералу фон Секту, говорил, что многому научился у немцев с точки зрения военной науки и техники, методов ведения войны. Будучи уже здесь, он все делал для того, чтобы перевооружить нашу армию, переучить ее для новых методов ведения войны. Я исключаю, что он мог быть завербованным, мог быть шпионом. Да и зачем ему быть шпионом, занимая такое положение в нашем государстве, в наших Вооруженных Силах, имея такое прошлое в гражданской войне?»
Сталин же стал доказывать, что именно тогда, когда Уборевич был в германском штабе на обучении, он и был завербован немцами. Об этом говорят данные, которыми располагает НКВД. Правда, он сказал, что эти данные подлежат проверке. «Мы в состав суда, — сказал Сталин, — включим только военных людей, которые понимают дело, и они разберутся, что правда и что нет». Во главе был поставлен Буденный. Там был и Блюхер. Я не помню, кого еще назвал Сталин.
Нас несколько успокоило сообщение о том, что военные люди будут разбираться в этом деле и, возможно, обвинения отпадут.
Я работал на периферии и не был знаком со многими фактами периода Гражданской войны и начала 1920-х гг., которые сегодня нам известны. А дело было в следующем. Сталин и работавшие с ним Ворошилов, Буденный, Егоров, Кулик, Щаденко, Мехлис, Тюленев, Тимошенко, Афанасенко и другие занимали позицию против военспецов в армии, то есть против привлечения в армию на командно-штабные должности бывших офицеров царской армии.
Когда Сталин был в Царицыне, членами Военного совета были Ворошилов и Буденный. Они изгоняли спецов из армии, многих расстреливали. Правда, в их числе попадались и настоящие изменники, но вместе с ними гибли и невинные люди. Были попытки жаловаться Ленину, который был на стороне привлечения военспецов, так как большинство из них работало добросовестно.
Я не знал о конфликте между Сталиным и Конной армией, с одной стороны, и командующим Западным фронтом Тухачевским, который вел наступление на Варшаву, с другой стороны.
Дело было в том, что в самый острый момент Политбюро ЦК под руководством Ленина решило в ходе наступления на Варшаву для поддержки левого фланга Тухачевского ввести Конную армию. Сталин, будучи с Конной армией, был против этого решения и не дал приказа об исполнении решения Политбюро.
ЦК настаивал на своем решении. Сталин упорствовал. Он вынужден был выехать в Москву. На комиссии ЦК разбирались эти разногласия, где столкнулись Тухачевский и Сталин. Прошло около недели — время было упущено.
Не зная всего этого, я был крайне удивлен, что военный суд подтвердил «факты» их шпионской деятельности, и Тухачевский, Уборевич, Якир были казнены, конечно, с согласия Сталина.
В реабилитации этих товарищей Ворошилов активного участия не принимал, но и не выступал с возражениями. Открыто и Буденный не высказался, хотя он был председателем суда.
Ворошилов и Буденный позже, даже в 1960 г., считали, что решения их суда были обоснованны. Как-то в беседе с Артемом Ивановичем Микояном Буденный сказал: «Зря мы их реабилитировали». Потом, когда Ворошилов был уже на пенсии, я пришел к нему на день рождения. Они с Буденным опять стали возмущаться пересмотром процесса над военными лидерами. «Говорят, они не были врагами, возбужденно шумел Буденный. — Но ты же помнишь, как они призывали нас убрать из армии?» И Ворошилов ему поддакивал. Вот такое у них было понимание вредительства, оказывается.
Мне казалось, что те катастрофические срывы характера Сталина, которые имели место в годы репрессий, уже никогда не повторятся, что одержанная победа в Великой Отечественной войне, великий авторитет нашей страны в этот период, страны, которую до этого мало знали, — все это приведет к тому, что Сталин встанет на путь социалистической демократии, скажем, как это было в 20-х годах.
Но этого не случилось. Конечно, не повторилось то, что было в 1937-1938 гг., это невозможно было теперь. Но сильную тревогу вызывало у меня непонимание мотивов его поведения. Конечно, я старался догадаться, чем это вызвано, какие цели он преследует. Но это были только догадки, для меня неубедительные. Поэтому я не имел твердого мнения. Например, после победы в Великой Отечественной войне Сталин вдруг стал добиваться ареста и осуждения, на этот раз не смертной казни, как это было бы в 1938 г., а тюремного заключения министра авиационной промышленности Шахурина (при этом непонятна роль Маленкова, курировавшего эту промышленность), который всю войну в целом работал хорошо, добросовестно, авиационной промышленностью руководил неплохо, понимал дело. (Я, например, считаю, что неприлично было со стороны авиаконструктора Яковлева не найти добрых слов в адрес Шахурина в своих воспоминаниях. Яковлев даже не счел нужным отметить, что Шахурин был неправильно репрессирован и затем реабилитирован.)
Та же судьба постигла командующего Военно-воздушными силами главного маршала авиации Новикова, который почти всю войну успешно командовал, бывал на фронтах, где происходили важнейшие события, больше, чем в центре.
Был арестован также заведующий Отделом авиационной промышленности ЦК, коммунист, инженер Григорян, которого я лично плохо знал, но Маленков его очень ценил, и Григорян был его правой рукой по руководству авиационной промышленностью всю войну.
То же случилось с маршалом артиллерии Яковлевым. Всю войну он возглавлял ГАУ (Главное артиллерийское управление) и отвечал за все снабжение фронта вооружением, кроме танков и авиации. Он с февраля 1942 г. был назначен по ГКО моим заместителем по снабжению фронта вооружением, поскольку эта обязанность была возложена на меня как на члена ГКО. Мне было хорошо с ним работать: с двух слов понимал он, о чем идет речь, мало, но точно и ясно говорил, был хозяином своего слова. Человек независимый, он не поддерживал одних командующих фронтом за счет других. Он часто бывал в ГКО и в Ставке со мной вместе и отдельно, и никогда я не слышал, чтобы он получал замечания от Сталина. Сталин был доволен его работой, его поведением.
Какая же нужна была мотивировка и причина для их ареста?
Шахурина обвинили в том, что он поставлял самолеты, еще недоработанные, а Новиков принимал их в таком виде и направлял на фронт, что Сталин посчитал вредительством, что Яковлев сразу же после начала войны принял партию в 40 или 50 новых противотанковых орудий, не вполне доведенных, с тем, чтобы обучить войска управлению ими и провести войсковые испытания.
Эти факты действительно имели место. Но это было единственно правильным решением со стороны этих товарищей. Если бы в войну новые самолеты подвергались бы тщательной доработке, строго по программе, то фронт не получал бы столько самолетов, сколько требовалось. Ведь факт, что теперь, много лет спустя после войны, когда время позволяет, два-три года проходят, прежде чем готовый самолет будет принят на вооружение и пущен в серию. Тогда же нельзя было терять время!
Военные правы, когда даже к отличным машинам предъявляют требования, чтобы самолет был лучше. Например, самолет МиГ-19 — лучший самолет. Настолько был хороший, что правительством было принято решение приступить к серийному производству после многих споров с военными. Но все же военные продолжали принимать изготовленные самолеты с оговорками, что в дальнейшем нужно устранить некоторые дефекты и самолет улучшить. Словом, несколько тысяч этих самолетов было сделано. Поступили на вооружение в армию. Но военные не дали на это согласия, и не было принято решения правительства о принятии этих самолетов на вооружение. А фактически самолет был на вооружении.