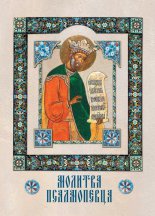Куда она ушла Форман Гейл

Несколько дней я носил эту вырезку с собой, время от времени доставал и пробегал текст глазами. Чувство при этом было такое, словно я таскаю в кармане пробирку плутония. Если бы Брен увидела у меня фотографию Мии, неминуемо случился бы ядерный взрыв. Так что еще через несколько дней я заставил себя ее выбросить и забыть об этом.
И вот теперь пытаюсь вспомнить, говорилось ли там о том, что Мия ушла из Джульярда[7] и начала давать концерты в Карнеги-холле.
Я снова вглядываюсь в ее глаза, которые все так же пристально смотрят на меня. И я совершенно не сомневаюсь, что она выступает именно сегодня. Я был уверен в этом еще раньше, чем увидел дату на постере – 13 августа.
И даже не соображая, что делаю, не успев ничего обдумать, осознать, насколько моя идея ужасна, я направляюсь к кассе. «Не хочу ее видеть, – говорю себе я. – Но я и не увижу. Только послушаю». Оказывается, что все билеты распроданы. Я мог бы сказать им, кто я такой, либо же позвонить консьержу отеля или Алдусу, чтобы они постарались достать мне билет, но я вместо этого решаю предоставить все судьбе. Я в скромном обличье, не представившись, спрашиваю, не осталось ли свободных мест.
– Как раз вбросили новые билеты. Есть боковой бельэтаж, сзади. Видно оттуда не особо… Но ничего лучше нет, – говорит мне девушка из-за стекла.
– Так я и не смотреть пришел, – отвечаю я.
– Вот и я так же думаю, – соглашается она, смеясь. – Но люди нынче требовательные. Двадцать пять долларов.
Я расплачиваюсь кредиткой и вхожу в прохладный темный зал. Заняв свое место, я закрываю глаза, вспоминая, когда в последний раз был на таком крутом виолончельном концерте. Это было пять лет назад, на нашем первом свидании. И точно как и тогда, я весь сгораю от нетерпения, хотя и знаю, что сегодня, в отличие от прошлого раза, я ее не поцелую. И не дотронусь. И даже близко не подойду.
Сегодня я буду просто слушать. И этого мне будет достаточно.
3
Через четыре дня Мия пришла в сознание, но сказали мы ей только на шестой день. Хотя она как будто уже все знала. Мы сидели вокруг ее больничной кровати. Ее неразговорчивый дед будто бы вытянул короткую соломинку – именно на его долю выпала задача сказать Мие, что ее родители, Кэт с Дэнни, погибли в катастрофе, из-за которой она сама попала в реанимацию. А младший брат Тэдди умер в неотложке ближайшей больницы, в которой находилась и сама Мия до того, как ее перевезли в Портленд. Что послужило причиной аварии, никто не знал. Спросили, помнит ли об этом хоть что-нибудь сама Мия.
Она лежала, хлопала глазами, держа меня за руку, так крепко впившись в меня ногтями, что, казалось, она уже никогда меня не отпустит. Потом Мия замотала головой, тихонько приговаривая: «нет, нет, нет». Это длилось очень долго, но слез не было, и я не мог понять, она отвечает на вопрос деда или просто пытается отрицать случившееся. Нет!
Но потом пришла социальный работник и взялась за дело всерьез. Она рассказала Мие о сделанных ей операциях: «Они лишь подготовительные, надо было стабилизировать твое состояние, но держишься ты прекрасно», – после чего перечислила список операций, предстоявших в ближайшие месяцы: сначала надо поставить металлические штыри в ногу, чтобы восстановить кость. Где-то через неделю – взять кожу с бедра здоровой ноги. Затем пересадить ее на пострадавшую ногу. К сожалению, после этого останутся «некрасивые шрамы». Зато пластические хирурги смогут практически полностью восстановить лицо – где-то через год.
– После того, как обязательные операции будут закончены, если, конечно, не возникнет осложнений – инфекций после спленэктомии, воспаления легких или чего с ногами, тебя выпишут из больницы в реабилитационный центр, – сказала соцработник. – Через несколько дней оценим, в каком состоянии находится твоя физиология, речь, что ты сможешь делать и так далее.
У меня от этой литании закружилась голова, но Мия как будто бы слушала каждое слово, словно подробности рассказа об этих операциях интересовали ее больше, чем новости о погибших родственниках.
Через несколько часов в тот же день соцработник отвела нас всех в сторонку. Нас – то есть ее бабушку с дедушкой и меня – обеспокоила реакция Мии, точнее, ее отсутствие. Мы ждали, что она будет кричать, рвать на себе волосы, сделает что-нибудь резкое, соответствующее масштабу этих ужасных новостей, нашему собственному горю. А ее ужасающее спокойствие заставило нас всех думать об одном: что она повредилась рассудком.
– Нет, дело совсем не в этом, – поспешила заверить нас соцработник. – Мозг – инструмент тонкий, так что повреждение некоторых регионов может обнаружиться только через несколько недель, но молодые обычно быстро восстанавливаются. На данный момент прогнозы неврологов довольно оптимистичные. Регуляция моторики у нее в целом хорошая. Речевые способности тоже вроде бы не пострадали. Хотя в правой половине тела она испытывает слабость и есть сложности с сохранением равновесия. Но если на этом проблемы заканчиваются, то девушке, считай, повезло.
Слово «повезло» заставляет нас всех поежиться. Соцработник заметила выражения наших лиц.
– Очень повезло, поскольку все это обратимо. Что касается происходящего, – она указала на палату, – то такая реакция является стандартной при столь серьезных психологических травмах. Мозг сразу со всем справляться не может, так что информация фильтруется и переваривается потихоньку. Мия осознает случившееся, но ей нужна будет помощь.
Соцработник поведала нам о стадиях переживания горя, вручила памфлеты на тему посттравматического стресса, порекомендовала записать Мию к больничному психологу, который специализируется на подобных утратах.
– Возможно, вам всем это тоже окажется полезным, – добавила она.
Мы ее не послушали. Бабушка и дедушка Мии в психотерапию не верили, а я на первое место ставил интересы Мии, а не собственные.
К новому циклу операций приступили почти сразу – это показалось мне жестоким. Мия только недавно балансировала на грани жизни и смерти, только-только пришла в сознание, ей только-только сообщили, что все ее родственники погибли – и сразу же снова положили под нож. Неужели нельзя было дать человеку отдохнуть? Но соцработник объяснила, что чем скорее вылечат ногу, тем скорее Мия сможет двигаться, соответственно, тем скорее пойдет на поправку. Так что ей воткнули штыри в бедро, сняли кожу для пересадки. И со скоростью, от которой у меня перехватывало дух, выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр, похожий на обычный дом на несколько квартир. Участок рассекали дорожки, и когда Мию туда привезли (а было это весной), там начинали распускаться цветы.
Всего через несколько дней, которые мы пережили с большим трудом, скрипя зубами, пришел конверт.
Из Джулиарда. Раньше мне столько всего в этом виделось. Преждевременное решение. Повод для гордости. Соперничество. А потом я про это забыл. Думаю, и все остальные – тоже. Но жизнь за пределами реабилитационного центра шла своим чередом, и где-то там, в другом мире, продолжала существовать другая Мия – с родителями, братом и невредимым телом. И в том другом мире какие-то эксперты послушали ее игру, записанную несколькими месяцами ранее, рассмотрели ее заявку, через несколько этапов было вынесено окончательное решение, и вот оно достигло нас. Бабушка Мии слишком разнервничалась и не смогла раскрыть конверт, так что она дождалась нас и только тогда взрезала его перламутровым ножом для писем.
Мия прошла. Но разве у кого-то были хоть какие-то сомнения?
Мы все думали, что она обрадуется, что это станет ярким пятном на горизонте ее мрачной жизни.
– Я уже поговорила с деканом, объяснила, что случилось, и они позволили тебе начать через год или даже два, если потребуется, – сказала бабушка, рассказывая Мие новости, в том числе о том, какую щедрую стипендию ей назначили. Это Джулиард предложил отсрочку, поскольку им было важно, чтобы Мия соответствовала их строгим стандартам, если решит пойти к ним учиться.
– Нет, – сказала Мия, сидя в центре нагоняющего тоску общего зала, тем убийственно ровным тоном, который появился у нее после этого несчастного случая. Никто не мог понять, с чем это было связано – с эмоциональным потрясением или все же у нее в мозгу произошли какие-то изменения и она теперь так разговаривает. И хотя соцработник не переставала нас подбадривать, а терапевт высоко оценивал скорость ее восстановления, мы все равно беспокоились. Эти вопросы мы обсуждали вполголоса в те вечера, когда мне не удавалось тайком остаться с ней на ночь.
– Не спеши, – ответила бабушка. – Через год-другой все будет выглядеть иначе. Может, и желание вернется.
Она думала, что Мия отказывается ехать в Джулиард. Но я все понял. Я хорошо понимал Мию. Она отказывалась от отсрочки.
Бабушка начала спорить. До сентября оставалось пять месяцев. Это слишком скоро. И в какой-то мере она была права, нога у Мии еще в полном гипсе, она только едва начала ходить. Из-за слабости в правой руке она даже банку не могла открыть, а зачастую ей не удавалось вспомнить названия простейших вещей, типа ножниц. Терапевт говорила, что всего этого следовало ожидать, и что, вероятнее всего, это пройдет… в свое время. Но пять месяцев? Это не так-то много.
В тот же вечер Мия попросила принести виолончель. Бабушка была недовольна: боялась, что такое своенравие может помешать восстановлению. Но я сразу же сорвался с места, бросился к машине, и после заката виолончель была уже у нее.
И с того момента она стала ее основной терапией: и для тела, и для души, и для разума. Врачи изумлялись, насколько сильна верхняя половина ее тела – старая преподавательница Мии, профессор Кристи, даже называла это «телом виолончелистки»: широкие плечи, мускулистые руки. И теперь за счет игры она вновь обрела силы, так что и слабость правой руки ушла, и нога начала восстанавливаться. Виолончель избавила ее и от головокружений. Мия играла с закрытыми глазами: по ее словам, необходимость твердо упираться в пол обеими ногами помогла ей побороть проблему с равновесием. В то же время по музыке стали видны ошибки, которые она пыталась скрыть в повседневной жизни. Например, если ей хотелось колы, но не удавалось вспомнить нужное слово, то Мия просила апельсинового сока. А тут она честно признавала, что помнит сюиту Баха, зато забыла простой, выученный в детстве этюд; хотя когда профессор Кристи, которая приходила поработать с ней раз в неделю, сыграла ей этот этюд, Мия потом сразу же смогла его повторить. Таким образом терапевты и неврологи поняли, как именно пострадал ее мозг, и внесли необходимые поправки в лечение.
Но самое главное – игра улучшала ее настроение. Она знала, чем заниматься каждый день. И говорила она уже не так монотонно, а как прежняя Мия, по крайней мере, когда речь заходила о музыке. График процедур в реабилитационном центре тоже изменили, чтобы она могла как можно больше репетировать.
– Мы в целом не знаем, каким образом музыка оказывает целительное воздействие на мозг, – сказал мне однажды один из ее неврологов, когда Мия играла в общем зале для остальных пациентов. – Но ведь так и есть. Ты только посмотри на нее.
Через четыре недели Мия выписалась из реабилитационного центра, на две недели раньше запланированного срока. К этому времени она уже могла ходить с тростью, открывать банки с арахисовым маслом и офигенно исполнять Бетховена.
Я все-таки запомнил кое-что из той статьи, «Двадцать моложе двадцати», которую прислала мне Лиз. Там не то чтобы намекалось, а прямо утверждалось, что «божественная» игра Мии связана с ее «трагедией». Помню, как это вывело меня из себя. Я почему-то счел это оскорбительным. Как будто ее талант можно списать лишь на какие-то сверхъестественные силы. Интересно, они что, воображают, будто погибшие родственники Мии входят в ее тело и играют ее пальцами свою музыку поднебесья?
Хотя, вообще-то, в случившемся действительно было что-то не от мира сего. Я это знаю, потому что я там присутствовал. Я стал свидетелем, как Мия превратилась из талантливой девочки в нечто уже совершенно иное. За эти пять месяцев произошло какое-то магическое и фантастическое преображение. Так что да, это даже связано с ее «трагедией», но Мия для этого немало пахала. Как и всегда.
Она уехала в Джулиард после Дня труда[8]. Я отвез ее в аэропорт. Мия поцеловала меня на прощанье. Сказала, что любит меня больше жизни. А потом ушла.
И уже не вернулась.
4
Смычок состарился —
его пора менять,
Да в общем, как и нас с тобой.
Так почему же отсрочили казнь?
Хочется уши прикрыть
от шума оваций.
«Пыль»«Косвенный ущерб», трек № 9
Когда концерт заканчивается и включается свет, я уже совсем без сил, и мне так плохо, как будто из меня выпустили всю кровь и заменили ее дегтем. Когда стихают аплодисменты, мои соседи поднимаются, обсуждая концерт, красоту Баха, мрачность Элгара[9], риск – оправдавшийся – вставить в программу современное произведение Джона Кейджа[10]. Но вообще все вокруг поглощены Дворжаком, и я понимаю почему.
Когда Мия играла на виолончели, по всему ее телу всегда было видно, насколько она сконцентрирована: на лбу проступала глубокая складка, а губы сжимались в таком напряжении, что становились совсем бледными, словно вся кровь перетекла в руки.
Нечто похожее я увидел и сегодня в самом начале концерта. Но когда она дошла до последнего пункта программы, Дворжака, на нее словно что-то нашло. Не знаю, может, Мия поймала волну или это ее коронный номер, но вместо того, чтобы согнуться над виолончелью, ее тело словно расширилось, расцвело, и музыка опутала весь зал, как цветущий виноградник. Взмахи смычка были широкими, радостными и дерзкими, звук буквально транслировал живую эмоцию, и весь зал словно закружился согласно замыслу композитора. А у самой Мии при этом было такое лицо: взгляд направлен вверх, на губах играет легкая улыбка, и не знаю, как можно описать это, не прибегнув к затасканным музыкальными журналами фразам вроде «она и музыка были единым целым». Может, она просто была счастлива. Я всегда знал, что Мия способна на такую выразительность, но когда я увидел это своими глазами, мне напрочь снесло крышу. Мне да и всей остальной аудитории тоже – судя по грому аплодисментов.
В зрительном зале тоже включили яркий свет – он отражается от стульев из светлого дерева и геометрического узора деревянных панелей на стенах. Мне кажется, что пол уплывает из-под ног. Я снова падаю в ближайшее кресло, стараясь изо всех сил не думать об этом Дворжаке… Да и обо всем остальном тоже: как она вытирала руку о юбку между композициями, как кивала головой в такт какому-то невидимому оркестру – все эти жесты мне так хорошо знакомы.
Вцепившись в кресло перед собой, чтобы не терять равновесия, я снова встаю и проверяю, можно ли доверять ногам, тверда ли под ними земля, а потом веду себя шаг за шагом к выходу. Я измотан и разбит. Теперь я хочу лишь одного: добраться до отеля, принять пару-тройку таблеток (Эмбиен, Лунесту или Зэнакс или что там еще найдется в аптечке) и положить конец этому дню. Я хочу уснуть, а потом проснуться, и чтобы ничего этого не было.
– Мистер Уайлд.
Я обычно в закрытых пространствах испытываю страх, но мне казалось, что уж на концерте классической музыки в Карнеги-холле буду в безопасности. Во время выступления да и в антракте на меня никто не смотрел, разве что пара старых склочниц, и то я подумал, что их просто привели в ужас мои джинсы. А этот парень примерно мой ровесник; он билетер и в радиусе пятнадцати метров единственный человек моложе тридцати пяти, так что вряд ли у кого-то кроме него тут может оказаться альбом «Падающей звезды».
Я лезу в карман за ручкой, хотя у меня ее нет. Билетер как будто смущается и начинает одновременно качать головой и махать руками.
– Нет-нет, мистер Уайлд, автограф мне не нужен, – и добавляет шепотом, – вообще-то это даже против правил, меня за такое могут уволить.
– А, – я прихожу в себя и тоже смущаюсь, соображая, не отругают ли меня сейчас за то, что я одет неподобающе.
Он продолжает.
– Мисс Холл просила вас пройти за кулисы.
В зале стоит гул и вообще довольно шумно, и я поначалу думаю, что не так расслышал. Мне показалось, что билетер говорит про нее. Но такого не может быть. Наверное, кто-то из Карнеги-холла меня позвал, а не Мия Холл.
Но уточнить я не успеваю, он уже ведет меня за локоть к лестнице, потом мы пересекаем фойе, и билетер проводит меня в небольшую дверцу возле сцены, мы петляем по лабиринту коридоров, стены которых увешаны нотами в рамках. Я позволяю ему мной руководить. Вспоминая, как в десять лет меня повели к директору за то, что бросил в классе наполненный водой воздушный шарик, и я тупо шагал за миссис Линден по коридору и гадал, что же ждет меня в кабинете. Вот и сейчас такое же чувство. Как будто я провинился и попал в неприятности, что Алдус не отдыхать меня сюда прислал и что сейчас меня отчитают за то, что пропустил фотосъемку, или разозлил журналистку, или за то, что я одиночка, иду против всех и могу развалить группу.
В общем, я даже не пытаюсь переварить происходящее, не позволяю себе услышать сказанное, поверить в это, подумать о предстоящем до тех пор, пока меня не вводят в небольшую комнатку, открыв и закрыв дверь. И вот передо мной она. Настоящая. Человек из плоти и крови, не призрак.
Мое первое желание – не схватить ее, не обнять и не крикнуть. Вместо этого просто хочется коснуться ее еще раскрасневшейся после игры щеки. Хочется преодолеть разделяющее нас пространство, которое можно измерить сантиметрами – а не километрами, не континентами, не годами, – и коснуться мозолистым пальцем ее лица. Хочется ее потрогать, чтобы убедиться, что это действительно она, а не сон, из тех, что мучили меня так часто после ее отъезда, из тех, в которых я видел Мию четко, как наяву, и хотел поцеловать ее или прижать к себе, но просыпался – а ее уже не было рядом.
Но я не могу до нее дотронуться. Такой привилегии у меня больше нет. Хоть все и случилось против моей воли, но тем не менее. К слову о воле – мне приходится изо всех сил контролировать свою руку, чтобы она не дрожала и вообще не превратилась в отбойный молоток.
Пол кружится, меня будто затягивает какой-то водоворот, мне страшно хочется принять таблетку, но сейчас это невозможно. Я стараюсь дышать ровнее, чтобы предотвратить паническую атаку, тщетно двигая челюстью и пытаясь произнести хоть слово. Такое ощущение, будто я оказался на сцене один, без группы, без оборудования, забыл все песни, а на меня смотрит миллионная толпа. И мне кажется, что я стою перед ней, Мией Холл, бессловесный младенец, уже битый час.
Когда мы с ней только встретились в школе, я заговорил первый. Я спросил, что она только что играла. С этого простого вопроса все и началось.
На этот раз спрашивает она.
– Это действительно ты? – И голос все точно такой же. Хотя не знаю, почему я ждал, что он изменится, разве только потому, что изменилось все.
Но этот голос резко возвращает меня обратно к реальности. Реальности трех прошедших лет. Так много требуется сказать. Куда ты делась? Ты обо мне вообще думала? Ты меня уничтожила. Ты сама в порядке? Но я, разумеется, ничего такого не говорю.
Я чувствую, как колотится сердце, как звенит в ушах, и чуть не начинается. Но, как ни странно, когда я уже оказываюсь на грани панической атаки, включается какой-то механизм самосохранения, тот самый, благодаря которому я выхожу на сцену к тысячам незнакомцев. Я как будто отстраняюсь от самого себя, отхожу на задний план, меня охватывает спокойствие, а на передний выходит другой человек.
– Собственной персоной, – как будто нет ничего естественнее того, чтобы я пришел на ее концерт, а она вызвала меня в свое святилище. – Концерт удался, – добавляю я, поскольку это кажется тоже уместным. К тому же это правда.
– Спасибо, – говорит Мия, а потом вся съеживается. – Я просто поверить не могу, что ты тут оказался.
Я вспоминаю те три года, когда Мия буквально запрещала мне к ней приближаться, а сегодня я этот запрет нарушил. «Но ты же сама меня позвала», – хочу сказать я.
– Ага. Вообще в Карнеги-холл всякий сброд пускают, – отшучиваюсь я. Хотя я так нервничаю, что моя колкость звучит скорее мрачно.
Мия разглаживает руками юбку. Она уже сменила строгое черное платье на длинную волнистую юбку и рубашку без рукавов. Потом она качает головой, чуть подается ко мне с таким хитрым лицом.
– На самом деле нет. Панкам сюда вход воспрещен. Ты что, не видел предупреждение на входе? Я вообще удивляюсь, что тебя не арестовали, как только ты оказался в фойе.
Мия пытается ответить на мою дурацкую шутку, и, с одной стороны, я ей за это благодарен, рад, что в ней снова проснулось чувство юмора. Но с другой стороны, мне хочется быть жестче, напомнить ей обо всех камерных выступлениях, струнных квартетах и концертах, которые я уже слышал. На которые ходил ради нее. С ней.
– А как ты узнала, что я тут?
– Ты что, смеешься? Адам Уайлд в Карнеги-холле. В перерыве за кулисами все друг другу уши этим прожужжали. Похоже, тут работает куча поклонников «Падающей звезды».
– А я-то думал, что я тут инкогнито, – говорю, глядя на ее ноги. Единственный способ пережить этот разговор – это вести его с босоножками Мии. Ногти у нее накрашены бледно-розовым лаком.
– Ты? Да это невозможно. Ну, как у тебя дела?
Как у меня дела? Ты это серьезно? Я заставляю себя поднять взгляд и впервые смотрю на Мию. Она все так же прекрасна. Хотя красота ее не такая броская, как у Ванессы Легран или Брен Шредер. Она такая скромная, и всегда меня буквально завораживала. Длинные темные волосы сейчас распущены, свободно ниспадают на плечи, все такие же молочно-бледные, покрытые веснушками, которые я раньше так любил целовать. Шрам на левом плече, который некогда был яростным красным рубцом, теперь стал розовым с едва заметным серебристым отливом. В последнее время в татуировках такое модно. Почти даже красиво.
Мия пытается заглянуть мне в глаза, и я боюсь, что мой фасад может рухнуть. Я отворачиваюсь.
– А, да ничего. Хорошо. Очень занят, – отвечаю на ее вопрос.
– Ну да, конечно. Очень занят. У вас турне?
– Ага. Завтра в Лондон.
– А я завтра лечу в Японию.
«В разные стороны», – думаю я, и, к моему удивлению, Мия произносит это вслух.
– В разные стороны, – слова угрожающе повисают в воздухе. Опять вдруг закручивается водоворот. Если я не уберусь отсюда, он поглотит нас обоих.
– Я, пожалуй, пойду, – я слышу, как эти слова произносит тот спокойный парень, который играет роль Адама Уайлда, будто мы с ним стоим в полутора метрах друг от друга.
Мне кажется, что по ее лицу пробегает какая-то тень, но я не уверен, потому что на все мое тело будто накатывают волны, и, клянусь, меня вот-вот вывернет наизнанку. Я уже совсем на грани, но другой Адам все еще работает. Он протягивает Мие Холл руку, хотя меня мысль о том, что мы с ней просто пожмем друг другу по-деловому руки, угнетает.
Мия смотрит на мою протянутую ладонь, открывает рот, чтобы что-то сказать, но вместо этого просто вздыхает. Лицо затвердевает в чужой маске, и она тоже протягивает мне руку.
Я сжился со своим непрекращающимся тремором настолько, что уже его не замечаю. Но когда мои пальцы касаются Мии, он исчезает, и внезапно все стихает, как прекращается электрический гул, когда кто-нибудь выключает усилитель. Я мог бы стоять так вечно.
Но это ведь не более чем рукопожатие. Уже через несколько секунд моя рука снова свободна, и кажется, что часть своего безумия я отдал Мие – мне чудится, что теперь дрожит ее рука. Но я не уверен, потому что чувствую, как меня сносит быстрым течением.
А в следующий момент дверь ее гримерки уже закрывается у меня за спиной, и я оказываюсь на стремнине, а Мия снова там, на берегу.
5
Я знаю, сравнивать уход Мии с катастрофой, которая лишила ее семьи, – пошло и даже мерзко, но я не могу ничего с этим поделать. Потому что итог для меня тот же самый. Первые недели я не мог в это поверить и просыпался каждый день как в тумане. Это же мне просто померещилось, да? Черт, нет. Потом меня корчило от боли. Как от удара кулаком в живот. Только через несколько недель я осознал все в полной мере. Но в отличие от ее катастрофы – когда я был нужен, когда приходил, помогал, когда она могла на меня опереться – после ухода Мии я остался один. Мне не за кого было отвечать. Так что я опустил руки – все начало разваливаться и остановилось.
Я вернулся домой, к родителям. Взял в охапку кое-какие вещи из «Дома рока» и ушел. Я забил на все. На учебу. На группу. На собственную жизнь. Внезапный безмолвный уход. Я лежал, свернувшись калачиком, на своей детской кровати. Я боялся, что все, кому не лень, начнут колотить в дверь и требовать объяснений. Но со смертью всегда так. Сопутствующий ее приходу шепоток разносится быстро и далеко, так что все, наверное, поняли, что я уже труп, раз даже на тело никто не зашел посмотреть. Только несдающаяся Лиз продолжала появляться раз в неделю и приносить сборники музыкальных новинок, которые ей понравились, радостно кладя новый диск на нетронутую стопку.
Родителей мое возвращение как будто бы опечалило. С другой стороны, их расстраивало многое в моем поведении. Мой отец был лесорубом, но эта индустрия начала загибаться, и ему пришлось устроиться на конвейер на заводе электронной аппаратуры. А мама работала в университетской столовой. Для обоих это был уже второй брак, первые оказались просто кошмарными, но детей после них не было, и эту тему никогда не обсуждали; я сам узнал об этом лишь в возрасте десяти лет от дяди с тетей. Я родился довольно поздно и явно неожиданно. И мама любила говорить, что все, что со мной происходило – мое появление, то, что я стал музыкантом, влюбился в девчонку вроде Мии, пошел в колледж, что наша группа так раскрутилась, что я ушел из колледжа, бросил группу, – все было неожиданно. Вопросов по поводу моего возвращения домой они не задавали. Мама приносила мне в комнату еду и кофе на подносике, как тюремному заключенному.
Три месяца я провалялся в постели, жалея, что не впал в кому, как Мия. Так, наверное, было бы проще. Наконец, мне стало стыдно. Я – девятнадцатилетний парень, бросил колледж, живу с родителями, безработный, бездельник, ходячий стереотип. Родители воспринимали все это спокойно, но я стал таким жалким, что меня уже самого начало от этого тошнить. В итоге вскоре после Нового года я спросил у отца, не нужны ли у них на фабрике люди.
– Ты точно уверен, что хочешь этим заниматься? – спросил он. Не этим. Но то, чего я хотел, я получить не мог. Так что я лишь пожал плечами. Они с мамой из-за этого поспорили: она пыталась заставить его отговорить меня от этого.
– Ты разве не хочешь для него лучшей жизни? – доносился ее приглушенный крик с первого этажа. – Чтобы он хотя бы доучился?
– Да речь не идет о том, чего я хочу, – ответил отец.
Так что он поспрашивал у своих, меня пригласили на собеседование, и через неделю я начал работу в отделе ввода данных. С шести тридцати утра до половины четвертого дня я сидел в комнатушке без окон и печатал цифры, не имевшие для меня никакого значения.
В первый рабочий день мама встала пораньше и приготовила мне столько всего на завтрак, что я даже не смог все это съесть, а вот кофе казался недостаточно крепким. Она стояла возле меня в своем стареньком розовом купальном халате и явно волновалась. Когда я уже собрался уходить, она покачала головой.
– Что такое? – спросил я.
– Ты на завод устроился, – сказала она с торжественным видом. – Это меня не удивляет. Именно этого я и ждала от своего сына. – Я не мог понять, из-за кого она больше расстраивается – из-за себя или из-за меня.
Работа оказалась отстойная, но это было неважно. Умственные усилия там не требовались. Вернувшись домой, я спал до вечера, потом просыпался, читал и снова спал с десяти до пяти утра. Мой график выбивался из ритма жизни всего остального мира, но это меня не смущало.
Какое-то время до этого, в районе Рождества, у меня в душе еще тлел огонек надежды. Потому что изначально Мия планировала приехать домой на праздники. У нее даже был обратный билет на девятнадцатое декабря. И я хоть и понимал, что это глупо, но все же рассчитывал, что она ко мне зайдет, объяснится или, еще лучше, извинится. Может, окажется, что это все было какое-то страшное недоразумение. Может, она ежедневно писала мне по электронке, но письма не доходили, и она придет, злая, что я не отвечал, как она злилась из-за всяких глупостей, например, из-за того, что я сказал или не сказал ее друзьям.
Но декабрь как начался, так и кончился, такой же монотонно-серый, хотя с первого этажа порой доносились рождественские песни. А я лежал в кровати.
Только в феврале ко мне пришли.
– Адам, Адам, к тебе гости, – сказала мама, тихонько стуча в мою дверь. Обычные люди в такое время ужинают, а я дрых, для меня это время все равно что полночь. В полубреду я подумал, что это Мия. Но, подскочив, по несчастному лицу мамы я понял, что новости невеселые. – Ким! – объявила она с деланой радостью.
Ким? С лучшей подругой Мии я тоже не общался с августа, когда она уехала в бостонский колледж. И вдруг до меня дошло, что она своим молчанием предала меня точно так же, как Мия. Хотя мы с Ким не дружили, даже когда я встречался с Мией. По крайней мере до аварии. Я до этого не понимал, что Мия и Ким – они как две в одном, вместе. Если теряешь одну, то теряешь и другую. Хотя как еще могло быть?
Но вот Ким пришла. Это Мия ее подослала? Ким неловко улыбалась. Она обнимала саму себя за плечи, словно пытаясь укрыться от влажной ночи.
– Привет. С трудом тебя отыскала.
– Я там же, где и всегда, – ответил я, скидывая одеяло. Увидев, что я в одних трусах, Ким отвернулась, пока я натягивал джинсы. Я взялся за сигареты – курить я начал за несколько недель до этого. По-моему, на заводе все курили. Это был единственный повод сделать перерыв. У Ким от удивления глаза на лоб полезли, будто я пистолет достал. Я отложил пачку.
– Я думала, что ты в «Доме рока», ходила туда. Видела там Лиз с Сарой. Они меня ужином накормили. Я с радостью с ними пообщалась, – Ким смолкла и принялась осматривать мою комнату. Мятые нестираные простыни, закрытые шторы. – Я тебя разбудила.
– У меня график необычный.
– Ага, твоя мама рассказала. Ввод данных? – Ким даже не попыталась скрыть удивление.
На пустой разговор, да еще и начатый покровительственным тоном, я настроен не был.
– Так что тебе нужно, Ким?
Она пожала плечами.
– Ничего. Просто приехала на каникулы. Мы ездили к бабушке с дедушкой в Нью-Джерси на Хануку, а сюда я вернулась впервые, так что решила зайти и поздороваться.
Казалось, что она нервничает. Но и как будто беспокоится за меня. Такое выражение лица было мне уже хорошо знакомо. Как будто я теперь больной. Вдалеке послышался вой сирены. Я рефлекторно почесал голову.
– Вы еще видитесь? – спросил я.
– Что? – Ким почти взвизгнула от удивления.
Я прямо смотрел на нее. И медленно повторил свой вопрос.
– Вы с Мией еще видитесь?
– Д-да, – заикаясь, ответила она. – Хотя не часто. Обе очень заняты, да и поездка от Нью-Йорка до Бостона занимает четыре часа. А так конечно.
«Конечно». Именно эта безусловность произвела на меня такой эффект. Породила желание убивать. К счастью, под рукой ничего тяжелого не оказалось.
– Она знает, что ты тут?
– Нет. Я пришла, потому что я твой друг.
– Ты мой друг?
Ким от моего сарказма побледнела, но вообще она всегда была сильнее, чем казалась. Она не сдалась, не ушла.
– Да, – прошептала она.
– Скажи мне, друг мой. Твоя другая подруга, лучшая, Мия, она тебе сказала, почему меня бросила? Да еще и молча? Вы эту тему обсуждали? Или обо мне вообще даже речи не было?
– Адам, прошу тебя… – с мольбой начала Ким.
– Нет, Ким, я прошу тебя. Пожалуйста, ответь, потому что я вообще ничего не понимаю.
Ким сделала глубокий вдох и расправила плечи. Буквально на моих глазах решимость распрямила ей спину, позвонок за позвонком, словно ее потянули за веревочки, связывающие ее с подругой узами верности.
– Я пришла не о Мии разговаривать. Я с тобой хотела увидеться. Не думаю, что мне следует обсуждать ее с тобой и наоборот.
Ким заговорила как соцработник, непредвзятое третье лицо, и мне снова захотелось ее ударить. За все вот это. Но я просто взорвался.
– Тогда какого черта ты приперлась? Какой от тебя толк? Ты мне кто? Кто ты без нее? Никто! Ничто!
Ким неловко попятилась, но потом снова подняла на меня взгляд – полный не злобы, а нежности. Но это лишь взбесило меня еще больше.
– Адам… – начала она.
– Катись отсюда! – прорычал я. – Не желаю тебя больше видеть!
А Ким такая, ей дважды повторять не надо. Так что она ушла, не сказав больше ни слова.
В тот вечер я не мог ни спать, ни читать, просто ходил по комнате несколько часов подряд. И пока я стаптывал старенький дешевенький родительский ковер, во мне нарастала какая-то лихорадка. Она казалась мне живой и неизбежной, как, бывает, с похмелья точно знаешь, что тебя вот-вот вырвет. У меня зудело все тело, и это чувство требовало выхода наружу, пока, наконец, оно не прорвалось с такой силой, что я сначала принялся колотить по стене, а потом, поскольку было недостаточно больно, по оконному стеклу. Осколки резали руки, и боль, а затем и порыв холодного февральского воздуха принесли достаточное удовлетворение. И от этого же шока у меня внутри словно что-то пробудилось от глубокого сна.
В эту ночь впервые за год я взял в руки гитару.
И снова начал писать песни.
За неделю я сочинил больше десятка. Через месяц снова собралась группа, и мы начали их играть. Через два подписали крупный контракт. Через четыре уже записывали «Косвенный ущерб», в который вошло пятнадцать новых песен, сочиненных мной в бездне моей детской спальни. Через год он уже был в чартах «Билборда», а «Падающая звезда» – на обложках международных журналов.
Я подумывал о том, что должен извиниться перед Ким или даже поблагодарить ее. Может, и то и другое. Но когда я это понял, казалось, что изменилось слишком многое и момент упущен. Да, по правде говоря, я до сих пор и не знаю, что ей лучше сказать.
6
Я твой бардак, ты – мой,
Решили мы с тобой.
Взяв противогаз, перчатки
Я прибрал твои остатки
Все сверкает чистотой
Никчемной жизни и пустой.
«Бардак»Косвенный ущерб», трек № 2
Я выхожу на улицу, руки трясутся, а в кишках идет революция. Достав пузырек, я понимаю, что таблетки кончились. Черт! Похоже, Алдус скормил мне в машине все. А в отеле-то осталось? До завтрашнего перелета непременно надо раздобыть еще. Я пытаюсь нащупать телефон, но вспоминаю, что бросил его в номере из-за своего идиотского желания никого не слышать.
Вокруг собираются люди, и их взгляды задерживаются на мне как-то уж слишком надолго. Вот только не хватало, чтобы меня узнали. Я сейчас с этим не справлюсь. Я вообще ни с чем не справлюсь. Не хочу. Ничего не хочу.
Хочу все бросить. Прекратить свое существование. В последнее время это желание охватывает меня очень часто. Не умереть. Не убить себя. Нет, все это глупости. Скорее я просто не могу перестать думать о том, что, если бы я вообще не родился, у меня сейчас не было бы этих шестидесяти семи ночей впереди, я не оказался бы тут после этой вот беседы с ней. «Ты сам виноват, что приперся, – напоминаю себе я. – Не надо было и лезть».
Я прикуриваю в надежде, что табак успокоит меня и я смогу дойти до отеля, позвонить Алдусу, чтобы он все уладил, может, даже посплю несколько часов, чтобы этот кошмарный день, наконец, остался уже позади.
– Бросил бы ты.
От ее голоса меня встряхивает. Но в то же время и как-то становится спокойнее. Я поднимаю глаза. Мия раскраснелась, но, как ни странно, улыбается. Дышит она тяжело, как будто бежала. Может, за ней тоже гоняются поклонники. Например, та парочка старичков в смокинге и жемчугах ковыляет по пятам.
Я даже смутиться не успеваю, потому что Мия снова рядом, стоит передо мной, как в те времена, когда мы жили с ней в одном временном и пространственном континууме, то и дело натыкаясь друг на друга, и хотя это каждый раз казалось счастливым совпадением, все же в этом не было совершенно ничего необычного или сверхъестественного. Мне вспоминается сцена из «Касабланки»[11], когда Богарт говорит: «И надо же было ей из всех баров мира зайти именно в мой». Но тут приходится снова себе напомнить, что это я зашел в ее бар.
Последние разделяющие нас пару метров Мия преодолевает медленно, словно я пугливый кот, которого ей предстоит поймать. Она смотрит на мою сигарету.
– И давно ты начал? – спрашивает она. Будто и не было всех разделивших нас лет, и Мия забыла, что уже не имеет права меня критиковать.
Хотя в данном случае это заслуженно. Я в свое время резко отрицательно относился к никотину.
– Да, я знаю, избито, – признаю я.
Мия посматривает то на меня, то на сигарету.
– Можно мне тоже?
– Тебе?
Когда Мие было лет шесть, она прочла в какой-то детской книге рассказ о девочке, заставившей своего отца отказаться от никотина, и взялась за собственную мать, которая то начинала, то бросала. У Мии ушло несколько месяцев, но она победила. К моменту нашего знакомства Кэт совсем не курила. Отец Мии, Дэнни, попыхивал трубкой, но, по-моему, в основном напоказ.
– И ты теперь тоже куришь? – спрашиваю я.
– Нет. Но у меня мощный прилив чувств, говорят, сигареты помогают расслабиться. Эти эмоции после концерта – меня иногда распирает, я нервничаю.
– Ага, со мной после выступлений тоже бывает, – говорю я, кивая.
Я достаю ей сигарету; рука у Мии все еще дрожит, так что я все никак не могу прикурить. У меня даже рождается желание схватить ее за запястье, чтобы положить этому конец. Но я сдерживаюсь. Вместо этого я продолжаю водить у кончика ее сигареты зажигалкой, пока, наконец, в ее глазах не отражается огонек. Мия затягивается, выдыхает, слегка кашляет.
– Адам, я не про концерт, – говорит она, а потом силится сделать новую затяжку. – Я про тебя.
Я начинаю испытывать волнообразные покалывания во всем теле. «Успокойся, – говорю себе я. – Ты свалился как снег на голову, она разнервничалась». Но я все же польщен, что Мия на меня как-то отреагировала – даже если испугалась.
Какое-то время мы молча курим. А потом раздается урчание. Мия раздраженно встряхивает головой и опускает взгляд на собственный живот.
– Помнишь, как я всегда паниковала перед выступлениями?
Да, Мия тогда так нервничала, что ничего не ела, а после этого накидывалась на пищу, как изголодавшийся хищник. Мы любили ходить в один мексиканский ресторанчик либо же придорожную забегаловку, где брали картошку фри с соусом и кусок пирога – Мия любила это больше всего.
– Ты когда последний раз ела? – интересуюсь я.
Снова бросив на меня взгляд, она тушит выкуренную наполовину сигарету. Потом качает головой.
– Перед Карнеги-холлом? Да несколько дней назад. Кишки весь концерт сводили меня с ума. Уверена, что их урчание даже на балконе было слышно.
– Нет, только виолончель.
– Это хорошо. Надеюсь.
Мы еще секунду стоим молча. У Мии снова урчит в животе.
– Картошка фри с пирогом все еще на первом месте? – спрашиваю я. И вспоминаю, как мы сидели за столиком дома, в Орегоне, Мия размахивала вилкой, критикуя собственное выступление.
– Пирог уже нет. По крайней мере, в Нью-Йорке. Сплошное разочарование. Фрукты почти всегда консервированные. И ежевики тут нет. Как такое вообще возможно, чтобы на другом побережье не было таких же ягод?
Как возможно, что парень у тебя сегодня есть, а завтра нет?
– Не могу сказать.
– Но картошка фри пойдет. – Мия смотрит на меня с обнадеживающей полуулыбкой.
– Я тоже люблю картошку фри, – говорю я. «Я тоже люблю картошку фри?» Да я похож на ребенка с задержкой развития в каком-нибудь телефильме.
Ее трепещущий взгляд встречается с моим.
– А ты есть хочешь? – спрашивает она.
Всегда хочу.
Я иду за ней по Пятьдесят седьмой улице, затем по Девятой авеню. Шагает Мия быстро (уезжая, она еще хромала, а теперь от этого не осталось и следа) и целенаправленно, как все нью-йоркцы, показывая на ходу достопримечательности, словно настоящий экскурсовод. Я вдруг понимаю, что даже не знаю, живет ли она здесь до сих пор, или только приехала на концерт.
«Можно же спросить, – говорю себе я. – Вполне естественный вопрос.