Тропы песен Чатвин Брюс
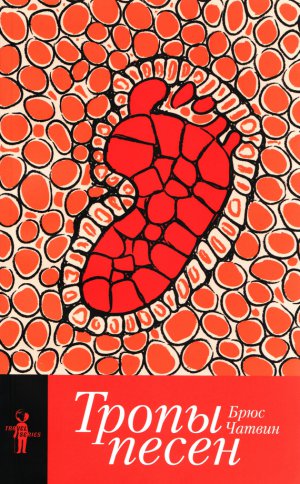
Потом, после еще нескольких стопок водки, он заключил меня в братские, панъевропейские объятия и, растянув себе глаза в узкие щелки, спросил:
— Мы же терпеть вот этого не можем, правда?
— Только не я, — ответил я.
Le Desert est monotheiste. [49] Этот афоризм Ренана подразумевает, что чистый горизонт и слепящее небо должны очищать разум от всего постороннего, позволяя ему сосредоточиться на Высшем Божестве. Но ведь жизнь в пустыне совсем иная!
Чтобы выжить, обитатель пустыни — будь он туарег или австралийский абориген — должен развить в себе безошибочное чувство сторон света. Он должен непрерывно расшифровывать, называть, сопоставлять тысячу различных «знаков» — от следов жука-навозника до узора песчинок на поверхности дюны, — чтобы понять, где находится он сам; где находятся другие; где выпадал дождь; где ему доведется в следующий раз поесть; будут ли ягоды на растении Y, если растение X сейчас в цвету, и так далее.
Парадокс монотеистических религий состоит в том, что, хотя они и зародились в пустыне, сами народы пустыни выказывают решительно рыцарственное безразличие к Всевышнему. «Мы отправимся к Богу и поклонимся ему, — заявил Пэлгрейву [50] один бедуин в 1860-х годах, — и, если он окажется гостеприимен, то мы останемся с ним: если же нет, то мы сядем на коней и поедем от него прочь».
Мухаммед говорил: «Не может стать пророком человек, который прежде не был пастухом». Однако он же был вынужден признать, что арабы, живущие в пустыне, — «самый закоснелый в вероломстве и лицемерии народ».
До недавних пор бедуину, кочевавшему вблизи Мекки, и в голову не приходило, что стоит хотя бы раз в жизни обойти мусульманские святыни. Однако хадж, «священное путешествие», являлось само по себе «ритуальным» кочевьем: оно было призвано отъять людей от их грешных жилищ и восстановить, пускай временно, равенство всех людей перед лицом Бога.
Паломник во время хаджа заново обретал первичное состояние Человека, а если он умирал, совершая хадж, то, как мученик, отправлялся прямиком в Рай. Точно так же выражение Илъ-Рах, «Путь», вначале служило «техническим термином» и применялось к «дороге», или «пути переселения», — и лишь потом было подхвачено мистиками и стало обозначать «Путь к Богу».
Это понятие имеет соответствие в центрально-австралийских языках, где выражение tjurna djugurba означает «отпечатки следов Предка» и «Путь Закона».
Похоже, где-то в самых глубинах человеческого сознания всегда существовала связь между «нахождением пути» и «законом».
Для араба-бедуина Ад — это солнечное небо. Солнце — это крепкая, костлявая старуха, скаредная и ревнивая к жизни. Она иссушает пастбища и опаляет кожу людей.
Луна, же, напротив, — это гибкий и полный сил юноша, который охраняет сон кочевника, сопровождает его в ночных переходах, приносит дождь и увлажняет растения росой. К несчастью, он женат на старухе-солнце. Проведя с ней одну-единственную ночь, он начинает чахнуть и таять. Ему требуется целый месяц, чтобы восстановить силы.
Норвежский антрополог Фредрик Барт пишет о том, как в 1930-е годы Реза-шах запретил бассери, одному из иранских кочевых племен, переселяться с их зимних пастбищ.
В 1941 году шах был низложен, и бассери вновь были вольны совершать путешествие длиной в 450 км к горам Загрос. Свобода у них была — но скота уже не осталось: их тонкорунные овцы задохнулись на южных равнинах. Но все-таки бассери пустились в путь.
Они вновь сделались кочевниками, а значит, вновь стали людьми. «Для них наивысшей смысл, — писал Барт, — заключался в свободе переселения, а не в обстоятельствах, которые делают это переселение экономически целесообразным».
Когда Барт дошел до недостатка ритуала у бассери — или до отсутствия хоть каких-нибудь укорененных верований, — он заключил, что само Странствие и было ритуалом, что дорога к летним высокогорным пастбищам и была Путем, а установка и разборка шатров были молитвами куда более осмысленными, чем те, что звучат в мечетях.
Набеги — вот наше земледелие.
Бедуинская поговорка
Я против брата,
Мы с братом против двоюродного брата,
Я, брат и двоюродный брат против соседей,
Все мы против чужестранца.
Бедуинская поговорка
В 1928 году арабист Алоис Музиль (брат Роберта), подсчитал, что у бедуинов племени руала четыре пятых мужчин погибают в войнах, в междоусобных распрях или умирают от полученных ран.
С другой стороны, охотники, которые совершенствуются в искусстве минимума, намеренно ограничивают свою численность, и потому их жизнь и земля находятся в куда большей безопасности. Спенсер и Гиллен писали о туземце Центральной Австралии, что, хоть он изредка и может участвовать в ссорах и стычках, сама идея присвоить кусок чужой территории даже не приходит ему в голову: такое отношение можно объяснить «верой в то, что его предки, жившие во Время Сновидений (Алчеринга), занимали в точности тот же участок земли, что занимает теперь он сам».
Пастушья этика в Австралии:
Кто-то в министерстве по делам аборигенов — кажется, сам министр — заметил, что на Северной Территории «скот, принадлежащий иностранцам», имеет больше прав, чем австралийские граждане.
Пастушья этика в древней Ирландии:
С тех пор, как я взял в руки копье, не было и дня, чтобы я не убивал по человеку из Коннаута.
Коналл Кернах, ольстерский скотовод
Любое кочевое племя — это военная машина в зародыше, всегда готовая если не напасть на других кочевников, то устроить набег на город или угрожать его жителям.
И потому оседлые жители исстари набирали из кочевников воинов-наемников: или для того, чтобы отразить угрозу кочевников (так казаки бились за царя против татар); или, если кочевников рядом не было, для войны против других государств.
В Древней Месопотамии такие «наемники» вначале преобразовались в касту военной аристократии, а затем и в правителей Государства. А еще можно выдвинуть такую гипотезу: Государство как таковое возникло в результате «химического» слияния скотовода с земледельцем, которое произошло, как только выяснилось, что приемы принуждения скота к покорности можно применять к инертным крестьянским массам.
Первые в мире диктаторы, помимо того что были «владыками орошающих вод», называли себя «пастырями народов». В самом деле, во всем мире есть слова, одинаково применимые к «рабам» и «одомашненной скотине». Массы можно пригонять, доить, ограждать (чтобы защитить их от враждебных людей — «волков») — и, когда настает необходимость, вести на бойню.
Таким образом, Город есть овчарня, сооруженная в Саду и вытеснившая его.
Возможно еще одно объяснение (которое вполне применимо к игровой теории войн): а именно, что армия, любая профессиональная армия или военное ведомство, являются, сами того не зная, племенем суррогатных кочевников, которое выросло уже внутри Государства; которое кормится подачками Государства; без которого Государство рухнуло бы; однако неугомонность этих «кочевников» в конечном счете губительна для Государства, потому что они постоянно, как оводы, подстрекают его к действиям.
«Труды и дни» Гесиода предлагают метафорическую модель того, как вместе с техническим прогрессом происходит падение человечества. Его человеческие поколения от Золотого века переходят к Серебряному, Бронзовому и Железному. Бронзовый и Железные века были реальностью, подкрепленной археологией. Гесиод знал о них не понаслышке; они завершились небывалым всплеском войн и насилия. Он явно не мог ничего знать о палеолите и неолите, так что его «золотое» и «серебряное» поколения служат символическими понятиями. Выстроенные в порядке, обратном качествам металлов, эти поколения, сменяющие друг друга, представляют процесс вырождения: от непортящегося — к запятнанному, разъеденному и ржавому.
Люди «золотого» поколения, рассказывает Гесиод, жили в ту пору, когда Небесами правил Хронос, или «Природное Время». [51]. Земля дарила им изобилие. Они жили счастливо и беззаботно, беспечно скитаясь по своим землям, не имея ни добра, ни домов и не ведя войн. Они ели сообща, и их сотрапезниками были бессмертные боги. Умирали они, не чувствуя дряхлости в руках и ногах: их словно окутывал сон.
В христианскую эпоху Ориген («Против Цельса», IV, 79) опирался на текст Гесиода, утверждая, что в самом начале человеческой истории люди пребывали под защитой сверхъестественных сил, а потому еще не было разделения между их божественным и человеческим естеством; или, если несколько переиначить это высказывание, еще не было противоречия между инстинктами человека — и его разумом.
В Ливии, в стране диких зверей, живут гараманты, которые сторонятся людей и избегают всякого общения. У них нет никакого оружия ни для нападения, ни для защиты.
Геродот, IV, 17465[52].
Ранние христиане полагали, что, вернувшись в пустыню, они смогут взять на себя муки Христа времен скитаний по Пустыне.
Они бродят по пустыне, будто дикие звери. Подобно птицам они носятся по холмам. Они добывают себе корм, как животные. Их путь каждый день неизменен и предсказуем, ибо они питаются кореньями, естественными порождениями Земли.
Из «Духовного луга» Св. Иоанна Мосха, описание отшельников, прозванных «восками».
В мифах любого народа сохранена память о невинности первых людей — Адама в Райском саду, миролюбивых гиперборейцев, обитателей Уттаракуру, или «людей безупречной добродетели» даосов. Пессимисты часто усматривают в рассказах о Золотом веке привычку отворачиваться от сегодняшних бед и вздыхать о счастливых днях юности. Однако в описаниях Гесиода нет ничего такого, что выходило бы за рамки правдоподобия.
У реальных или полувымышленных племен, помещаемых на окраины ведомых земель на древних географических картах, — у всех этих атавантов, фенни, парросситов или пляшущих сперматофагов, — имеются сегодняшние «двойники»: бушмены, шошоны, эскимосы и аборигены.
Одна характерная примета людей Золотого века: в сказаниях всегда говорится, что они блуждали.
На побережье Мавритании, недалеко от того места, где потерпела крушение «Медуза» (с картины Жерико «Плот Медузы»), я увидел хлипкие пристанища имрагенов — касты рыбаков, которые ловят неводами кефаль и пользуются — с весельем и изяществом — тем же статусом парий, что и немади.
Похожие рыбацкие хижины стояли, должно быть, на берегах моря Галилейского: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».
Другой взгляд на Золотой век — это взгляд «антипримитивистов»: они считают, что человек, сделавшись охотником, стал охотиться на себе подобных и умерщвлять их.
Это очень удобная доктрина, если а) хочешь убивать других; б) если хочешь принять «драконовские» меры для того, чтобы не дать убийственным порывам людей вырваться из-под контроля.
В обоих случаях Дикарь представляется существом низким и злобным.
В своих «Размышлениях об охоте» Ортега-и-Гассет отмечает, что охота (в отличие от насилия) никогда не бывает обоюдной: охотник охотится, а дичь пытается убежать. Леопард, раздирая антилопу, свирепствует и злится на нее ничуть не больше, чем антилопа — на траву, которую она жует. Во многих рассказах об охотниках специально подчеркивается, что само умерщвление — это миг сострадания и благоговения: благодарности животному, которое согласилось умереть.
Один «буши» в пабе в Глен-Армонде обернулся ко мне и спросил:
— Знаешь, как мы, черные, охотимся?
— Нет.
— Инстинкт.
31
В одной из своих ранних записных книжек я сделал аккуратные выписки из «Дневника» сэра Джорджа Грея, писавшегося в 1830-е годы. Грей был, пожалуй, первым белым исследователем, который понял, что, несмотря на временные неудобства, аборигенам «живется хорошо».
Лучшее место в его «Дневнике» — это описание чернокожего, который напрягает все свои телесные и умственные силы, чтобы выследить и убить кенгуру.
Последний абзац закручивается в коду:
…его грациозные движения, осмотрительное приближение, тот покой и отдохновение, которым пронизан весь его облик, когда добыча его вспугнута, — ото всего этого невольно трепещет воображение, и так и хочется прошептать себе самому: «Как красиво! Как же это красиво!»
Я одурачил самого себя, решив, что эта «красота» хотя бы частично должна была дожить до наших дней. Я попросил Рольфа отыскать человека, который взял бы меня на охоту.
Я уже пару недель просидел тут без дела, и меня стало одолевать то отвращение к словам, которое обычно возникает из-за отсутствия физической активности.
— Лучше всего на охоту отправляться с Алексом Тджангапати, — сказал мне Рольф. — Он немного говорит по-английски.
Алекс был стариком с волосами, зачесанными вверх и стянутыми охряным жгутом. Он ходил в бархатном темно-фиолетовом женском пальто с плечиками. Не думаю, что под ним было надето еще что-нибудь. Он каждый день отправлялся бродить по бушу, а по вечерам шатался по магазину, не расставаясь со своими охотничьими копьями, и глазел на остальных обитателей Каллена как на настоящий сброд.
Когда Рольф попросил его взять с собой на охоту меня, Алекс состроил обиженно-недовольное лицо и зашагал прочь.
— Ну, вот и договорились, — сказал я.
— Ничего! — утешил меня Рольф. — Найдем кого-нибудь другого.
На следующий день около полудня в Каллен приехал на грузовике Коротышка Джонс. Он первым сумел проехать через разлив. Хотя по пути он увяз на день и на ночь по эту сторону от Попанджи, и ребятам из «Магеллан Майнинг» пришлось вытаскивать его.
С ним приехала девушка. Это была подруга Дона, завхоза.
— Хорошая девчонка, — сказал Коротышка, подмигнув.
У нее были стриженые волосы и грязное белое платье. Дон, похоже, очень обрадовался, увидев ее, но она обвела его холодным оценивающим взглядом, а потом продолжала улыбаться Коротышке.
— Я совсем не жалею о том, что мы завязли, — сказала она.
Мы с Доном помогли выгрузить коробки из грузовика. Мы почти закончили работу, когда вышел Рольф.
— Ты все еще хочешь поехать на охоту? — спросил он меня.
— Да, сказал я.
— Заплатишь за полный бак бензина?
— Ну, если надо.
— Я уже договорился.
— С кем?
— С Донки-донком, — сказал он. — Хороший мужик!
— А когда?
— Сейчас, — сказал он. — Так что ступай надевать сапоги. И шляпу не забудь!
Я шел к своему каравану, когда сзади, скрипя и дребезжа, подъехал старенький раздолбанный «форд-седан». За рулем сидел бородатый абориген с толстым брюхом.
— Это ты едешь на охоту? — ухмыльнулся он.
— С тобой?
— Ну! — ответил Донки-донк.
Мы заехали купить бензина, но, заплатив за бак, я сразу же понял, что играю в этой экспедиции роль не «клиента», а «раба».
Донки-донк заставил меня купить еще масла, пуль, шоколадок, сигарет. Он хотел, чтобы я купил ему новую покрышку. Он велел мне подержать для него сигарету, пока сам возился с мотором.
Мы уже собирались трогаться, когда к нам подошел молодой человек по имени Уокер. Уокер был бывалым путешественником. Он изъездил вдоль и поперек всю Австралию, очень привередливо подыскивая себе жену. Еще он провел некоторое время в амстердамской Молодежной христианской организации. Он был очень красив. У него был божественный профиль и очень темная кожа. Волосы и борода у него были цвета золотой нити.
— Поедешь с нами на охоту? — крикнул ему Донки-донк.
— Конечно, — сказал Уокер и сел на заднее сиденье.
Мы поехали за человеком, у которого было ружье. Это был еще один невероятно изящный молодой человек с беспомощной улыбкой и волосами до плеч. Он сидел возле шалаша из валежника. У него на джинсах красной ручкой было множество раз написано его имя — «Нерон».
Женой Нерона, как оказалось, была та самая великанша, которую я уже видел за покером. Она была на добрую голову выше мужа и раза в четыре шире. Она сидела у очага за своим шалашом и грызла обугленный окорок кенгуру. Когда Нерон сел в машину, за ним побежал их маленький сынишка и нырнул туда же через открытое окно. Мать погналась за ним, размахивая своей дубинкой из кости кенгуру. Она вытащила мальчишку за волосы и плюнула ему в лицо.
Мы минуты две уже ехали, как вдруг Нерон обратился к остальным:
— Спички взяли?
Донки-донк и Уокер покачали головами. Мы развернулись обратно — за спичками.
— Для костра, — ухмыльнулся Нерон. — Если завязнем.
Мы поехали на юг между горами Каллен и Либлер и спустились к шоссе Ган-Бэррел. После дождя на кустарниках распускались желтые цветочки. Дорога начиналась и пропадала в мираже, а над равниной будто плыла цепь каменистых холмов.
Я показал на красноватый выход породы слева.
— Это что там такое? — спросил я.
— Старик, — радостно вызвался ответить Уокер.
— А откуда этот Старик идет?
— Издалека. Может, из Аранды. Может, из Сиднея.
— А куда он идет?
— В Порт-Хедленд, — ответил он уверенно.
Порт-Хедленд был железорудным портом на западном побережье Австралии, примерно в тысяче двухстах километрах к западу от Каллена, за пустыней Гибсона.
— А что происходит с этим Стариком, — спросил я, — когда он добирается до моря?
— Всё, — ответил Уокер. — Там ему конец.
Потом я указал на низкий плосковерхий холм — как уверял меня Рольф, это была куча дерьма, которую наложил там Человек — Перенти во Времена Сновидений.
— А это что, вон там?
Уокер нервно затеребил бороду.
— Я еще слишком молод, — сказал он застенчиво: это означало, что он еще не проходил посвящения в ту песню, где говорилось об этом холме.
— Спроси у Нерона, — сказал он. — Нерон знает.
Нерон захихикал и покачал головой из стороны в сторону.
— Это Туалет, — сказал он. — Дерьмо.
Донки-донк лопался со смеху, так что машину раскачивало.
Я повернулся назад, поглядеть на тех двоих на заднем сиденье.
— Дерьмо Перенти? — спросил я.
— Нет, нет, — глупо хихикнул Нерон. — Тут Двое Мужчин.
— А откуда пришли эти Двое Мужчин?
— Ниоткуда не пришли. — Он хлопнул в ладоши. — Занимаются там этим самым.
Нерон сделал жест большим и указательным пальцами, чтобы стало понятно, чем именно заняты те Двое.
— Свояки, — добавил он.
Уокер нахмурился, надул губы и плотно сжал колени.
— Я тебе не верю, — заявил я Нерону. — Ты меня дурачишь.
— Хи! Хи! — рассмеялся тот, а потом зашелся очередным приступом беспомощного хихиканья.
Они с Донки-донком еще фыркали от смеха, когда, примерно через милю, мы остановились вблизи нескольких низко лежащих скал. Все трое выпрыгнули из машины.
— Пошли! — позвал меня Нерон. — Здесь вода.
Между скал оказалось три озерца со стоячей водой. В них извивались личинки комаров.
— Солитеры, — сказал Нерон.
— Это не солитеры, — сказал я. — Это личинки комаров.
— Динго, — сказал Донки-донк.
Он указывал на самую крупную скалу, которая действительно походила на лежащую собаку. А скалы поменьше, сказал он, — это ее щенки.
Они несколько минут плескались в воде. Потом мы съехали с дороги и поехали на запад по равнине.
Донки-донк, надо сказать, был потрясающим водителем. Он заставлял свою машину чуть не плясать вокруг колючек. Он всегда безошибочно угадывал, где нужно объехать куст, а где можно проехаться прямо по нему. Семенные коробочки так и сыпались на ветровое стекло.
Нерон выставил дуло своей винтовки в окно.
— Следы индейки, — прошептал он.
Донки-донк притормозил, и индейка (здесь это разновидность дрофы) подняла над стеблями травы свою пеструю шею и бросилась от нас наутек. Нерон выстрелил, и птица свалилась, мелькнув взметнувшимися перьями.
— Удачный выстрел! — заметил я.
— Еще одна! — закричал Уокер, и в чащу кустов пробежала вторая дрофа. Нерон снова выстрелил — и промахнулся. Когда он подбежал к первой дрофе, она тоже успела куда-то исчезнуть.
— Хренова индюшка, — выругался Нерон.
Мы продолжали ехать на запад, и вскоре впереди показалась самка кенгуру с детенышем. Донки-донк нажал ногой на педаль газа, и машина с глухим стуком запрыгала по кочкам, но кенгуру скакали впереди, обгоняя нас. Потом кочки и кусты закончились, мы очутились на ровной, выжженной местности — и тут уже опережать стали мы. Мы нагнали кенгуру, ранили самку в бедро (детеныш ускакал куда-то в сторону), и она, сделав кувырок назад, отлетела на крышу автомобиля и плюхнулась на землю — мертвой, только бы мертвой! — подняв облако пыли и пепла.
Мы выскочили из машины. Нерон выстрелил в облако пыли, но кенгуру уже поднялась и побежала, пошатываясь и хромая, однако развивая по-прежнему бешеную скорость, а Донки-донк, оставшийся за рулем, снова настигал ее.
Мы видели, как машина второй раз врезалась в кенгуру, но та шлепнулась на капот, соскочила и помчалась в нашу сторону. Нерон пару раз выстрелил, но промазал — пули просвистели куда-то в кусты, сбоку от меня, а кенгуру зигзагом понеслась в обратную сторону. Тогда Донки-донк снова сорвался с места и врезался в нее в третий раз, с чудовищным звуком. Теперь она уже не шевельнулась.
Он распахнул дверь автомобиля и гаечным ключом нанес ей удар в основание черепа — но тут она снова вскочила на ноги, так что ему пришлось хватать ее за хвост. Когда мы втроем подбежали, кенгуру уже улепетывала, и Донки-донк висел на ней, будто спортсмен, тянущий канат. Наконец Нерон прострелил ей голову, и все было кончено.
У Уокера на лице было написано недовольство и разочарование.
— Мне она не нравится, — сказал он.
— Мне тоже, — согласился я.
Нерон разглядывал убитую кенгуру. Из ее ноздрей на рыжую землю стекал ручеек крови.
— Старая, — поморщился он. — Невкусная.
— А что ты с ней будешь делать?
— Здесь оставлю, — сказал он. — Может, хвост отрежу. У тебя нож есть?
— Нет, — сказал я.
Нерон пошарил в машине и отыскал крышку от старой жестяной банки. Используя ее вместо лезвия, он попытался отпилить хвост, но позвонки не поддавались.
Задняя левая шина спустилась. Донки-донк приказал мне достать домкрат и поменять колесо. Домкрат был сильно погнут, и, стоило мне несколько раз надавить, что-то щелкнуло, и шпиндель полетел на землю.
— Ну вот, ты сломал его, — ухмыльнулся тот.
— Что будем делать? — спросил я.
— Пешком топать, — сказал Нерон, хихикнув.
— Сколько?
— Дня два, наверно.
— Может, костер развести? — предложил я.
— Не-ет! — проворчал Донки-донк. — Поднимай ее! Поднимай ее, мужик!
Мы с Уокером взялись за бампер, изо всех сил уперлись в него спинами и попытались приподнять, а Донки-донк стоял с бревном наготове, чтобы подсунуть его под дифференциал.
Ничего не вышло.
— Давай ты тоже! — крикнул я Нерону. — Помоги нам!
Тот сложил пальцы и пробежался ими по одному из своих стройных бицепсов, хлопая ресницами и хихикая.
— Нет сил! — сказал он почти беззвучно.
Донки-донк вручил мне палку-копалку и велел выкопать яму под шиной. Полчаса спустя яма была уже достаточно велика, чтобы можно было сменить колесо. Пока я работал, все трое смотрели. Я выдохся и взмок. Потом мы стали раскачивать машину туда-сюда и наконец сдвинули ее с места.
Оставив кенгуру на съеденье воронью, мы поехали обратно в Каллен.
— Завтра хочешь поехать на охоту? — спросил меня Донки-донк.
— Нет, — сказал я.
Я слушал публичную лекцию Артура Кестлера, рассуждавшего на тему безумия человеческого рода. Он утверждал, что, в результате неадекватного взаимодействия между двумя зонами мозга — «рациональным» неокортексом и «инстинктивным» гипоталамусом — Человек каким-то образом развил в себе «уникальную бредовую наклонность к убийству», которая неизбежно побуждает его умерщвлять, истязать себе подобных и вести бесконечные войны.
Наши доисторические предки, говорил он, не страдали от последствий перенаселения. Они не испытывали недостатка в территории. Они не жили в больших городах… и все-таки они убивали друг друга.
Потом он стал говорить о том, что после Хиросимы произошла полная перестройка «структуры человеческого сознания»: впервые за всю историю своего существования Человек столкнулся с мыслью о том, что он может быть уничтожен как вид.
Этот эсхатологический треп изрядно разозлил меня. Когда настало время для вопросов из зала, я поднял руку.
Перед наступлением 1000 года, сказал я, вся Европа была объята страхом близкого и неминуемого конца света. Так в чем же разница между «структурой сознания» средневековых людей — и нашей собственной?
Кестлер смерил меня презрительным взглядом и, к одобрению слушателей, изрек:
— В том, что светопреставление — это выдумка, а водородная бомба — реальность.
Душеполезное чтение для конца Второго тысячелетия — книга «Lan mil» [53] Анри Фосийона.
В главе «Проблема страхов» Фосийон показывает, как ровно тысячу лет назад западный человек был парализован схожими пугающими представлениями, распространением которых занимались тогдашние фанатики, считавшиеся государственными мужами. Выражение Mundus senescit, «Мир стареет», свидетельствовало об атмосфере тягчайшего интеллектуального пессимизма, а также отражало «религиозное» убеждение в том, что мир — это живой организм, который, достигнув вершины зрелости, неизбежно обречен погибнуть.
Страх перед концом света принимал три формы. Люди боялись, что:
1. Бог уничтожит свое творение, окутав его огнем и серой.
2. Что с Востока примчатся легионы сатаны.
3. Что человечество выкосят повальные болезни.
И все-таки эти страхи удалось преодолеть! 1000 год пришел и прошел, и укоренилось новое «открытое» общество Средневековья. Как очаровательно написал об этом епископ Глабер: «Три года спустя после 1000 года Земля покрылась белоснежным нарядом из церквей».
В гости пришел очень высокий американец. Он оказался в Лондоне проездом, направляясь в Вашингтон после командировки во Вьетнам, где занимался расследованием. За последнюю неделю он побывал на Гавайях, в Гуаме, в Токио и Сайгоне. Он пролетал над Ханоем в ходе воздушного налета. Он совещался с натовскими штабными начальниками — а сегодня у него выдался свободный вечер.
Он был невинным человеком. За салатом он рассуждал о дефолиантах. Я никогда не забуду, как у него по губам растекался малиновый сок, а из них вылетала чеканная дробь слов, прогибавшихся под сильными ударениями: «Северные вьетнамцы уже потеряли между третью и половиной поколения своих молодых боеспособных мужчин. Это жертва, которой ни одна нация не может приносить бесконечно; а потому мы и предвидим нашу военную победу во Вьетнаме уже в течение 1972 года…»
Не тесни врага, загнанного в угол.
Принц Фу-Цяй говорил: «Дикие звери, будучи загнанными в угол, дерутся отчаянно. Так сколь же это верно и о людях! Когда им известно, что выхода нет, они бьются насмерть.»
Сюн Цзы, «Искусство войны»
Перед визитом к Лоренцу я путешествовал по горам Роттенманнер-Тауэрн с рюкзаком, набитым его книгами. Дни стояли безоблачные. Каждую ночь я проводил в новом альпийском домике, ужинал сосисками с пивом. Горные склоны сплошь покрывали цветы: горечавки и эдельвейсы, водосборы и лилии. Солнечный, свет «заливал изумрудную синеву сосновых лесов, а кое-где на осыпях еще виднелись пласты снега. На лугах повсюду паслись кроткие бурые коровы, звяканье их бубенцов эхом разносилось над равнинами — или то были отголоски далекого звона церковных колоколов…
Строка Гёльдерлина: „Виден мне город вдали, он мерцает, как панцирь железный…“ [54].
Путешественники: мужчины и женщины в красно-белых рубашках и кожаных штанах. Все, проходя мимо, кричали: „Grass Gott!“ [55]. Один заскорузлый коротышка принял меня за немца и с плотоядной гримасой торговца порнографией откинул лацкан пиджака, чтобы показать мне свои свастики.
Перечитывая Лоренца, я понял, почему благоразумные люди в ужасе вскидывают руки — и принимаются дружно отрицать, что существует такая вещь, как человеческая природа, и настаивать на том, что всему необходимо учиться заново.
Они чувствуют, что „генетический детерминизм“ представляет угрозу для всех либеральных, гуманных и демократических ценностей, за которые все еще крепко держится западный мир. Понимают они и то, что инстинкты нельзя выбирать: нужно принимать их все, скопом. Нельзя пустить в Пантеон Венеру — и захлопнуть дверь перед носом у Марса. А приняв „борьбу“, „территориальное поведение“ и „порядок старшинства“, вы вновь увязнете в реакционном болоте XIX века.
Что особенно привлекло в труде „Об агрессии“ идеологов „холодной войны“ — так это выдвинутое Лоренцем понятие „ритуального“ сражения.
Сверхдержавы по определению должны сражаться, потому что это стремление заложено в их природе; однако можно выбрать местом для своих стычек какую-нибудь бедную, маленькую, желательно беззащитную страну — точно так же, как двое оленей-самцов выберут для драки клочок ничейной территории.
Я слышал, что министр обороны США всегда держит у изголовья эту книгу, испещренную пометками.
Люди суть порождения своих обстоятельств, и всё, что они говорят, думают или делают, обусловливается обучением. Детям наносят глубокие травмы происшествия, случившиеся в раннем детстве, народам — переломные моменты в их истории. Но может ли означать такое „обусловливание“, что не существует неких абсолютных мерок, которые выходили бы за рамки исторического прошлого? Что не существует „добра и зла“, независимо от национальности и вероисповедания?
Неужели „дар языков“ втихаря истребил в человеке инстинкт? Иными словами, неужели Человек — и впрямь вошедшая в поговорку „чистая доска“ бихевиористов — бесконечно податливая и готовая приспособиться к чему угодно?
Если это так, тогда все Великие Учителя впустую мололи языками.






