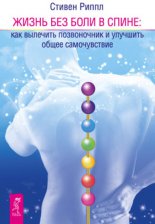Пушкинский том (сборник) Албитов Андрей

«Болдинская осень», составители В.И. Прудоминский и Н.Я. Эйдельман (М., 1974). Хронологически сложенные (день за днем) тексты этой рекордной осени 1830 года.
Книга и не могла быть не замечательной, на четверть века раньше, чем мое «Предположение жить. 1836».
Из памяти всплыло раз виденное лицо Эйдельмана, с его умной складной не то улыбкой, не то усмешкой.
Как «пушкинист» я всегда был равен нулю: не было до меня никого, кроме самого Пушкина. Пушкин и был пушкинист! Однако…
Сегодня, подготовляя свой «Пушкинский том», симметричный и равный «Пушкинскому дому», следует кое в чем хотя бы самому себе признаться.
В 1949 году мне поручили в школе доклад к 150-летию Пушкина.
Я уже читал Лермонтова и Гоголя, а Пушкина никак. Добросовестный ученик той эпохи, я постарался прочитать всего Пушкина, исключив всего лишь историю, статьи, письма и лицейские стихи. Входя в тему, увлекся и беллетристикой Ю. Тынянова: «Смерть Вазир-Мухтара» и «Кюхля» мне понравились, а Пушкин – опять нет. И я забыл об Александре Сергеевиче на много лет, до 1970 года, когда, завершая «Пушкинский дом», надумал снабдить роман «творчеством» собственного героя. Это совпало с моим запоздалым чтением Тютчева, я уперся в его «Безумие», тут же вспомнив школьного «Пророка», и передал идею связи этих стихотворений своему Леве Одоевцеву. Он уже имел право писать что угодно, не я.
Сам я не обладал не только квалификацией, но и знаниями, необходимыми для той профессии, которую избрал герою – научного сотрудника Пушкинского дома.
Итак, никакого литературоведения я не ведал, храня невежество как невинность, зато со многими выдающимися литературоведами был знаком и даже дружен. Не ощущая неловкости, мог набрать номер Лидии Яковлевны Гинзбург и, сославшись на незнание источников, спросить, мог ли Тютчев читать «Пророка», когда, где и при каких обстоятельствах, и через пять минут получить исчерпывающе точный ответ. Мог спросить Сергея Бочарова, сопоставлял ли кто пророков Пушкина и Лермонтова, и вскоре получал ответ, что он нашел одного, и это был Достоевский. Так, где стреляя на вскидку, где подбирая на слух, справился я со статьей моего героя о Тютчеве.
И тут же знатоки лишили меня и пороха, и велосипеда: Набоков и Тынянов опережали мои изобретения. Это совпало с выходом «Пушкинского дома» за бугром и повергло меня на несколько лет в осадок.
Выручил опять только Пушкин. Вдруг позвонил главный редактор «Литературной газеты» и предложил срочно дать какой-нибудь материал. Какой? А любой. Меня уже несколько лет не печатали, и его предложение меня ошарашило. Если любой, сказал я, то пушкинский. Любой, но только не пушкинский! – решительно возразил он мне. И я понял игру: как раз приближался номер, посвященный дню рождения поэта, и редакционную статью о нем мог писать только титулованный советский писатель или секретарь Союза писателей, а никак не запретный Битов. Понял я и другое, что откуда-то сверху поступило указание: обязательно меня напечатать – мол, не умер, не сидит, не запрещен.
Мне удалось настоять на своем, но писать должен был уже не Лева Одоевцев, а я сам.
Карты в руки! Вернее, книги… в руках у меня оказался «Пушкин в жизни» Вересаева, и я упивался им. Удивило меня хладнокровие Пушкина перед роковой дуэлью, что и подвигло написать «Последний текст». Не думал я, что эта главка затянет меня в долгую книгу без малейшей надежды ее напечатать. Но книга эта помогла мне дотянуть до гласности: если Пушкину было так плохо, то что уж там мои беды… Так, сам «предполагая жить», опровергал я мнение, что Пушкин шел на дуэль в предчувствии конца, и это спасло меня. И пошло на пользу: кроме Вересаева я научился пользоваться полным академическим собранием Пушкина, а когда мне еще подарили «Словарь языка Пушкина», я больше ни в чем не нуждаюсь.
И как же мне теперь утверждать, что я пренебрегаю литературоведением, когда всё, чем я пользуюсь, именно этой наукой создано?
Да и обе моих основных книги о Пушкине не могли быть составлены без дружеской помощи видных пушкинистов последнего поколения М.Н. Виролайнен («Предположение жить. 1836») и И.З. Сурат («Вычитание зайца. 1825»).
Да и «приоритеты» у меня отнимали, прямо скажем, неслабые авторы. Даже лестно.
Лучше обратно в Чикаго, к Эйдельману вернусь.
Какое же счастье эта Болдинская осень! Это не последовательность, а какие-то американские (они же русские) горки. Слишком круто.
Осень открывается «Бесами», снежной бурей, хотя до зимы далеко. Значит, покопался «в грязном сундучке своем», приподнял черновик для разбега. И следом, сходу, «Гробовщик»! Не думал, что именно с него начались для Пушкина «Повести Белкина»…
И следом «Румяный критик мой, насмешник толстопузый…» Неужто я ни разу это стихотворение кроме верхних строчек не читал! (полагая, что оно и впрямь про критику).
Какая там народность! какой там Некрасов! Наконец-то Пушкин встал от стола и выглянул в окошко, и увидел это все…
- Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
- Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой…
- Взгляни на этот вид!
Меня трясет от этого стихотворения, сквозь слезы гляжу на озеро Мичиган.
А тут и «Дорожные жалобы» оказываются уместны.
Иной раз даже приятно, когда от тебя отнимают игрушку! Вот еще случай с эмигрантской полки, может быть, в Париже… Незнакомый однотомник Пушкина. Тот же 1937-й, симметричный Томашевскому, но – Ходасевич. Книгу «Вычитание зайца. 1825» я во многом посвятил тому, чтобы доказать, что «Новая сцена из Фауста» открывает все будущие «Маленькие трагедии», а Ходасевич просто взял и включил ее первой в их состав своей волей, не обсуждая права на это. Хорошо смотрится!
И так, изобретя велосипед, огорчившись, что ты не первый, обрадовавшись, что не ошибся, снова изобретешь и порох, взорвав энергию для очередного заблуждения: например, что Пушкину и дела не было до приоритета, когда он дарил Гоголю с барского плеча то сюжет «Ревизора», то «Мертвых душ» (о чем всем известно), но и «Невский проспект» в придачу (приоритет пока за мной): «Об нем жалеют – он доволен»… Всё же мне вас жаль…
- Всё же мне вас жаль немножко,
- Потому что здесь порой
- Ходит маленькая ножка,
- Вьется локон золотой.
О произнесении самим Пушкиным своих стихов
Пушкин. «Полководец», 1835
- О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
- Жрецы минутного, поклонники успеха!
- Как часто мимо вас проходит человек…
Четверть века назад я по-школьному ниспровергал пресловутый «Памятник» Пушкина не столько как стихотворение, сколько отвергая расхожее и устойчивое мнение о «законченности» Пушкина. Достигнув сей цели в итоговой книге «Моление о чаше (Последний Пушкин)» (2007), я готов был опровергнуть и себя самого, перечитав «Памятник» уже в связи со всем так называемым Страстным циклом и особенно в связи с непосредственно предшествовавшим ему стихотворением «Кладбище».
Никто не знает в точности, как Пушкин читал вслух свои стихи… (Моя виртуальная экспедиция записать его голос провалилась в канун 2099 года: вся воображаемая автором звукозаписывающая техника конца ХХI века «полетела» в пушкинском поле, сведя с ума наивного «времянавта», оставив ему в доказательство его пребывания в пушкинском времени лишь оторванную им подлинную пуговицу поэта [100].
Услышать самого Пушкина невозможно, но предположить кое-что можно. В частности:
- Я понять тебя хочу,
- Смысла я в тебе ищу.
Пушкин строго следовал правам рифмы, но еще более был рабом непразднословия, то есть смысла. Так ли уж он нарушил собственные правила, срифмовав хочу и ищу?
Щ транскрибируется как сч (в частности, счастье в старину писалось как щастье, сам Пушкин писал это слово то так, то так).
Ищу могло произноситься АС как исчу, и тогда правка Жуковского [101] не только искажает смысл, но и неоправданна.
А так же, отвращаясь от чтения наших чтецов, всегда произносящих ударными не те слова и не в том месте, то есть всегда невпопад, а в меру собственного понимания стихов и публики, можно предположить, что авторское чтение Пушкина происходило в его собственном понимании (иногда и для него неожиданном: «На устах начатый стих / Недочитанный затих…»). Или – знаменитый случай:
- На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Традиционно пафосно выделяется нет. А если предположить, что для Пушкина «на свете счастья нет» всего лишь трюизм и противостоит ему как раз слово есть? Другое все получается:
- На свете щастья [102] нет, но есть покой и воля.
Думаю, таких примеров можно набрать достаточно. Скажем:
- Брожу ли я вдоль улиц шумных,
- Вхожу ль во многолюдный храм…
- Когда за городом, задумчив, я брожу
- И на публичное кладбище захожу…
Вряд ли одно стихотворение не помнило о существовании другого, хотя между ними пролегает немалый срок развития поэта. В первом Пушкин еще по-молодому мечтает (в его, а не в нашем употреблении слова мечта = воображение: «…мечтою странной / Душа наполнилась моя… Мечты кипят; в уме, подавленном тоской…» и т. п.) – мечтает о собственных похоронах (как многие); во втором – категорически, с редким для Пушкина сатирическим пафосом отрицает «публичное кладбище»: хоть плюнуть да бежать…
Действительно, трудно представить себе Пушкина исполнителем, встающим на табурет и читающим вслух, как в Лицее перед Державиным, свои стихи (скажем, «Пророка» или «Не дай мне Бог сойти с ума…») вслух кому бы то ни было. Даже Боратынскому или Вяземскому (великая реплика Натальи Николаевны: «Читайте, читайте, я не слушаю»).
Одно для меня бесспорно: все стихотворения Пушкина (включая неоконченное и черновики) всегда помнят друг о друге как единый, никем, кроме П., не прочитанный текст. Назовем это эхо или гул, как хотите. Поэтому при чтении его стихов вслух всегда присутствует его же второй, а то и третий голос (второй – из прошлого). Два в одном! Характерное для П. удвоение. Кто это теперь расслышит? Но сам поэт, безусловно, слышал эту связь, как-то произносил ее, когда читал свои стихи (хоть бы самому себе). Всё-таки в храм он входит, а на публичное кладбище пренебрежительно заходит. Эхо!
Само собой, любовь помнит любовь, дружба дружбу, дорога дорогу, бессонница бессонницу и т. д. По этим проводам всегда пробегает ток цикла задолго до оформления последнего – Страстного.
Цикл непризнания как призвания эхом гудит сквозь все творчество Пушкина («Я вышел рано, до звезды»; 1823), но с наибольшей открытостью (как рана) это эхо раздалось в «Полководце», посвященном Барклаю де Толли, забытом вожде 1812 года, заслужившем свой постамент (см. эпиграф), а уж никак не в «Памятнике».
Эхо от «Полководца» пробежало к стихотворению «Художнику», писанному у смертного одра матери под впечатлением посещения могилы Дельвига и непосредственно предшествующему всему Страстному циклу, закончившемуся «Памятником».
- Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую <…>
- Сколько богов, и богинь, и героев!..
Пленительная интонация этого стихотворения отменяет скорбь, накопившуюся в его душе в тот день, полная свобода оценок масштабов и славы персонажей художника: весел вхожу, – не иначе как неуместный, именно пушкинский смех разбирает его при перечислении скульптур, выстроившихся рядком (как на будущем публичном кладбище): Зевс-громовержец и рядом карикатурный сатир, дующий в дудку…
Но ухо поэта принадлежит его эху:
- Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
Зачинатель звучит для моего уха почетнее или благозвучнее, чем совершитель. Вхожу или захожу?
А главное, подтверждается и другая догадка, что тропинка из «Кладбища», по которой «Проходит селянин с молитвой и со вздохом» (то есть народ), далее мимо дуба («Стоит широко дуб… Колеблясь и шумя»), – напрямую ведет к Александрийскому столпу, превращаясь в пресловутую тропу…
И тут стоп! Второпях я пропустил одну важную мысль: я опустил само это слово – «важный».
- Стоит широко дуб над важными гробами…
Эпитет важный по недомыслию всегда казался мне более или менее безразличным, не важным. Однако…
Проследите противоречие, даже смысловой разрыв внутри второй («позитивной») части стихотворения «Кладбище».
Во вступлении второй части:
- Там неукрашенным могилам есть простор <…>
- Близ камней вековых, покрытых желтым мохом…
Далее возврат к сатире первой части:
- На место праздных урн и мелких пирамид,
- Безносых гениев, растрепанных харит…
И сразу возвращение:
- Стоит широко дуб над важными гробами,
- Колеблясь и шумя…
Итак: неукрашенные могилы – заросшие вековые камни – важные гробы…
Колеблясь и шумя… Exegi monumenum… Вместо названия (это мы для удобства нашего давно прозвали его «Памятником») – латинский эпиграф. И сразу:
- Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
- К нему не зарастет народная тропа,
- Вознесся выше он главою непокорной
- Александрийского столпа.
Последняя строка укорочена почти как «Колеблясь и шумя…».
Дуб нерукотворен, как и памятник (крона – глава – корона).
Стихотворения написаны друг за другом через неделю, между ними пролегает лишь мучительная попытка правки «Медного всадника» по царским пометам, от которой П. решительно отказывается, что (не исключено) и толкает его к написанию «Памятника».
Тогда оборванное «Колеблясь и шумя…» обретает особый смысл, и первая строка «Памятника» становится ее мыслимым продолжением, если…
Если я транскрибировать как бы той же латиницей, что в эпиграфе: ja (иотированное а?) – йа, или даже ьйа! Может, он так и произносил в этом случае свое я? Утвердительно, победно!
«Нет <!>, весь я не умру <!>…» (ср.: «Андрей Шенье», 1825 – «Я скоро весь умру…».)
Может, так и прочитал впервые, сгоряча, это стихотворение случайному Муханову, чтобы тот, в меру своей принадлежности светской черни, на уровне ее понимания, мог записать в дневнике: «Жалуется на упадок внимания публики».
«И я памятник себе воздвиг…» П. не мог написать не только из-за лишнего слога в строке, но и по традиции мог начинать только с я. Он мог поставить себя лишь вслед за Горацием (иначе зачем латинский эпиграф?), а не за Ломоносовым и Державиным, как бы их ни уважал.
Тут меня уже зашкаливает… Я все возвращаюсь к тому списку стихотворений, что мыслился П. для публикации, откуда брались его рабочие названия как авторские, в том числе из Страстного цикла («Молитва», «Недорого ценю» и «Кладбище»), по которому и датируется весь список: «не позднее 14 августа».
Но составлен ли список до «Памятника» или после? В левом верхнем углу автографа отчетливо написано «Памятник». Мог ли он быть включен в список под этим названием [103]?
Его в списке нет. Я как-то высказал предположение, что П. сам слегка подцензурировал его в размышлении о возможной публикации – как бы указать им всем на подлинное свое место. Однако замена «изгнанья не страшась» на «обиды не страшась» была истолкована мною не совсем корректно: «обида» была первой, а «изгнанье» лишь вариантом.
Сам ли Пушкин заменил «Вослед Радищеву восславил я свободу» на «Чувства добрые я лирой пробуждал», не берусь судить, но что не он заменил Александрийский столп на Наполеонов – это факт.
Сам ли он правил «Памятник»?
Р. S. Не является ли посмертная публикация в каком-то смысле произнесением публикатора? (В случае Жуковского – не самого слабого публикатора! – бесспорное да.)
P. P. S. Меж грядущих двух двухсотлетий – 200-летия открытия Лицея и 200-летия Отечественной войны 1812 года – этот неожиданный выход на Барклая де Толли оказался более значительным, чем я мог заподозрить. Сам П. в последний год жизни относил себя к «военному поколению».
Я писал это без Пушкина, по памяти. Сейчас он наконец у меня опять под рукой. Я перечитываю «Полководца» (1835) и «Была пора: наш праздник молодой…» (к 19 октября 1836-го) в подбор.
В «Полководце» нахожу небрежно прописанный ряд живописи:
- Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
- Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен.
- Ни плясок, ни охот…
Перечисление, на мой взгляд, перекликающееся через год с описаниями скульптур в мастерской ваятеля и последующего «загробного» ряда. Пренебрегши музеем, строки П. заметно оживают:
- …а всё плащи, да шпаги,
- Да лица, полные воинственной отваги.
- Толпою тесною художник поместил
- Сюда начальников народных наших сил,
- Покрытых славою чудесного похода
- И вечной памятью двенадцатого года.
- Нередко медленно меж ими я брожу…
В стихах к годовщине Лицея:
- Вы помните: текла за ратью рать,
- Со старшими мы братьями прощались
- И в сень наук с досадой возвращались,
- Завидуя тому, кто умирать
- Шел мимо нас…
На встрече с лицеистами П. зарыдал и не мог дочитать свое последнее «19 октября» до конца.
- О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
- Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
- Непроницаемый для взгляда черни дикой,
- В молчаньи шел один ты с мыслию великой…
Восстановив «эхо», я тут же наткнулся на нечитанный мною пушкинский текст, а именно «Объяснение», подтвердившее мои догадки. «Объяснение» было написано в ноябре, в те же числа, что и вызов на дуэль, видимо не в лучшем настроении. Ему только этого не хватало, чтобы родные и почитатели Кутузова обиделись на поэта за принижение роли их кумира и выразили это печатно.
Если полагать, как принято, что «Памятник» является завещанием Пушкина, то тогда последняя строка такого «завещания» была бы «И не оспоривай глупца». Поэт был задет непониманием настолько, что сам же нарушил собственный завет. «Полководец» был написан в 1835-м, «Художнику» было написано 25 марта 1836-го, «Была пора: наш праздник молодой…» 19 октября, «Объяснение» 8-11 ноября… Последовательность и даже настойчивость позиции очевидна. «Объяснение» было напечатано уже после смерти поэта в четвертом номере «Современника» (еще составленном Пушкиным), а в декабре 1837-го состоялось открытие двух равновеликих памятников у Казанского собора, на котором Пушкин обязательно бы присутствовал… Не зная деталей, могу предположить, что полемика вокруг «Полководца» «привлекла внимание общественности» (тогда – общества) и помогла Барклаю де Толли занять достойный его заслуг «рукотворный» постамент.
8–9 мая 2011, День Победы в Висбю
Память как черновик
(Чистый опыт)
В мои сталинские времена в школе кроме октябрятства и пионерства многое всё еще сохранялось от дореволюционной гимназии, например зубрение стихов наизусть. Поэтому-то и остались ненавистными «Анчар» и «Я памятник себе воздвиг…», «Бородино» и «Смерть Поэта». Остались от них рожки да ножки: Бедный рабунок… Не зарастет народная тропа… Скажи-ка, дядя, ведь недаром ты выглядишь настолько старым… С винцом в груди… Короче: Весна! Крестьянин, торжествуя, идет, держась за кончик… носа и т. п. Чтобы начать читать Пушкина, мне потребовалось много времени, чтобы его забыть. Свежей поэзией казалась лишь запрещенная. Она была так неординарна, так непонятна! «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» – влюблялся я в «Камень».
Я спросил как-то своего старшего друга Александра Блока (не нашего, а француза Жана Бло), как ему удается так хорошо сохраняться. Во-превых, плавание, а во-вторых, я каждое утро выучиваю одно любимое стихотворение наизусть, Бодлера или Рембо. С плаванием как-то хуже, а про заучивание мне запало. Потом читаю в «Записных книжках» Александра Блока (не француза, а нашего): «„Онегина“ целиком следует выучить наизусть». Это 1908 год… успел ли?
Пришло и мне время тренировать склероз, как в юности качать мышцы. И только так наконец стал я понемногу постигать Пушкина. Увлекся, для разнообразия решил поучить и из Мандельштама, из Заболоцкого, которых без усилия помнил в отрывках. Стало не хватать времени на Пушкина…
Но тут вот какой представился повод. Меня мучила бессонница. Я противник снотворного и нашел способ засыпать, повторяя про себя выученные стихи (их у меня уже накопилось), и на каком-то из них незаметно засыпаю. (Уверяю вас, это лучше подсчета слонов.) Я повторил про себя весь свой запас, но в этот раз не сработало. В пятом часу утра я включил свет и раскрыл свежий номер «Нового мира»… В статье И. Сурат сопоставлялись «Бессонницы» Пушкина и Мандельштама. Одну, пушкинскую «Мне не спится, нет огня…», я и так знал наизусть, другую помнил лишь по «И с отвращением читая жизнь свою…», и будто впервые прочитал и был поражен.
«Бессонницей» Мандельштама я был когда-то с первого раза потрясен, его завораживающей красотой и непонятностью, помнил почти каждую строку, хотя наизусть тоже только первую.
Мандельштамовское я уже любил, в пушкинское только что влюбился и решил зазубрить их оба, благо существовали они на одном развороте. Этот параллельный процесс показался мне настолько поучительным, что я даже сделал кое-какие записи, которыми мне захотелось поделиться.
Стараюсь и никак не могу вспомнить, из кого это: «Поэту (та-та-та) даруется строка…» В смысле, одна даруется, а остальное попробуй напиши. Перед заучиванием и у Мандельштама, и у Пушкина я десятки лет помнил по одной. А вдруг, предположил я, они и были «дарованы» поэту?
(У своих друзей-поэтов я давно отмечал такую ударную строку, на которой всё и держится: иногда сильнее бывал вход, иногда выход; редко когда такая строка затеривалась внутри стихотворения. И запоминались в них либо начало, либо конец – по молодости лет, на всю жизнь, независимо от качества. Середина выпадала. Так мне и стало казаться, что стихотворение пишется либо снизу вверх, либо сверху вниз.)
Итак, начал я свою зубрежку с Мандельштама, как более запоминавшегося:
- Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
- Я список кораблей прочел до середины…
Вторая строчка запомнилась сразу, как вспомнилась. Далее память стала оказывать сопротивление.
- Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
- Что над Элладою когда-то поднялся,
- Как журавлиный клин в чужие рубежи —
- На головах царей божественная пена…
Эта «божественная пена» плохо запоминалась. Я пытался ее оправдать то брызгами, когда корабль рассекает волну, то древнегреческими белокурыми кудрями… все равно не хотела запоминаться (а потом, когда начерно выучил всё стихотворение, она, эта пена, всплывала прежде прочих, более значимых строк).
Я уже написал, что нашему сознанию труднее всего дается запоминание 50 на 50. Так, если бы при нажатии выключателя не загорался свет, то вы бы с огромным усилием и не сразу запомнили его позиции. (Сколько раз вы щелкнете туда-сюда, пока убедитесь, что таки да, лампочка перегорела или что света нет.) Так выпадали у меня из памяти то выводок, то поезд, как синонимы они работали 50 на 50. Так срабатывал и дважды повторенный эпитет журавлиный: запомнишь один – забудешь другой.
Мое припоминание стало выглядеть как восстановление утраченного текста. Не так же ли, восхитился я, ставя себя на одну доску с гением, само стихотворение есть списывание, подглядывание за собственное плечо, будто сам себе отличник и Муза сосед по парте. Черновика немного стыдно, даже страшно, словно учителя, что бродит по рядам, как между строк («Черны мои черновики, чисты чистовики», – напишет однажды Рубцов). Ученичество! Поэт (если он Поэт) не умеет писать.
Реконструируя стихотворение по памяти, столкнулся с технической трудностью: как прохронометрировать постепенность его проявления? Тут-то и обнадежило меня предположение, что так оно и писалось: дарованное-удачное-необходимое-сносное-безразличное, – но эту последовательность в свою очередь трудно запомнить. Еще труднее брать на себя ответственность за определение неравноправности слов заведомого шедевра.
Наконец я осилил всё стихотворение…
- На головах царей божественная пена —
- Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
- Что Троя вам одна, ахейские мужи?
Однако рифма то подгоняет, то подгоняется. Рубежи не мог запомнить до самого конца. Они были нужны лишь для мужей, как и пена для Елены. Дальше стало легко:
- И море, и Гомер – всё движется любовью.
- Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
- И море черное, витийствуя, шумит
- И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
Самым последним никак не запоминалось это витийствуя. Но и его одолел, будто вспомнил, будто сам всё написал, будто вписал его последним: ладно, и так сойдет.
И каким коротким и простым оказалось всё стихотворение!
Сложнее было с «прозрачным» Пушкиным.
В пять утра всё запомнил, к восьми всё забыл. (А Мандельштам – назубок.)
Во-превых, я совсем не помнил, что оно называется «Воспоминание» (что называется, в тему).
- Когда для смертного умолкнет шумный день,
- И на немые стогны града
- Полупрозрачная наляжет ночи тень
- И сон, дневных трудов награда…
Эти строчки вспомнились с последовательной легкостью, будто сами написались, сверху вниз. Хотя где-то впереди висела сквозь жизнь запоминавшаяся, как хлыст, строка:
- Но строк печальных не смываю.
С нее-то и началось для меня запоминание (восстановление) стихотворения, с конца вверх.
Труднее всего оказалось запомнить слова, связанные с описанием света и времени (возможно, борьба поэта с тавтологией и синонимами является более технической стороной поэтической работы): в то время для меня… в бездействии ночном… безмолвно предо мной…
Вспоминание строк оказалось перепутанным в такой непоследовательности:
- Змеи сердечной угрызенья
- Часы томительного бденья
- Горят во мне… В то время для меня
- Влачатся в тишине…
Итак:
- В то время для меня влачатся в тишине
- Часы томительного бденья
- …сильней горят во мне
- Змеи сердечной угрызенья.
(При чем тут змея? Однако сразу заползла в память.)
- Мечты кипят. В уме…
- Теснится… дум… тяжких… избыток
- Воспоминание свой…
Зато окончание стало сразу и окончательно:
- И с отвращением читая жизнь мою,
- Я трепещу и проклинаю,
- И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
- Но строк печальных не смываю.
В бездействии ночном – вот что никак было не запомнить.
И вовсе не сильней, а живей!
- Мечты кипят; в уме, подавленном тоской
- …
- Воспоминание безмолвно предо мной.
(Курсивом выделено, что упорно не запоминалось.)
Значит, подумал я, забытое мною принадлежало уже технике, отделке, рифме. Там, где я внаглую подменял пушкинские слова своими, там и он сам уже лишь подбирал что получше.
Этот, пардон, хронометраж был зафиксирован в День сталинской конституции. В следующую ночь, пытаясь уснуть, Мандельштама легко вспомнил всего, а с Александром Сергеевичем опять начались выпадения: какой там у него был «ум»? неужто «праздный»? какие «думы»? может быть, они были «праздными»? или «тяжкими»? Да, позволил себе рассуждать я, эпитеты для Пушкина были менее важны, чем для Мандельштама: определялись в музыку, в размер. Мандельштам же их изыскивал поярче, даже меняя стих в угоду… оттого они у него блестят, как шляпки гвоздей.
Тут бы мне следовало укоротить свою крутость, чтобы перейти к выводу: о чем бишь всё это? Я побоялся проводить свой чистый опыт дальше, но затаил мысль, что если у шедевра не сохранился черновик, а лишь беловик, то последовательность его запоминания при заучивании наизусть воспроизводит нам первый, черновой проект автора (такая вот виртуальная археология, достойная секретных лабораторий ФСБ).
10–13. II. 2007
P. S. Заключение экспертизы.
Засекреченный Мандельштам сознался во всем и стал нам понятен, хотя и не близок. Родной и открытый для всеобщего доступа Пушкин ушел в глухую несознанку, хотя и не отказывается от данных им ранее показаний. Считаю открытие новой секретной лаборатории несвоевременным.
Завсектором рацпредложений
Подполковник А. Боберов
P. P. S. Заключение пушкиниста, члена-коррреспондента РАН Л.Н. Одоевцева.
По поводу Мандельштама ничего не скажу: вряд ли сохранились какие-либо черновики его «Бессонницы»; по поводу же пушкинского «Воспоминания» «метод Битова» вызывает бездну вопросов и сомнений. Не так уж сложно было бы автору заглянуть хотя бы в академическое собрание: пушкинский черновик сохранился достаточно полно.
Определить, какая Пушкину была дарована строка, нет возможности. Черновая рукопись начинается:
- Есть
- Давно день – и тихо ночь
- На стогны града
Далее же всё проявляется и прописывается с подыскиванием рифм и эпитетов, в последовательности известного нам текста:
налегла-мгла-легла = день-тень // отрада-награда // ни-сходит-слетает-наляжет // В безмолвии-В бездействии // встревоженном-подавленном // горьких-грустных-тяжких // мрачный-длинный-мрачный-долгий-длинный // Читаю жизнь мою-И с отвращением читая жизнь мою // И содрогаюсь и-И томно жалуюсь-И горько жалуюсь // заветных-печальных…
Всё это может свидетельствовать о предпочтениях, но никак не о безразличии к эпитетам.
Так что первым словом стихотворения является слово «Есть», которое далее в стихотворении не встречается; ночь утопает в прошлом: «Есть», которого нет. Лучше бы Битов ответил на вопрос: почему Пушкин отверг вторую половину стихотворения, над которой столь же упорно работал?
- Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
- В безумстве гибельной свободы,
- В неволе, бедности, в гоненьи и в степях
- Мои утраченные годы.
- Я слышу вновь друзей предательский привет
- На играх Вакха и Киприды,
- Вновь сердцу (памяти?) наносит хладный свет
- Неотразимые обиды.
- Я слышу (гнусный шип), жужжанье клеветы
- Решенья глупости лукавой
- И шопот зависти и легкой суеты
- Укор веселый и кровавый —
- И нет отрады мне – и тихо предо мной
- Встают два призрака младые,
- Две тени милые – два данные судьбой
- Мне ангела во дни былые —
- Но оба с крыльями, и с пламенным мечом
- И стерегут – и мстят мне оба —
- И оба говорят мне мертвым языком
- О тайнах счастия и гроба.
29 апреля
Парадоксов друг
(Осень Пушкина)
Пушкин, 1829
- О сколько нам открытий чудных
- Готовят просвещенья дух
- И Опыт, [сын] ошибок трудных,
- И Гений, [парадоксов] друг,
- [И Случай, бог изобретатель].
Писано и не дописано осенью 1829 года. Как легко, однако, Пушкин пренебрегал своим другом, бросая его на полпути… само по себе парадокс.
Парадоксов – это фамилия такая, а у него был друг… Ничего удивительного: у нас в школе был ученик по фамилии Феноменов.
Парадоксальность всем во всём понятного нашего Пушкина впервые доходила до советского школьника в его необъяснимой любви к осени. Что тут хорошего, когда каникулы кончились и опять в школу! Опять по цепи кругом.
- Ох, лето красное! любил бы я тебя,
- Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…
Какие там мухи! Когда классные муки. Опять же:
- Зима! Крестьянин торжествуя
- Идет, держась за кончик…
Любовь поэта к 19 октября, куда ни шло: он школу закончил.
А чего же это крестьянин так уж торжествует?
А – пахать не надо. Можно торговать плодами летнего труда.
Близость барской и крестьянской жизни нами подзабыта.
Пушкин начинает пахать осенью, собирая свой урожай опыта ошибок трудных. Одному не под силу. Но тут на помощь приходит его друг.
Вот сидим мы в ЦДЛ с Владимиром Соколовым над рюмочкой.
– Никак не могу спиться! – то ли с горечью, то ли с гордостью изрекает он великую фразу.
Слово за слово, и – Пушкин!
– Вот, – говорит он уже умиротворенно, но сердито. – Все говорят «гармоничный»… Какое там! Всегда противоречие.
- Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
- Последние листы с нагих своих ветвей…
Какие уж тут листья, если ветви нагие!
Вспомнил Володю и грустно стало: сколько нас уже облетело… За что же я держусь?
Выходит, зря я тогда убрал четверостишие из стихотворения, посвященного его смерти:
- Поэма под названием «Сюжет»
- Всё мучила его, но не писалась.
- Сюжета, кроме смерти, нет как нет,
- Особенно, когда в запасе старость.
Бабье лето опять же. Унылая пора, очей очарованье…
«Люблю я пышное природы увяданье». Петербург не Москва, но и Михайловское не Болдино. Правда еще и в том, где осень похуже.
- Два бедных деревца, и то из них одно
- Дождливой осенью совсем обнесено,
- И листья на другом, размокнув и желтея,
- Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
- И только. На дворе живой собаки нет.
«Скука, холод и гранит» – только в Петербурге осень бывает еще хуже. И это было еще одним, последним условием для написания «Медного всадника».
Размышление над «Полтавой»
1709–2009, 1828–2014
К трехсотлетию Полтавской Битвы
Полжизни назад прекрасным летом я обнаружил себя стоящим на поле Полтавской битвы. Это было неожиданно сильное чувство. Во-превых, поле было и впрямь полем, засеянным только Господом васильками и божьими одуванчиками. Во-вторых, я попал в строку пушкинской поэмы.
- Как пахарь битва отдыхает…
Но что меня растрогало, так это равноправие памятников павшим, как русским, так и шведам. И сохранность была хорошая. Будто совместно пролитая кровь и поэзия облагородили, даже европеизировали пространство. Пустота, тишина, чистота.
- Лишь согласное гуденье насекомых.
Однако… «Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен». Петр всё еще оставался здесь. Отгремевшая старинная битва продолжала висеть в воздухе.
«Поэзия – соединение далековатых понятий»… Ломоносов или Пушкин? («Битва», М., 2009.)
Не перечитывал «Полтаву» слишком давно. Мне лучше известны обстоятельства написания поэмы, чем ее текст: после того, как Николай I освободил поэта из ссылки, после того, как «Борис Годунов» не прозвучал (знаменитый отзыв благодетеля переделать драму «в повесть на манер Вальтер Скотта»)… Пушкину надо чем-то подтвердить свой свободный статус в 1828 году.
«Полтава» догоняет и перегоняет «Бориса Годунова» как бы в предвосхищении предстоящих польских событий:
- То давний спор славян между собою…
Строчка, за которую Пушкина еще будут распинать либералы с 1831 года до сегодняшнего дня.
В завязку сюжета Пушкин кладет драму вполне оперную: месть Кочубея гетману Мазепе за обесчещенную дочь Марию. Но очень уж скоро содержанием поэмы становится политика.
- Грозы не чуя между тем,
- Не ужасаемый ничем,
- Мазепа козни продолжает,
- С ним полномощный езуит
- Мятеж народный учреждает
- И шаткий трон ему сулит.
- Во тьме ночной они как воры,
- Ведут свои переговоры,
- Измену ценят меж собой,
- Слагают цифр универсалов,
- Торгуют царской головой,
- Торгуют клятвами вассалов.
- <…>
- Повсюду тайно сеют яд
- Его подосланные слуги…
- <…>
- Там будят диких орд отвагу;
- Там за порогами Днепра
- Стращают буйную ватагу
- Самодержавием Петра.
Что тут неизменно до сего дня? Прозрения ли Пушкина или Россия с Украиной?
- И письма шлет из края в край:
- Угрозой хитрой подымает
- Он на Москву Бахчисарай.
- Король ему в Варшаве внемлет,
- В степях Очакова паша,
- Во стане Карл и царь. Не дремлет
- Его коварная душа…
И вдруг утомился перечитывать. Пролистал быстренько любимое описание битвы… и наткнулся:
- Среди тревоги и волненья,
- На битву взором вдохновенья
- Вожди спокойные глядят,
- Движенья ратные следят,
- Предвидят гибель и победу,
- И в тишине ведут беседу.
«Вожди спокойные…» Нет! недопустима такая убийственная точность!
И тут окончательно расхотелось дальше вникать в поэму, как и смотреть очередные «Новости» по телевизору.
- Не дорого ценю я громкие права,
- От коих не одна кружится голова.
- Я не ропщу о том, что отказали боги
- Мне в сладкой участи оспоривать налоги
- Или мешать царям друг с другом воевать;
- <…>
- Зависеть от царя, зависеть от народа -
- Не все ли нам равно? Бог с ними.
- Никому
- Отчета не давать, себе лишь самому
- Служить и угождать…
Нет, не нравилась ему власть. Он признавал роль личности: Петра, Ломоносова, Екатерины, Наполеона, Карамзина, себя самого… сочувствовал даже Годунову с Пугачевым, той ответственности, что ложилась на них («Тяжела ты, шапка Мономаха») и которой непросто соответствовать. Иной раз обольщался, мечтая о себе рядом с ними: «И истину царям с улыбкой говорить»
Но все это были думы скорее историка, чем поэта:
- Иная, лучшая потребна мне свобода…
Казнь как опыт
Пушкин, 1828
- Дар напрасный, дар случайный,
- Жизнь, зачем ты мне дана?
- Иль зачем судьбою тайной
- Ты на казнь осуждена?
Известно простодушное возражение Митрополита московского Филарета, переиначившего эти стихи: «Не напрасно, не случайно…»
Пушкин ответит себе на этот вопрос в 1835 году:
- И страшуся и надеюсь,
- Казни вечныя страшуся,
- Милосердия надеюсь:
- Успокой меня, Творец!
- Но Твоя то будет воля,
- Не моя –
- Кто там идет?…
Повторяет слова Христа в Страстную Пятницу.
Последний вопрос звучит по-командорски, сближая это стихотворение с опытом «Маленьких трагедий». Казнь Дон-Гуана…
Слово казнь достаточно часто (сотню раз) встречается у Пушкина не только потому, что он много занимался русской историей, пропитанной кровью, как губка. Не только потому, что его лично потрясла казнь его товарищей-декабристов. Хочу дальше проследить, как он употребляет понятие казнь, примеряя его к себе лично.
- Увы моя глава.
- Безвременно падет: мой недозрелый гений
- Для славы не свершил значительных творений;
- Я скоро весь умру.
Судьбу Андрея Шенье он пропускает: Нет, весь я не умру! 1836. Пушкин намеревался пройти весь путь.
- Духовной жаждою томим,
- В пустыне мрачной я влачился.
Рискую провести здесь хирургическую параллель (сопо-ставление = противопоставлению) Эйфелевой башни с Пизанской.
«Пророк» – очень кровожадное стихотворение, хотя и начинается с ласковых прикосновений шестикрылого серафима перстами, легкими, как сон. Но наделив поэта всеми шестью доступными и недоступными чувствами, тот же серафим приступает к жестокой расправе:
- И он к устам моим приник
- И вырвал грешный мой язык,
- И празднословный и лукавый…
Я уже неоднократно говорил, что у Пушкина все слова помнят друг о друге, так что уже не боюсь повториться. Во второй раз я встретил празднословие лишь в последнем, «Пасхальном» цикле 1836 года в стихотворении «Молитва»:
- И празднословия не дай душе моей.
И сразу следом стихотворение «Как с древа сорвался предатель-ученик…»
Экзекуция, производимая дьяволом над Иудой, симметрична операции, проводимой Серафимом над поэтом. Но если труп поэта лишь «как труп» и воскрешается Богом, превращая его в пророка, то предательство ученика Божьего подлежит лишь оживлению для конечной пытки:
- Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
- И бросил труп живой в гортань геенны хладной…
(Вот и еще одна встреча с будущим нашей литературы: «живой труп».) А вот и окончательная казнь за предательство Учителя (равно назначения):
- И Сатана привстав, с веселием на лике [104]
- Лобзанием своим насквозь прожег уста,
- В предательскую ночь лобзавшие Христа.
В этом обмене дыханиями, лобзаниями конечный расчет со злом, стоимостью в тридцать серебренников: своим выделено здесь мною как ударное в произнесении слово.
Пушкин-самурай
Пушкин, 1820
- Мне бой знаком – люблю я звук мечей,
- От детских лет поклонник бранной Славы,
- Люблю войны кровавые забавы,
- И смерти мысль мила душе моей.
Пушкин. «Война», 1821
- Покой бежит меня, нет власти над собой,
- И тягостная мысль душою овладела…
- Что ж медлит ужас боевой?
- Что ж битва первая еще не закипела?…
Пушкин. «Пир во время чумы», 1830
- Есть упоение в бою,
- И бездны мрачной на краю,
- И в разъяренном океане…
Самурай должен прежде всего постоянно помнить – помнить днем и ночью /…/ – что он должен умереть (Дайдодзи, 17 век).
- И где мне смерть пошлет судьбина?
- В бою ли, в странствиях, в волнах?
Вряд ли Пушкин что знал о самураях… Но дворянские понятия о благородстве, чести, достоинстве, бесстрашии, верности, предательстве и измене – неизбежны и традиционны, интернациональны в любую эпоху.
Однако… Я научился мужеству меж азиатцев. Иначе, как напишешь:
- Стамбул гяуры нынче славят,
- А завтра кованой пятой,
- Как змия спящего, раздавят
- И прочь пойдут и так оставят.
- Стамбул застыл перед бедой.
Восток занимает его всё дальше. Миссия в Китай (с заездом к Пущину). Камчатка, Япония и Америка для него, невыездного в Европу, – Восток (как в наше время для нас Запад и Америка, и даже Япония).
Так из Грузии, ставшей для него единственной заграницей, рвался он в бой с турками и по-детски обижался, что они от него убежали. Зато гениально все описал:
- Мчатся, сшиблись в общем крике…
- Посмотрите! каковы?…
- Делибаш уже на пике,
- А казак без головы.
Хоть и не самурай, не ниндзя, но упражнения с железной тростью – чтобы рука не дрогнула – чем не японские. Стрелял он, скорее всего, хорошо. Череда вызовов на дуэли, кончавшихся мирно по милости друзей, знавших, на кого нельзя «поднять руку», и наконец, образ Сильвио, которому достаточно было страха соперника, чтобы почувствовать себя отомщенным.
Не так ли и Пушкин хотел прострелить «картину», а не Дантеса, увидя на его лице страх? Но тот выстрелил с перепугу, не доходя шага до барьера. Ранение в брюшину, хоть никак не было харакири, но оказалось смертельным. Пушкинский ответный выстрел был делом чести, а не мести, и его конечное «Bravo!» относилось к успешному выстрелу из безнадежной позиции.
Мужество, проявленное к непереносимой боли, отмечено всеми врачами, дежурившими у его смертного одра. «Неужели эта ерунда меня одолеет!..» – великая фраза, достойная самурая.
6 июня 2014
Р.S. И это уже слишком. Подобный лексикон можно продолжать вечно. Есть повод его закончить в честь его рождения, а не смерти (пусть и по советскому календарю) теми тремя тостами, которыми завершалось «Вычитание зайца. 1825» в первом издании.
Язык-убийца
Дописав до сих пор, я измаялся вконец: что и кому я пытаюсь объяснить? И как это сделать? Измаялся до того, что уже не понял, кто это делает. Кто я?
Значит, объясняюсь, а не объясняю. Виноват.
Но перед кем и за что?
Перед заказчиком и переводчиком.
Я не привык так. Я привык иначе. По-русски. То есть?… Не немцу и не русскому я хочу быть понятен, а… Пушкину. Двухсотлетнее мое младенчество.
Значит, Пушкин уже подсознание?
Тогда неплохо. Вот тому доказательство.
Засыпаю с Пушкиным и просыпаюсь с болью в шее. В полусне и бессознательно вспоминаю имя того юного математика, который за ночь перед казнью основоположил высшую алгебру. Неужели Андрей Шенье? А что, думаю, закажи мне статью «Пушкин и казнь», напишу «Пушкин и казнь»! Ведь сколько казней у Пушкина! И Пугачев, и Петр… Весь Пушкин. Никогда раньше не думал, насколько он пропитан кровью. Может, Россия такая? Когда Достоевский готовился к своей знаменитой речи у подножия памятника Пушкину, скрытого под покрывалом, вспоминал ли он свой опыт приговоренного к смерти?
А можно написать «Пушкин и памятник», а можно «Пушкин и зависть», можно… И каждый раз получится ВЕСЬ Пушкин. Можно (и нужно) написать такой «Лексикон Пушкина»: Пушкин-друг, – любовник, – супруг, – отец, – игрок, – счастливчик, – неудачник, – путешественник…
Первый наш невыездной! Сколько раз просился он за границу! Даже в Китай… Сколько раз просился – столько раз и не пускали. Сколько раз намеревался бежать! То в Грецию, то в Америку… не менее десяти раз всерьез строил планы.
Пушкин знал французский как родной, читал по-английски, по-итальянски… «…Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!»