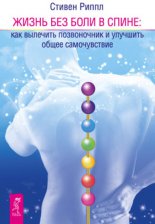Пушкинский том (сборник) Албитов Андрей

– 25 марта
– Художнику
III – 22 июня
(Подражание италиянскому) – («Как с древа сорвался предатель-ученик…»)
неоконч. до – 5 июля
– «Напрасно я бегу к сионским высотам…»
VI [65] – 5 июля
– (Из Пиндемонти), («Не дорого ценю я громкие права…»)
IV – 5 июля
– Мирская власть («Когда великое свершалось торжество…»)
II – 22 июля
– «Отцы пустынники и жены непорочны…»
– 14 августа
– «Когда за городом, задумчив, я брожу…»
– 21 августа
– «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
неоконч. – август
– «От западных морей до самых врат восточных…»
неоконч. – август
– «Ценитель умственных творений исполинских…»
– нач. сент.
– Родословная (переработка из «Езерского»).
«Новая жизнь» не могла быть не сопряжена и с новым творчеством.
Цикл и посвящен этой новой жизни.
«Пора, мой друг, пора…» и «Вновь я посетил…» – ближайшие предшественники летних стихов 36-го года. Первое намекает на будущее «(Из Пиндемонти)», второе – на «Когда за городом, задумчив, я брожу…». Мотивы эти зародились в лирике Пушкина практически вместе с внутренним решением изменить образ жизни, начав «новую», в которой он собирался дожить до конца дней своих. В цикле – программа эта нашла окончательное выражение.
И последняя строфа «Памятника», с другой стороны, приводит нас туда же, лишь на шаг назад и в глубь пушкинской жизни, еще исполненной намерения жить.
Написанное за неделю до «Памятника» стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу…» (которое вполне могло бы оказаться пропущенным V номером…) – пусть в самой пессимистической форме, все равно есть проекция плана «новой жизни»: поэту омерзительна мысль не столько о смерти, сколько о смерти в пределах «прежней» жизни, так ее и не покинув; вид пригородского кладбища, на котором его могут похоронить…
- Такие смутные мне мысли всё наводит,
- Что злое на меня уныние находит.
- Хоть плюнуть да бежать…
Стихотворение писано 14 августа, а не позднее 13 августа он пишет Павлищеву, который его и удручает, и раздражает своими расчетами по продаже Михайловского, которого он вряд ли жаждет встретить:
«Вы пишете, что Михайловское будет мне игрушка, так – для меня; но дети мои ничуть не богаче Вашего Лели; и я их будущностью и собственностию шутить не могу».
И, несмотря на такую «испорченность» места, он всё равно рвется туда, не мысля пропустить именно ЭТУ осень. И кончает письмо так:
«Нынче осенью буду в Михайловском – вероятно, в последний раз».
Центральное, по выраженности новой программы жизни, стихотворение цикла – «(Из Пиндемонти)» (оно обозначено и конечной цифрой VI):
- Не дорого ценю я громкие права,
- От коих не одна кружится голова…
Все эти «слова, слова, слова» когда-то были содержанием его молодости, а теперь:
- При звучных именах Равенства и Свободы,
- Как будто опьянев, беснуются народы…
(Эти строчки, правда, вычеркиваются.)
Отражена в стихотворении и досада на сегодняшние его заботы с «Современником»; они через запятую приравнены ко всем прежним заблуждениям:
- И мало горя мне, свободно ли печать
- Морочит олухов, иль чуткая цензура
- В журнальных замыслах стесняет балагура.
И дальше, впрямую, как манифест «новой жизни»:
- Иные, лучшие, мне дороги права:
- Иная, лучшая, потребна мне свобода…
Побег. Или изгнание… И та же покойная, в трудах, жизнь, что описана еще в «Пора, мой друг…», что манит его даже как возможность смерти – быть там, в новой уже жизни, похороненным…
Пушкин всё лето «держится», уповая на осень, подготавливая себя к ней… Ему это нелегко. Всего лишь в месяце от «Памятника», накануне цензурных сгущений вокруг «Современника», накануне августовского спазма «обстоятельств», нами отчасти описанного, 22 июля пишет он великую молитву (переложение из Ефрема Сирина):
- Владыко дней моих! дух праздности унылой,
- Любоначалия, змеи сокрытой сей,
- И празднословия не дай душе моей.
- Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
- Да брат мой от меня не примет осужденья,
- И дух смирения, терпения, любви
- И целомудрия мне в сердце оживи.
Пушкин – держится и верит в себя «нового». До долгожданной осени остается не так уж много… И мы снова упираемся во что-то монолитное и холодное, сплошное и непреодолимое – в тот же пьедестал.
Здесь неоднократно говорилось об особенном свойстве пушкинского «Я» – никогда не быть только личным свидетельством. И самая интимная лирика его, и даже его письма не дадут нам возможности судить о чем-либо сверх того, что он хотел сказать. Пушкин не проговаривается, за ним не понаблюдаешь, он, будучи сама открытость, в этом смысле неуловим. И лишь в «Памятнике» образовалась первая единственная трещинка в его поэтическом «Я», позволяющая судить о его личных обстоятельствах независимо от его воли. И тексты, последовавшие за «Памятником», как раз те, о которых мы здесь размышляли, тоже впервые являются не только вполне пушкинскими творениями, но и свидетельствами, возможно и невольными, его биографии. Текст впервые вырывается из пушкинской магнетической власти и становится документом, который следует рассматривать вперед любых других свидетельств и показаний.
Казалось бы, легче и справедливее пытаться прочесть Пушкина, чем про Пушкина; увидеть, что написано в строках, а не скрыто в свидетельствах. Впрочем, обличать любопытство к частной жизни гения – тоже занятие не сложное. Может, так он устроен, человек, что Страсти воспринимает непосредственнее Творения, что только через Страсти и способен он воспринять Творение. Во всяком случае, пушкинские творения, как и его страсти, – нерасторжимое целое.
Каким бы был «новый» Пушкин, будущий Пушкин? Гадать невозможно и бессмысленно. Важно, на чем мы здесь и настаиваем, что он мог быть, что он был бы.
Во-превых, Клио не покинула бы его. И не только Петр Великий, в которого он столько уже вложил труда… Всё, что после «Памятника», глядит в сторону истории. Неоконченная статья «Песнь о полку Игореве» – вот еще одно направление его культурной и просветительской работы: древнерусская литература. Укажи нам на нее как следует Пушкин, мы бы имели теперь с ней куда более близкие отношения.
Во-вторых, проза. Тут явно Пушкин не сказал своего последнего слова. Он мог бы дать нам образчик исторического романа (а ведь и лучшие наши достижения в этом жанре до сих пор вырастают из нескольких глав «Арапа Петра Великого», первого его опыта прозы).
В-третьих, лирика, которую, что ясно из чтения цикла 36-го года, он выводил уже на некий новый качественный виток и иной уровень. Будущность Пушкина-лирика как раз и не вызывает сомнений.
В-четвертых, и это главное, Пушкин – непрогнозируем. «Новыми» по качеству своему были уже его произведения 33-го года, а кто мог подозревать о них! О «Медном всаднике», о поздней лирике не имел понятия никто из оплакивавших его смерть. Возможно, это самолюбивая реакция на охлаждение публики, но всё меньше удостаивает ее и Пушкин своими публикациями, всё меньше говорит с друзьями о планах, поэтическое его развитие становится всё более глубоким, скрытым, подводным. «Пушкин не только не заботился о журнале (речь о „Современнике“, то есть 1836 год. – А.Б.) с родительской нежностью, он почти пренебрегал им. Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение. „Что же, – спросил я, – ты напечатаешь его в следующей книжке?“ – „Да как бы не так, – отвечал он, – я не такой дурак: подписчиков баловать нечего. Нет, я приберегу стихотворение для нового тома сочинений моих“». Вполне возможно, что он читал Вяземскому из цикла…
Это сейчас мы знаем, что он написал, или думаем, что знаем… Современник же не знал и текстов. Все стихи цикла 36-го и свет-то увидели через двадцать лет после смерти. Рукописи ли залежались, восприятие ли не было еще готово?…
«Новый том сочинений моих» оказался бы новым.
Приходится признать, что и мы вряд ли готовы к восприятию того, что он «мог бы» написать. Но жизнь наша, продлись тогда жизнь его, могла бы быть иной.
Вся схема его отчаяния в 36-м году есть героическое преодоление этого отчаяния ради будущей, новой жизни. Созидательные хлопоты по журналу (хоть и досаждающие); рождение четвертого ребенка; весь летний цикл (прежде всего молитва Ефрема Сирина); надежда на непременную осень: занять, перезанять, заложить, перезаложить… – но ВЫЕХАТЬ! Что всё это, как не неистовое желание жить, преодолеть, превзойти… Именно этот ряд заканчивается «Памятником» как поражением, как приговором.
Но и после «Памятника»… Оцепенев, он не отошел от цикла, а – остановился на нем; цикл замирает лишь на год, до будущей осени 1837 года. Работа 19 октября, перед встречей с лицейскими друзьями, тому доказательство: перед ними, перед самим собой делается вид, что Осень не пропущена, что это еще НЕ ВСЁ.
И в канун нового, 1837 года, пережив ноябрьский свой срыв, закончившийся сватовством Дантеса, он пишет:
«Я надеялся повидаться с вами осенью, но мне помешали отчасти мои дела, отчасти Павлищев, который привел меня в плохое настроение, так что я не захотел, чтобы казалось, будто я приехал в Михайловское для устройства раздела» (24 декабря – П.А. Осиповой).
«Я очень занят. Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени; в этом году я довольно плохо устроил свои дела, следующий год будет лучше, надеюсь» (конец декабря – отцу).
Тот Пушкин сделал ВСЁ. Новый – только начал.
Пушкин переменился. Это было трудно. Но его хватило на перемену ради будущей жизни.
Не хватило Судьбы – второй не было дано.
Пушкина хватило – Судьбы не хватило.
Молитва его не дошла…
VII. Поведение как текст (точка)
Вот как надобно писать!
Пушкин, последнее предложение последнего письма, последняя его точка.
1
«Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.
Я имею привычку в моих бумагах выставлять год и число. Гр. Нулин писан 13 и 14 дек. – Бывают странные сближения».
«Имея привычку», Пушкин, однако, саму эту заметку не датирует. Писана же она ориентировочно в прославленную его первую Болдинскую осень. Пушкин хорошо помнит обстоятельства написания «Графа Нулина», о которых не ведал во время создания. И почти через пять лет вторично и подчеркнуто датирует поэму.
Биографические и исторические обстоятельства и создания поэта не столько отражают друг друга, сколько идут навстречу, иной раз меняясь местами, ибо сами становятся обстоятельствами биографии. Они взаимовлияют, они равноправно вплетены в судьбу. Написанное произведение – всегда победа, позволяющая увидеть судьбу, не исказить или выдержать ее удары. «Борис Годунов» уравновешивает неприсутствие на Сенатской площади, а «Медный всадник» позволяет снести легкость камер-юнкерского мундира. Для нас «Медный всадник» – уже большее историческое событие, чем само наводнение…
Со временем дата наполняется дополнительным смыслом, как воронка водою.
Как тянет любого автора, закончив значительный (пока что лишь для себя…) текст накануне, скажем, собственного дня рождения (или возлюбленной, или наследника…), или просто недолюбливая то или иное число, или иное число любя, чуть слукавив, изменить дату на день вперед или назад… Не просто тщеславие – простительная слабость – одно из немногих прав автора. Не только и слабость… попытки приложить ухо, услышать приближающийся гул в рельсе времени. Пушкин, безусловно, не был сему чужд. Доказать трудно – проследить возможно.
Общая для нас хронологичность: дня рождения, Нового года – для Пушкина как раз нехарактерна. И в письмах, и дневниках – редко и достаточно безразлично: «Тетка <…> прислала мне корзину с дынями, с земляникой, клубникой – так что боюсь поносом встретить 36-й год бурной моей жизни»; «Начнем Новый год злословием, на счастие»… Кажется, лишь «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?…» датировано днем рождения – но зато и всё стихотворение именно на эту тему.
Датами года для Пушкина, безусловно, зато были дни Вознесения (по собственному признанию), дни 19 октября и 14 декабря. И странно залегает в его жизни еще не имеющее никакого смысла 27 января [66].
Возможно, и не каждый текст, помеченный 19 октября или 14 декабря, в точности был окончен (или начат) именно в этот календарный день. Слишком часто впоследствии начинает встречаться это «странное сближение». Тем более можно судить, что текстам, помеченным этими числами, Пушкин придавал особое значение. Это акценты Судьбы. (Или пародия на историю: «Мысль пародировать историю…»)
14 декабря 1826 года Пушкин отмечает свой отказ от печатания «Бориса Годунова» в связи с беспрецедентным по глупости царским отзывом.
Второе «Воспоминание в Царском Селе», датированное 14 декабря 1829 года, соединяет собою как 1814 (лицейский) год написания первого «Воспоминания…», так и 19 октября 1817-го с 14 декабря 1825-го, обе даты «зарифмованы» Пущиным и Кюхельбекером (лицеистами и декабристами): «Воспоминаньями смущенный, / Исполнен сладкою тоской…».
19 октября 1830 года (к той же осени относится соображение о «странных сближениях»…) Пушкин сжигает X главу «Евгения Онегина», посвященную событиям 14 декабря. Действие уже ритуальное…
Ровно через семь лет после «Годунова», того же 14 декабря, но 1833 года, запись в дневнике о новом витке взаимоотношений с «высочайшей» цензурой – снова отказ от печатания, на этот раз «Медного всадника», в связи с николаевскими пометками, ставшими Пушкину известными не 14-го, а еще 11 декабря. Но именно 14 декабря это гордое, даже величественное: «Это делает мне большую разницу».
В январе – декабре 1835 года Пушкин конспектирует «Деяния Петра Великого» И.И. Голикова. Хотя конспект до некоторой степени авторизован и некоторые его страницы являются уже пушкинскими, позволяя судить о стилистике будущей его «Истории Петра», сам Пушкин не мог еще относиться к этому тексту как к авторскому, не придавал ему еще значения написанного произведения – это его рабочий материал, который не требует датировки в той мере, в какой бывает значима дата в произведении авторском. Пушкин помечает начало работы, первую тетрадь, потом третью, потом забывает проставлять даты и лишь на последней – снова стоит дата, и это опять 14 декабря. Конспектируется, впрочем, последняя страница жизни, последний год Петра и последний его январь… Но это и начало последнего пушкинского года. «27 <января>, – писал Александр Сергеевич 14–15 декабря 1835 года, – Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неявственных, из коих разобрать было можно только сии: „отдайте всё“… перо выпало из рук его». «Петр перестал стонать, – писал он далее, – дыхание остановилось – в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины».
2
Отношение Пушкина к Петру – тема обширная, непрестанно изучаемая и не до конца изученная. Отношения Пушкина с Петром (личные) освещены еще меньше. Между тем они не только были, но и, безусловно, влияли на развитие Пушкина, особенно после 1825 года. У Пушкина были предшественники и старшие собратья по перу, но вряд ли кто в России того времени мог взять на себя действительную роль наставника, учителя или кумира: как сравнительная величина Пушкин сразу одинок, как гений. Байрон… после «Цыган» Пушкин не может скрыть раздражения по поводу настойчивого стремления современников понимать его в «байронической» традиции. Другие двое занимают его воображение: Шекспир и Гёте (в значительно меньшей степени). Им в основном посвящены его труды 1825 года. «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» – в восторге этом по поводу окончания «Бориса Годунова» есть и момент восхождения на шекспировскую вершину. «Сцена из Фауста» – легкий пролет не то сквозь, не то над, не то мимо Гёте. И, наконец, «Граф Нулин», через месяц с небольшим после «Годунова», – уже пародия на Шекспира – чистый вздох и усмешка освобождения от кумира. Пушкин в русской литературе уже встал на мировую дорогу всей стопой. Пушкин – это не только уже Пушкин, но уже только Пушкин. Литературная его роль перерастает в роль историческую. И Петр начинает его занимать более Байрона и Шекспира.
Нельзя сказать, что он так и подумал: Петр и я, я и Петр… Так задолго до него подумали другие. Эта идея носилась и оседала. Она была во многих головах. Это была общая мысль. Мысль самого времени.
Баратынский писал в то же время Пушкину в ссылку:
«Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один…»
И Бестужев писал ему туда же:
«В доказательство тому приведу и пример: что может быть поэтичественнее Петра? И кто написал его сносно?»
Жуковский все подталкивает под локоток:
«Ты создан попасть в боги – вперед».
«На всё, что с тобою случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ: ПОЭЗИЯ. Ты имеешь не дарование, а гений».
И так много раз. И хотя Пушкину про Петра и не пишет (из постоянных своих «педагогических» соображений) – Вяземскому, мечтая о будущем Пушкина, пишет (26 декабря 1826 г.):
«Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого».
Пушкина же напутствует: «Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы».
В 1825 году Пушкин впервые вчитывается в «Деяния Петра» И.И. Голикова…
Эти десять лет буквально «посвящены» Петру, составляя значительнейшую часть всего его творчества: первое большое произведение в прозе, хотя и неконченное, «Арап Петра Великого» (пушкинская проза начинается с Петра…), «Полтава», «Стансы», «Медный всадник», «Пир Петра I»… И, наконец, бесконечная работа над будущей «Историей Петра», прерванная лишь смертью.
Пушкин гордился своим прадедом особо, через «арапа», Петрова крестника, роднясь с Петром. В набалдашник его палки была вделана пуговица с мундира Петра…
14 декабря 1835 года, открывая последнюю тетрадь конспекта, Пушкин записывал:
«1724. Петр во время праздников занялся с Феофаном учреждениями, до церкви касающимися. <…>
Петр указом превратил монастыри мужские в военные гофшпитали, монахов в лазаретных смотрителей, а монахинь <…>
Указ о вольности брака. Родители должны были давать присягу, что детей не принуждают <…>
Незаконнорожденных записывать в художники <…>
О доносах по службе подчиненного на начальника.
За бранное слово, крик etc. штраф (в присутственном месте) <…>
Петр занялся планом Академии наук – и списывался о том с Лейбницем, Вольтером, Фонтенелем <…>
Библиотекарю Шумахеру для угощения посетителей кунсткамеры определено 400 р. <…>
Петр, издав множество еще указов, отправился в феврале к Олонецким водам и лечился…»
Пушкин виднеется из-за страницы конспекта – с его интересом и удовольствием. Конкретность и живость государственной заботы прельщает, так или иначе, его в Петре. Быстро меркнущий ассоциативный блеск за каждой строкой человека, живущего через 110 лет, человека, торопящегося сейчас, собирающегося написать всё это потом. Изредка ассоциация современника прорывается все же в текст:
«Аврамов был при шахе в Ардевиле. На него нападала чернь, но он был счастливее Грибоедова. Он отстрелялся и бутылкою вина утушил всё сие дело <…>
5 ноября Петр…»
3
5 ноября 1836 года Пушкин уже отослал вызов Дантесу в связи с получением накануне анонимного письма с посвящением его в историографы Ордена рогоносцев, 5 ноября он уже ждал ответа и решения своей судьбы. Тут же в дело вошел Жуковский со своим искренним, как всегда, и неблагодарным стремлением все уладить в судьбе Пушкина. С этого момента и до трагического конца он в своей переписке становится невольно основным «историографом» дуэли Пушкина, растянувшейся почти на три месяца. Теперь продолжим чтение конспекта Пушкина о последних днях Петра от 14 декабря 1835 года, но параллельно «конспекту» Жуковского о последних днях Пушкина…
ТЕКСТ ЖУКОВСКОГО(4–5 ноября 1836 – 29 января 1837 г.)(По поводу вызова 5 ноября): Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну, я сказал <…> что не застал тебя дома <…> Итак, есть еще возможность всё остановить. Реши <…> Но, ради бога, одумайся. Дай мне счастие избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство <…> Он (Геккерн. – А.Б.)в отчаянии… сказал: «Я приговорен к гильотине; я взываю к милосердию, если это не удастся – придется взойти на эшафот…» Вот что приблизительно ты сказал княгине третьего дня, уже имея в руках мое письмо: «<…> через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная…» (О 27 января):…по выборе места надобно было вытоптать в снегу площадку. <…> Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. <…> Он оперся о левую руку, лежа прицелился, выстрелил, и Геккерн упал <…> Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал: «Bravo!»
«Что делает жена? – спросил он однажды у Спасского. – Она, бедная, безвинно терпит! в свете ее заедят».
…ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня! Я всё простил».
С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих <…> Люди всех состояний, знакомые и незнакомые <…> Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Число приходящих сделалось наконец так велико…
Бедная жена встретила его в передней и упала без чувств <…> «Не давайте излишних надежд жене <…> не скрывайте от нее, в чем дело; она не притворщица <…>». Княгиня [67] была с женою, которой состояние было невыразимо; как привидение, иногда прокрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж. <…> Она в совершенном изнурении лежала в гостиной, головою к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. Когда поутру кончились его сильные страдания <…> «Жену! позовите жену!» Этой прощальной минуты я тебе не стану описывать.
Потом потребовал детей; они спали; их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза молча, клал ему на голову руку; крестил и потом движением руки отсылал от себя. «Всё жене и детям»… (И.Т. Спасский).
У него спросили: желает ли он исповедаться и причаститься. Он согласился охотно, и положено было призвать священника утром. Умирающий исповедался и причастился с глубоким чувством.
Раз он подал руку Далю и, пожимая ее, проговорил: «Ну подымай же меня, пойдем, да выше, выше… ну, пойдем!» Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам к полкам; высоко… и голова закружилась». Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву руку и, потянув ее, сказал: «Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе». Лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь». <…> «Жизнь кончена!» – повторил он внятно и положительно.
Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его не приметил.
Не буду рассказывать того, что сделалось с печальною женою.
ТЕКСТ ПУШКИНА14-15 января 1835 г.(5 ноября 1724 – 28 января 1725 г.)5 ноября. (Эпизод спасения бота…): Петр на яхте своей прибыл в П.Б. <…> Петр послал на помощь шлюбку <…> Петр гневался, не вытерпел – и поехал сам… Петр выскочил и шел по пояс в воде, своими руками помогая тащить судно. <…> Он не спал целую ночь – и возвратился в П.Б. <…> В сие время камергер Монс де ля Кроа и сестра его Балк были казнены. Монс потерял голову; сестра его высечена кнутом. <…> Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом, не смела за него просить, она просила за его сестру. Петр был неумолим. <…>
Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? по крайней мере, ревность и подозрение терзали его [68]. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елисаветы, Петр согласился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою. 26-го утром Петр повелел освободить всех преступников, сосланных на каторгу <…>
27-го дан указ о прощении неявившимся дворянам на смотр. Осужденных на смерть <…> простить…
25-го <…> Церкви были отворены: в них молились за здравие умирающего государя, народ толпился перед дворцом.
Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок – она не отходила от постели Петра – и не шла спать, как только по его приказанию <…> Присутствующие начали с ним прощаться. Он приветствовал всех тихим взором. Потом произнес с усилием: «После…» Все вышли, повинуясь в последний раз его воле.
Петр царевен не пустил к себе. Кажется, при смерти помирился он с виновною супругою. <…>
Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неявственных, из коих разобрать можно только сии: «Отдайте всё…» – перо выпало из рук его. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла – но он уже не мог ничего говорить.
«Сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня». <…> Петр повторил несколько раз. «Верую и уповаю» <…> «Верую, Господи, и исповедую; верую, Господи: помози моему неверию», и сие все, что весьма дивно (сказано в рукописи свидетеля), с умилением, лице к веселию елико мог устроевая, говорил, – по сем замолк.
Петр перестал стонать, дыхание остановилось – в 6 часов утра 28 янв<аря> Петр умер на руках Екатерины.
Трудно с уверенностью сказать что-либо об этих параллелях, кроме того, что они «наводят на мысль». Абсолютная, не требующая доказательств независимость этих текстов, писанных разными людьми о разных людях, – единственное, что оправдывает сличение. Если эти тексты ничего не знали друг о друге, то один умирающий знал о другом, знал много, долго и точно. Каковы бы ни были страдания Пушкина, сознание его оставалось в высшем смысле ясным. Он не говорил более о каких бы то ни было литературных делах, но думал, чего не успел («Я бы писал…»). Самая большая незаконченная работа – история Петра. Еще 27 января утром он над ней работал. 28 января умер Петр, 28 января умирает Пушкин… Этот символ мало что значит, и вряд ли Пушкин мог перегрузить его значением. Но конспект от 14 декабря 1835 года – был.
Во многих отношениях он его поправил и улучшил. Это видно.
4
«…Презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества; и вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона… и М-те… но и в старинных залах потомков Л… и Л… Жалкий век! Жалкий народ!»
Пародия на геккерновскую историю не состоялась. Отписаться от судьбы Пушкину не удалось.
Оставалась по-прежнему дуэль.
Она – состоялась.
Она известна нам не менее, чем любимая оперная партия. Всё в ней было только так – иначе нет мелодии. Не будь Пушкин ранен… убивал ли бы он Дантеса? Пародией разрешиться не могло. Условия дуэли не позволяли промахнуться обоим. Дальше – лежа, в снегу, попал, «bravo»… кто подставил под пулю пуговицу Дантеса? Мужчина и боец, Пушкин осуществлен до конца: никакой рыхлости, никакого позднейшего налета. Но – не убийца. Стечение, которого ни предусмотреть, ни подыграть нельзя. Пушкин-имя сохраняется жить, жертвуется живой Пушкин. С услужливостью и выгодностью сознания наследников, какого бы мы получили себе Пушкина, кабы судьба ответила Дантесу тем же, чем ему?
Пушкин, лежа, в снегу, отвечал ему тем же.
Судьба – единство жизни и текста, так заботившая Пушкина на протяжении ВСЕЙ его жизни, – свершилась. Усилие – увенчалось. Сошлось. И вот у нас тот Пушкин, которого мы не только из праздного любопытства рассматриваем уже лишь вместе с биографией: с лицеем, Натальей Николаевной, Бенкендорфом… ЕДИНЫЙ Пушкин.
Вариантов у этой дуэли нет. Вот его разглядели с Данзасом на набережной… всполошились, нагнали у Черной речки, застигли… скандал, фарс еще больший…
Вот Дантес промахивается – что делать Пушкину?
Или Дантес не ранит, а убивает его наповал… Бедная Наталья Николаевна! Как бы мы теперь обходились с ней!.. Мы бы не сомневались в ее виновности. Вряд ли бы он поблагодарил нас за это. Но он не мог бы и нас вызвать на дуэль…
Вариантов нет. Все фальшивит, кривляется, искажается перспектива – кривое зеркало, укороченные ножки, ускоренные ранним кинематографом несерьезные телодвижения, бумажные куклы, мультик… Это тяжело, одышливо и несерьезно, как сегодняшний день. Это не Пушкин.
Вот, всё – так же, только нет спасительной для Дантеса пуговицы… Тот же Пушкин и не тот. Не наш это Пушкин. Усилие всей жизни, всего труда, единственное в каждой строке и жесте, становится как бы и не настолько единственным, насколько единственен для нас НАШ Пушкин, поскольку ЦЕЛ, поскольку ВЕСЬ.
Единство жизни и текста может быть обнаружено в любой точке и снова обратиться Судьбою: заяц, мундир, Дантес… Но непоправимо его можно нарушить – лишь в самом конце. Если текст закончен, то он закончен. К нему не припишешь. Не исказит его только точка. Она ставится. Пуля. Пуговица. Это Судьба.
Вариантов у этой дуэли нет не только потому, что у того, что ЕСТЬ, нет вариантов. Даже у сочувствующего судьбе героя Провидения нет выбора между поэтом и человеком. Человек – не считается.
Есть лишь один вариант, единственная возможность счастливого исхода этой дуэли – несмертельность раны Пушкина.
Пушкин физически не только такой же человек, как все, а может, и больше, чем все, человек: ему так же больно, он так же не хочет умирать… но только ли это беспокоит его в настойчивом расспросе докторов: смертельна ли рана?
Его беспокоит не только, а может, сначала, и не столько это. Выбор всё еще не окончен! Всё тот же труд соединения поэзии и жития – предстоит или не предстоит? Поэтому – благодарность (столь не показная…) докторам за честный ответ, благодарность профессионала профессионалу, мужества за мужество.
Лишь с этого момента всё окончательно ясно. Если бы не ужасные физические страдания, то это почти то же чувство облегчения, что и утром перед дуэлью: решилось – весел!
Текст и жизнь сошлись воедино. Пересеклись. Точка.
Сама жизнь его становится текстом.
Можно верить потрясенному абсолютному слуху А.И. Тургенева, Жуковского [69] и особенно великого слухача Даля – это точнее стенографии или магнитофона: слова умирающего Пушкина – его слова [70].
Пушкин – уже ничего не напишет. Слово стало лишь произносимым. Никого не заподозришь в нарочитом поведении перед смертью, не только Пушкина. Только не Пушкина.
«Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим» (Плетнев).
Жуковский приводит слова доктора Арендта, лучше других представлявшего себе, какую боль испытывал Пушкин: «Я был в тридцати сражениях, я видел много умирающих, но мало видел подобного».
Барант: «Как русские в 12-м году…» («кто умирать шел мимо нас…»).
Даль советует: «…Не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». – «Нет, – он отвечал перерывчиво, – нет… не надо… стонать… жена <…> услышит… Смешно же… чтоб этот… вздор… меня… пересилил… не хочу».
Смешно… вздор… меня… пересилил…
Арендт, восхищенный мужеством раненого по сравнению, не мог себе представить, чем оно уравновешено, чем обеспечено. Основная ноша была сброшена. Подъем кончился, и крест внесен. Двойной нагрузки жизни и текста больше не было. Умирая, Пушкин принадлежал уже только жизни. Впервые в жизни.
Подвиг кончился. Осталось уже последнее дело жизни – умереть достойно. Это несравнимо с предыдущим грузом. Смешно… вздор…
МЕНЯ… Пушкина.
Раз уж ТО его не пересилило, то это… «Смешно…»
«Он мучился менее от боли, – пишет Жуковский, – нежели от чрезмерной тоски: „Ах! какая тоска! – иногда восклицал он, закидывая руки на голову. – Сердце изнывает!“»
Что была эта тоска? О чем память? Или чего предчувствие? Это – тайна.
Но все сказанные им слова – последней точности:
«Смерть идет».
«Нет; мне здесь не житье; я умру, да, видно, уже так надо».
«Долго ли мне так мучиться? пожалуйста, поскорее».
«…скажи жене, что всё, слава богу, легко…»
«Я думаю (умереть), по крайней мере, желаю».
«Ну ничего, слава богу, всё хорошо».
И слова – высшей точности:
«Кончена жизнь! Жизнь кончена».
Об этом нельзя писать. Тут не выкрутишься и не уточнишь. Кто мог поставить такую точную точку в конце ВСЕГО? Мало сказать – гений, надо сказать: Пушкин.
Не меньше Петра… Такое соотношение поэта с великим царем в позднейшей мировой литературе возможно лишь в России. Что на что не променял Пушкин, из всех возможностей предпочтя Судьбу, прожив свою жизнь со ссылками, царями, долгами, Третьим отделением, цензурой, невыездом за границу, камер-юнкерством, гибелью друзей, непониманием публики?… На теоретическую мировую славу (буде оказался в Европе бы…) не разменял он своего мирового значения, достигнутого в России и путем России, – своего рода трон. Насчет «мировой славы» он не заблуждался… Об этом свидетельствует его неоконченная статья «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“», предшественница «Последнего из свойственников Иоанны д’Арк». «Изо всех иноземных великих писателей Мильтон был всех несчастнее во Франции», – говорит Пушкин и далее обрушивается на В. Гюго и А. Виньи за то, что они вывели поэта Мильтона шутом (ключевое слово позднего Пушкина).
«Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке, не известном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то возводя их в потолок. Разговоры его с Дету, с Корнелем и Декартом не были пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека».
И далее примечательный пассаж о возможностях перевода.
«Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, не способен к переводу подстрочному, к преложению слово в слово, то каким образом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам, даже ему единоплеменным, выдержит подобный опыт, особенно в борьбе с языком Мильтона, сего поэта, все вместе и изысканного и простодушного, темного, запутанного, выразительного, своенравного и смелого даже до бессмыслия?»
Многое из сказанного о Мильтоне есть пусть отдаленная, но автохарактеристика, продолженная в той же статье далее, в противопоставленном Гюго Шатобриане:
«…Шатобриян на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба. <…> Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. <…> Шатобриян приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но неподкупной совестию. <…> критика может оказаться строгою к <…> недостаткам столько, сколько ей будет угодно: несомненные красоты, страницы, достойные лучших времен великого писателя, спасут его книгу от пренебрежения читателей <…> Много искренности, много сердечного красноречия, много простодушия (иногда детского, но всегда привлекательного) в сих отрывках <…> которые и составляют истинное достоинство „Опыта“» (XII, 137,143–145).
Истинным достоинством опыта обладают и все последние (после «Памятника») тексты Пушкина. Личный опыт никогда не сказывается раньше на его произведениях до такой откровенной степени. Это его признания. Они произносятся и впрямь на уровне завещания, последнего слова.
Умирал ли он на самом деле в контексте «смерти Петра», не так и важно. Точно – что Пушкин-человек умер, как царь.
В царствовании своем вознесся он, может быть, и не выше Медного всадника, зато выше Александрийского столпа.
5
Незадолго до рокового события Пушкин рассказывал кому-то, что все важнейшие события его жизни связаны с днем Вознесения. Он имел даже намерение выстроить в Михайловском церковь во имя этого дня. Он считал, что совпадения эти недаром и не могли быть делом одного случая.
Он родился в день Вознесения, венчался в церкви Вознесения, и помолвка, и рождение первенца Маши падают на этот день, последняя, Наталья, родилась чуть раньше, но видит ее Пушкин по приезде из Пскова в этот день… прибытие в ссылку в 1820 году и прошение об освобождении (которое наконец было удовлетворено) в 1826-м… выход в свет «Цыган»… «побег» в Арзрум… Но, по-видимому, более на эти дни упало событий глубинных, внутренних, которым сам Пушкин придавал значение и которые мы проследить в точности не можем.
Смерть его случилась задолго до весенних этих дней.
Но 3/4 часа до смерти видится подъем, круча, та самая по житиям известная «лестница»…
Он зовет Даля:
– Ну подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем.
– Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам и полкам высоко – и голова закружилась.
– Кто это, ты?
– Что это, я не мог тебя узнать.
– Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе [71].
– Кончена жизнь!
– Жизнь кончена.
Но это был еще не конец…
«Я смотрел внимательно, – пишет Жуковский, – ждал последнего вздоха; но я его не приметил. <…> Так тихо, так таинственно удалилась душа его».
Далее следует поразительная страница описания лица поэта.
Жуковский остается с ним один на один.
«…руки <…> как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда».