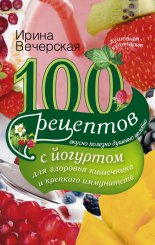Поднимите мне веки Елманов Валерий

– Меня звать… – в очередной раз попытался я представиться и вновь не успел.
– Да ты чаво мелешь-то, Микола?! – раздалось из дальних рядов.
Бородач недовольно оглянулся. Из толпы, бесцеремонно расталкивая народ, вынырнул худощавый мужичок. В руках у него ничего не было – и то хорошо.
– Нешто не признал до сих пор?! То ж князь Федор Константиныч! Он у нашего царевича завсегда близ правого плеча стоял, егда тот свой суд чинил. – Назидательно повторил: – У правого плеча, дурья твоя голова. – И ко мне: – Неужто тебя, княже, сам царевич прислал, заслышав, что от ентих поганцев уж никому житья в Москве не стало?
Памятуя о пиар-кампании, но и не желая нахально врать, я неопределенно передернул плечами – пусть понимают так, как им хочется.
– Таперь и сам зрю, что князь. И что у правого, тож памятую, – проворчал бородач.
«И какая разница, у левого или правого плеча я стоял? – вяло мелькнуло в голове. – Или постой – там где-то за одним ангел маячит, а за другим…»
Меж тем топор Миколы вновь опустился к ноге, да и капать с него вроде бы перестало. Или нет? Почему-то мне показалось очень важным точно выяснить это, и я прищурился, уставившись на лезвие.
Нет, точно перестало. А раз так, значит, и кровь сегодня, как я загадал, больше литься не будет.
– Да ты не хмурься, княже, – смущенно покаялся Микола, неверно истолковав мой взгляд. – Ну не разглядел я тебя, прости уж, чего там. У меня очи сызмальства худовато видят, а из дальних рядов лика и со здоровыми зенками не углядеть, так что не серчай. А мы к тебе завсегда с уважением, потому добро помним, и яко ты Федору Борисычу по справедливости судить подсоблял, тож нипочем не забудем. А тебя что ж, и впрямь царевич прислал?
– Да кто ж окромя него?! – возмутился на недогадливого бородача мужичок. – Чай, князь завсегда близ царевича, а не токмо на судилищах, вот и доверил ему престолоблюститель вернуться, чтоб, значит…
– Мне девка нужна, – отрывисто произнес я, перебивая мужичка и силясь припомнить ее имя, так некстати вылетевшее из головы, но подсказал встрепенувшийся бородач:
– Ржануха, что ли? А на кой ляд тебе моя братанична? – И он вновь насторожился.
– Видоком будет, – устало пояснил я, – а то государь не поверит, что не я и не мои люди первыми все это начали. – Напомнив: – За побоище-то ответ придется держать.
В задних рядах кто-то испуганно ойкнул – кажется, стало доходить, что за удовольствие отправить полтора десятка ляхов на тот свет действительно придется расплачиваться.
А если допустить, что кое-кто из погибших состоит на государевой службе, что по закону подлости не просто вероятно, но скорее всего, тут хоть совсем караул кричи.
Навряд ли разодранный у девки рукав рубахи и багровую от оплеухи щеку Дмитрий посчитает достойной причиной убийства своих людей.
Тот же Дворжицкий и прочие как пить дать потребуют довесок, и тогда на вторую чашу весов, чтобы их уравновесить, понадобится положить головы.
Желательно отрубленные.
Я нахмурился, щурясь и не понимая, что происходит. Только что передо мной стояло не меньше полусотни. Каким образом это число убавилось за последнюю минуту чуть ли не на половину, если учесть, что убегающих я не видел?
Испаряются они, что ли?
– Девку сюда, – устало повторил я оставшимся. – И стрельцов объезжих покличьте.
– Да мы… – замялся бородач. – У государя, конечно, суд тоже, поди, правый, токмо…
Я усмехнулся и поудобнее оперся на саблю.
– У меня перед глазами все плывет, так что никто из вас мне не запомнился и опознать я никого не смогу, – предупредил я их и только теперь, спохватившись, ринулся к тому месту, где лежал Дуглас, расталкивая испуганно шарахавшихся с моего пути людей.
Шотландец лежал всего в десятке шагов от тына, где мы начинали бой и где его заканчивали. Вид безмятежный, в одной руке плеть, а в другой почему-то зажат какой-то листок, и, судя по всему, это стихи.
Нашел с чем кидаться в бой.
Ах, Квентин, Квентин…
Он же поэт.
Он же влюбленный.
Он же… предатель.
Не обращая ни на кого внимания, я склонился над шотландцем, хотя все знал и без того, потому что на губах его застыла улыбка. Почему-то именно она и стала для меня самым главным доказательством, что это конец и ничего уже не исправить.
Еще надеясь на какое-то чудо, я приложил руку к его груди, а потом к шее. Так и есть: сердце не бьется и пульса тоже нет. Теперь Дуглас ушел в небытие окончательно и навсегда.
Куда? Да к звездам, куда ж еще улетать душам поэтов, так что все произнесенное мною надо употреблять в прошедшем времени – «был».
Был поэтом.
Был влюбленным.
Был пре…
Нет, этого слова я больше никогда не произнесу!
Минутная вспышка лютой ревности, особенно если умело разжечь ее, добавив побольше дров-подозрений, порою заставляет совершать безумства куда хуже.
К тому же шотландец сразу и искренне раскаялся в содеянном, и не просто раскаялся – он же хотел попросить у меня прощения, причем дважды – едва закончилось судебное заседание и второй раз сейчас.
Но он рассчитывал, что я загляну в свой собственный терем, а я проехал мимо, и тогда Квентин, узнав от Багульника, что, возможно, я не появлюсь в нем вовсе, недолго думая опрометью бросился следом за мной.
Только поэт в семнадцатом веке может так спешить, что даже не захватит с собой ни пищали, ни сабли, и, оказавшись на месте схватки, не зная как помочь другу, просто направит коня на его врагов.
Безумец? Ну да, кто ж спорит. Поэты, они вообще не от мира сего, а влюбленные – тем паче.
– И еще Пепел, – тихо произнес кто-то над моим ухом.
Я поднял голову и посмотрел на стоящего позади меня Дубца, за спиной которого никого из горожан уже не было – как корова языком слизнула.
– Что? – переспросил я.
Он повторил.
Я рассеянно кивнул, уточнив:
– А остальные?
Он пожал плечами:
– Раны у Курноса и Кочетка я перетянул, чтоб кровью не изошли, ну и прочим тож, но все одно – надо бы их к лекарю, да побыстрее. Зимник вовсе худой, да и Зольнику тоже изрядно досталось. А ентот… Каравай… все храпит…
– Счастливчик, – вздохнул я и горько усмехнулся, протягивая руку и указывая Дубцу перед собой. – К лекарю, говоришь… Вон уже бегут… лекари. – И до крови прикусил губу, окончательно приводя себя в чувство.
Со стороны Посольского двора, где сейчас жила большая часть поляков, действительно уже бежали к нам люди. Настрой у них, судя по сверкающим клинкам сабель, был самый решительный, следовательно, предстояло их как-то остановить, а потому вновь не время и не место предаваться печали.
Потом, если… выберусь живым из этой заварушки.
Я тяжело поднялся с колен и еще раз оглянулся в сторону Пожара. Улица позади меня оставалась безлюдной, будто никого и не было. Из стоящих – я и Дубец, из лежащих еще пятеро, если считать безмятежно храпящего Караваджо, из умолкших навеки – двое.
Ах да, плюс шляхтичи, но их, признаться, лень считать, да и какая разница, если ясно, что ответ придется держать за всех разом, сколько бы их тут ни валялось.
И кому держать этот ответ – тоже ясно.
В этом мире вообще все ясно, понятно, легко и просто. Хотя не во всем, не всегда и не для всех, но такие тупые, как я, – исключение, ибо они долго не живут.
Бегущие, которым до меня осталось метров пятнадцать, а до своих, лежащих на бревнах мостовой, на пять-шесть меньше, уже все увидели в подробностях.
Судя по их ошеломленному виду, стало ясно, что время у меня есть, но очень и очень мало, потому что при виде этих самых подробностей – разрубленных голов, распоротых животов с раскиданными кишками и прочего – спрашивать меня, в чем дело, никто не станет, тем более никого из путивльских знакомцев среди них нет, а значит…
Или станет?
На миг мелькнула надежда, что время потянуть удастся, поскольку они еще не знают – вдруг я дрался на их же стороне, но только уцелел.
Нет, врать я не собирался, но если очень подробно и обстоятельно начать рассказывать о случившемся, то вполне можно дождаться прибытия стрельцов, а там…
Однако к столпившимся у места побоища полякам прибавлялись все новые и новые, а среди них был и тот, кто десять или пятнадцать минут назад находился среди дерущихся. Он единственный не растерялся и вовремя успел принять правильное решение сделать ноги без всяких колебаний, за счет чего и сумел улизнуть.
Несколько секунд я еще надеялся, что ошибаюсь, но потом понял, что это точно он. Во время своего бегства шляхтич пару раз споткнулся, чуть не упал, отбросил в сторону мешающую ему саблю и оглядывался на толпу – не бегут ли за ним, так что лицо его мне хорошо запомнилось.
Оно и кривилось сейчас, в точности как тогда, разве только по другой причине. Пятью, десятью или пятнадцатью минутами ранее это было вызвано страхом, а сейчас – ужасом.
Единственное, что я не понял, так это почему он вместо того, чтобы дать стрекача по прямой, устремился вновь за угол? Может, рассчитывал сбить возможную погоню со следа?
Впрочем, молодец, что завернул. Если бы не эти его странные обходные маневры, поляки прибежали бы куда раньше, когда здесь еще бесновалась толпа. Хотя и неизвестно, к добру это или к худу, особенно учитывая, что меня только что выпустили из темницы, а я, получается, тут же собрал эдакое народное ополчение и рванул под флагом защитника святой Руси на улицу Никольскую, где и вступил в славное сражение.
Что сообщил шляхтич своим, забежав в широченные ворота Посольского двора, – не знаю, но догадываюсь, тем более что ляхам-то я как раз представиться успел. Сейчас он укажет им на меня как на виновника, и…
– Дубец, встань сзади и прикрой мне спину, – приказал я, изготавливаясь, и мне почему-то припомнилась трапезная терема на старом подворье Годуновых и то утро, когда я еле-еле успел на выручку царевичу.
Странно, что оно всплыло в памяти. Наверное, потому, что я сейчас отдал своему гвардейцу точь-в-точь такую же команду, как тогда Федору. Может, и не дословно, но по смыслу один в один.
Вот только тогда было шесть или семь стрельцов, ну плюс двое бояр – все равно терпимо, а сейчас три десятка, и на победу я не рассчитывал. Выстоять против такого количества шляхтичей не под силу никому, даже самому рэмбистому Рэмбе.
Но и умирать мне было никак нельзя, а потому…
Прибежавшие продолжали стоять, оцепенело взирая на изуродованные тела. Единственный уцелевший тоже пока помалкивал, не в силах отвести глаз от убитых.
Оно и понятно – ему ведь жутче всех прочих. Его товарищи ужасаются просто от увиденного, а этот сейчас невольно примеряет смерть, свистнувшую косой близ его виска, на себя, а это куда страшнее.
– Вот он!
Ой-ой-ой, какой у нас тонкий голосок. Или фальцет тоже со страху?
– Этот все и затеял!
Фу как невежливо тыкать пальцем в человека.
Жаль, не научила тебя мама-шляхтянка, что надлежит указывать всей пятерней, особенно когда перед тобой не просто человек, а шкоцкий рыцарь и притом цельный князь, да еще королевского роду.
– Он все и начал! Первым Липского, а опосля…
Беда с этим воспитанием. Воистину, верно говорят: «Врет как очевидец». А ведь прекрасно видел, кто начал первым… И даже не тот, кто храпит, а…
Между прочим, лжесвидетельство, если по Библии, и вовсе смертный грех. Вот только чудно получается – совершил его этот невзрачный запыхавшийся поляк, а расплачиваться за него в строгом соответствии со Святым Писанием, то есть своей жизнью, придется мне.
А где же справедливость?!
Впрочем, в жизни ее вообще очень мало, потому народ и реагировал с таким энтузиазмом на наши с Федором спектакли, которые мы устраивали жителям столицы.
Кстати о жителях. Вообще-то могли бы прислать помощь. Или я опростоволосился, забыв про стрельцов и попросив прислать только девку? Не помню. У меня и имя девки опять, как назло, выскочило из головы.
И сразу подумалось, что лучшее средство от склероза, равно как от перхоти, мигрени и прочего, мне сейчас предоставят. А о чем еще думать, когда шляхтичи как по команде дружно шагнули вперед, в упор глядя на меня, а в глазах у них такое, что…
– У меня нет топора! – громко произнес я, указывая на обезглавленное тело.
Так, приостановились, переглянулись.
– Пану Свинке ты, помнится, и сабелькой голову, почитай, начисто от плеч отделил, – вдруг раздался угрюмый голос одного из шляхтичей.
Выходит, зря я расстраивался – есть тут и «путивльские сидельцы». Вот только теперь получается, что лучше бы их не было вовсе, особенно с такой хорошей памятью.
– Но я воин и князь, а не мясник, чтоб учинить такое, – кивнул я в сторону еще одного, с распоротым животом и безобразно раскиданными потрохами.
И вновь остановка. Только надолго ли?
– Он простолюдинов и позвал, – вновь раздался тонкий голос.
Ах ты ж скотина!
Понимаю, что у страха глаза велики, но не до такой же степени, чтобы увидеть то, чего вовсе не было.
– И как же это я ухитрился сбегать с поля боя за московским народом? – Я еще пытался воззвать к голосу логики, но куда там.
Воистину, когда говорят эмоции, до разума достучаться невозможно, а уж когда они истошно воют, вот как сейчас, то…
Я зло ухмыльнулся, горделиво выпрямился и мысленно ободрил себя: «Помни, что сдаваться без боя на милость победителя стыдно, а на милость озверевшего победителя вдобавок еще и глупо. И вообще, князю Федору Константиновичу Россошанскому не пристало оправды…» И чертыхнулся – надо же так все спутать!
Хотя какая разница?! Главное ведь не в том, князь или нет, и Константинович я или Алексеевич – это никого не волнует. Просто… запретили мне умирать, а потому…
Помнится, Михай Огоньчик советовал мне, вступая в бой с несколькими противниками одновременно, начинать с…
Так, что-то я не пойму причины вашей очередной остановки, господа. Вроде бы больше не приводил никаких доводов, так в чем дело? Мы будем сегодня драться или как?
И тут же из-за моего правого плеча раздался голос ангела:
– Княже, стрельцы сюда скачут…
Да знаю я без вас, что он принадлежал Дубцу! Ну и что?! Слова-то все равно ангельские.
Глава 28
Я за все в ответе
Подъехавших к месту происшествия стрельцов было немного – всего пятеро, – но ситуацию они изменили будь здоров!
Во-первых, были они при пищалях и конные, а атаковать всадника, будучи пешими, ляхи не умели, да им и нечем. Тут нужны не сабли, а копья, на худой конец – бердыши, а они в наличии хоть и имелись, но опять-таки у самих стрельцов.
Ну и, во-вторых, сам факт их появления. Кидаться на государевых людей, осуществляющих надзор за порядком в столице, – перебор даже для поляков, привыкших к безудержной вольнице.
Словесная перепалка, чтобы обойтись без этой самой драки, тоже ни к чему не привела – русские ратники были настроены решительно и просто так отдавать на растерзание ляхам ни меня, ни моих людей не собирались.
Это наглядно доказал старший пятерки десятник Щур, который в первую же минуту кивнул своим подчиненным, и они впятером обогнули меня с Дубцом, прочно закрыв таким образом от беснующихся ляхов.
Ответные аргументы Щура были просты и немногословны. Человек, который всегда помогал царевичу вершить правосудие, одним этим заслуживает ныне как минимум справедливого судебного разбирательства.
– К тому ж покамест неведомо, кто во всем повинен, – веско добавил он и, даже не повернувшись ко мне, чтобы спросить, невозмутимо продолжил: – Вот тут князь Федор Константиныч уверяет, будто ляхи сами первыми учали, и я ему верю, ибо не припомню, чтоб у него словцо с дельцем враскорячку ходило.
– А мне веры нет?! – возмущенно выкрикнул уцелевший шляхтич.
Щур явно не имел склонностей к дипломатии, поэтому, окинув презрительным взглядом фигуру поляка, насмешливо сплюнул и отрезал:
– Нет! – Но сразу пояснил: – Как можно верить тому, кто бросил в беде своих товарищей? Опять же по-любому видок на видока, выходит. Тут и царевичем быть не надо, дабы уразуметь, что у каждого свой интерес.
Поляки растерянно загудели, обсуждая, что теперь делать, а Щур, по-прежнему не собираясь слезать с коня – так-то оно куда грознее, – повернулся ко мне и… заговорщически подмигнул, приглашая оценить, как ловко он им врезал.
Я слабо усмехнулся в ответ, отходя от недавнего и продолжая удивляться, как круто кидает меня этот мир туда-сюда на своих волнах. То над головой зависает девятый вал, а то почти сразу вслед за ним не просто затишье, но и удача.
Ведь даже сейчас все могло бы быть иначе, если бы вместо Щура объезжую службу на Пожаре возглавлял иной десятник, который вполне мог струсить – вон сколько шляхты собралось, почти полсотни, а со стороны Посольского двора все бегут и бегут новые люди.
А все дело в том, что Щур очень хорошо видел наши с Федором судебные заседания.
Он не возглавлял оцепление – десятник для этого слишком мелкая сошка, – но именно сотня, где командовал громадина Чекан и в которой Щур нес службу, постоянно дежурила на них, будучи основной.
Вторая сотня оцепления была, как говорится, с бору по сосенке. Десяток из одного приказа, как тут именуют стрелецкие полки, десяток из другого, десяток из третьего и так далее. Словом, строго согласно плану пиар-кампании, чтобы все ратные люди, где бы ни служили, все равно в подробностях знали, как добр, как умен, но главное – как справедлив царевич.
Но пиар пиаром, а следить за порядком тоже надо, и лучше, если этим займутся одни и те же люди, для которых эта охрана станет привычным делом, поэтому сотня, где служил Щур, была бессменной, чем Ратман Дуров – голова полка, куда она входила, безмерно гордился.
Кстати, сам десятник даже как-то раз подходил ко мне вместе с еще пятью парнями из своей сотни и, с трудом выговорив непривычное слово «гвардия», попросился на службу.
Я с сомнением покосился на его изрядно припорошенные сединой волосы, но отказывать не стал, сказав, что подумаю и через три дня дам ответ.
Аккуратно собрав данные на всех шестерых – помог Васюк, отец которого продолжал служить в соседнем полку у Федора Брянцева, – я пришел к выводу, что они подойдут, включая и десятника. Как сказал о себе сам Щур, пенек хоть и в летах, но еще крепок и послужит дай бог.
Правда, именно он как раз за ответом не пришел, но, может, это и к лучшему – тогда его сегодня точно бы не было.
Нет, об этом умолчим – ни к чему самому нагонять на себя страхи, тем более их и без того хоть завались.
Меж тем наиболее горячие головы постепенно стали галдеть все громче и громче – тоже мне нашли место для своего коло[80], – и наконец один из них торжествующе завопил:
– Да тут и пан Ивановский, и пан Вонсович, и пан Пельчинский, а они все тоже на службе у царя Дмитрия! – И, подбоченившись, зло осведомился: – Что ж, стало быть, одних государевых людей можно безнаказанно казнить только за то, что они не варварского роду-племени, а нам посчитаться за смерть невинно убитых…
– Здесь Русь! – рявкнул возмущенный Щур, от негодования возвысив голос. – Потому и закон здесь русский. Ежели государевых людей кто изобидел – виноватого непременно к ответу призовут и он получит, что ему следует. – Оглянувшись в сторону Пожара, он удовлетворенно кивнул и с некоторой ехидцей дополнил: – Но ежели они, будучи на службе у Дмитрия Иоанновича, сами заворовались, то… – И повторил уже сказанное мною каким-то получасом ранее: – Во пса место.
Поляки обиженно загомонили пуще прежнего, явно возмущенные эдаким уничижительным сравнением их погибших товарищей, но тут к Щуру прибыла подмога.
Теперь уже меня отделяла от поляков не пятерка, а сразу два десятка всадников, и о том, чтобы отбить меня от них для последующей расправы, не могло быть и речи.
Более того, оглянувшись на загадочный гул, приближающийся издали и вновь со стороны Пожара, я увидел, что к нам направляется целая толпа москвичей.
Десятник с сомнением покачал головой и мрачно уставился на солидно вышагивающего со стороны Посольского двора пана Дворжицкого в сопровождении еще трех человек из числа начальства, которые были мне хорошо знакомы по Путивлю.
Негодующие шляхтичи тут же гурьбой ринулись к своему гетману, пускай и бывшему, а пока они что-то взахлеб объясняли пану Адаму, ежесекундно тыча в трупы поляков, сзади меня раздалось растерянное:
– Да это ж князь Федор Константиныч! – И далее вновь неизменные воспоминания о судах, где я стоял за правым плечом, к которым незамедлительно добавился и мой уход за больным ратником в темнице.
Далась им эта кормежка с ложечки!
Нашлись и добровольцы, кинувшиеся помогать хлопотавшему над ранеными товарищами Дубцу, причем почти незамедлительно оттуда донеслись ахи и вздохи, а чуть погодя и возмущенные возгласы:
– А робяты вовсе младые!
– На детишков длань подняли!
– Да как у них токмо руки не отсохли!
Чуть разрядило обстановку удивленное восклицание:
– А ентот, гля-кась! Думала, кончается уж, хрипит пред смертушкой, а он… храпит!
Молодец, Микеланджело. Пожалуй, пусть и дальше хрипит-храпит, ни к чему будить, о чем я и сказал Щуру. Десятник, подумав, согласился.
Но удивление затесавшимся пьянчужкой прошло быстро, и вновь стало нарастать возмущение:
– А ентого, гля-кась, вовсе убили!
– Изверги!
– Поганцы!
Дальше больше, и вслед за этим посыпались незамедлительные комментарии:
– Приперлись тут к нам на Русь!
– Кто вас сюда звал?!
И в завершение, как кульминация, уже хорошо мне знакомое:
– Бей!
Толпа угрожающе двинулась вперед, но тут же была остановлена зычным окриком Щура:
– Назад!
Почти сразу вслед за этим он перестроил своих людей. Половина продолжала оставаться лицом к полякам, а вторая во главе с десятником развернула коней на сто восемьдесят градусов и угрюмо уставилась на толпу.
– Ну, кому живота своего не жаль?! – зло осведомился Щур у отхлынувшей толпы и уже гораздо тише, пытаясь успокоить, продолжил: – Покамест неведомо, с чего весь сыр-бор начался, а потому допрежь разобраться надобно, чтоб…
– Это как же неведомо?! – сурово осведомился знакомый мне бородач – мясник Микола.
На сей раз топор лежал у него на плече, и лезвие – молодец, хоть догадался помыть – было уже чистым.
Пока чистым.
Правда, догадлив он оказался только наполовину – рубаху, изрядно забрызганную кровью, он сменить не додумался, балда.
– Как это неведомо, когда уж всем давно все ведомо. Вона и видок имеется. Ну-ка, Ржануха, подь сюды!
Из людских рядов робко вышла следом за бородачом та самая девка. То, что она не успела переодеться, меня порадовало.
– Братанична моя, – громогласно объявил Микола, поворачиваясь к толпе. – Братец мой старшой Микифор о прошлое лето помре, а матушки у ее давно нетути, померла ишшо три лета назад, вот я и взял сиротку к себе. Уж и женишка ей справного подыскал. Хошь и невелика у него лавка, ан все ж…
– Ты погоди про лавку, – хмуро перебил Щур. – Про дело сказывай…
– Я и сказываю, – ничуть не смутился бородач и бухнул увесистое: – Прижали в углу мою сиротинушку горемышную да… ссильничать хотели.
Толпа охнула и угрожающе загудела.
– Ты народ не распаляй! – рявкнул десятник. – Не тебе судить, чего они хотели. Ты лучше сказывай, чего они сотворили.
Люди вновь притихли, тоже желая узнать, что же произошло.
– А ничего не сотворили, – с вызовом произнес мясник, – потому как она вырвалась да убёгла.
– Стало быть, она ничего не видала, – разочарованно протянул десятник.
– Это как жа?! – возмутился Микола. – Все доподлинно своими глазоньками узрела и услыхала. Ее ж сызнова пымали. – И осуждающе кивнул в сторону угрюмо скучившихся по другую сторону шляхтичей. – Сам подивись, каки кобели здоровущи. От таковских поди убеги. Пымали, да к тыну прижали, рукав разодрали, а чтоб не ерепенилась – в рожу заехали. Эвон, сам зри – чуть скулу напрочь не своротили.
Мясник дернул племянницу за руку, поворачивая к толпе на всеобщее обозрение, а затем вновь развернул к Щуру. Левая щека у Ржанухи и впрямь успела изрядно припухнуть – Липский бил от души, и я еще раз подосадовал, что немного запоздал с помощью.
– Да еще чуть не опростоволосили! – надсадно гаркнул бородач, стараясь перекричать гудевшую толпу, которая тут же ахнула еще громче.
Вот и привыкни к царящим ныне на Руси порядкам.
Получается, если девушку ударили по лицу – плохо, но вот пытались содрать с головы платок – хуже во сто крат.
Чудно!
– Ан тут как раз подоспел княж Федор Константиныч, кой правая рука нашего царевича, и опростоволосить Ржануху не дозволил! – ликующе завопил Микола.
Вот, значит, что я сделал. А мне и невдомек. Так-так, любопытно послушать трактовку событий, поскольку, судя по началу, продолжение обещает открыть мне еще больше интересного, что я там успел учинить.
Однако тут в повествование мясника бесцеремонно вмешался уцелевший шляхтич:
– И они все были! – заверещал он как недорезанный, тыча пальцем в толпу. Впрочем, почему «как», если он и на самом деле недорезанный. – Они прибежали и убивали!
И сразу взял слово помалкивающий до этого времени Дворжицкий, который успел подойти к Щуру.
– Я тоже вижу на телах убитых раны, которых никак не могли нанести ни князь Мак-Альпин, ни его люди, ибо эти раны не от сабель, а от иного оружия. К примеру, вот. – И ткнул пальцем, указывая на топор бородача.
– Дак как же?! – не стушевался Микола. – Эвон, лезвие-то чистое.
– Зато ты сам весь в крови! – осуждающе заметил Дворжицкий.
Бородач окинул взглядом рубаху и смешался, не зная, что сказать, но его выручил тот самый сухощавый мужичок, который недавно заступался за меня.
– Ты, господин хороший, к вечеру на него погляди. Там на одеже не токмо кровь будет, но и прочего добра хватит. Известно, дело наше мясное, чумазое, вот и заляпался. Так ить он кажный божий день такой – и что ж, по-твоему, кажный день вашего брата режет?
Толпа одобрительно хохотнула, а бородач сразу приободрился.
Щур жестом остановил Дворжицкого, который открыл было рот, чтобы возразить, и хладнокровно заметил:
– А о том нам лучшее всего вопросить князя Федора Константиныча. – И повернулся ко мне.
Я коротко рассказал, как все было, избегая подробностей. Прибежали, потоптали, порубили, порезали и… убежали.
– И что, так никого и не запомнил? – усомнился Щур.
Получается, без подробностей не обойтись. Ладно, будут вам детали…
– Бороды у них были, – простодушно уточнил я, – а за бородами лиц я не разглядел. Да и не до того мне было. Мы к тому времени, считай, вдвоем против семерых стояли, так что некогда по сторонам пялиться.
– Стало быть, не разглядел… – протянул Щур и повернул голову в сторону мясника, красноречиво уставившись на его окладистую, аккуратно подстриженную бороду.
Блин, и как это я ляпнул не подумавши! Ладно, выкрутимся, какие проблемы.
– Точно, точно, – уверенно подтвердил я. – Здоровенные такие бороды. – И показал на Миколу. – Вон как у этого, только намного длиннее, аж до пупа.
– А одежа, князь? – Десятник разочарованно отвел взгляд от мясника.