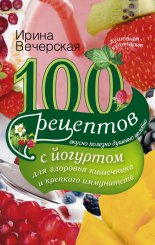Правдивый ложью Елманов Валерий
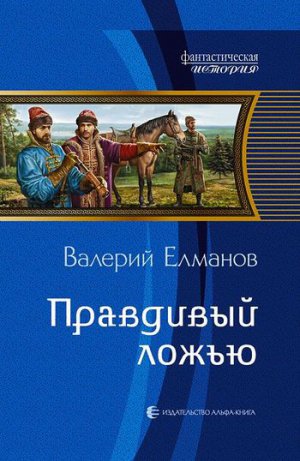
И ведь это при том, что нет здесь ни слюнявого либерализма – вскрылось, что украл, и сразу голову с плеч, а то и похуже, к примеру, свинец в глотку, чтобы взяток не брал; ни коррупции – каждый сам за себя.
То есть в отличие от моей страны начала двадцать первого века тут отсутствуют два важнейших вспомогательных фактора для развития поголовного воровства, но оно тем не менее развивается.
Почему?
Да потому, что вскрывают это самое воровство и взяточничество от случая к случаю, ибо отсутствует отлаженная система контроля.
Приказные крысы хоть и православные, но имя славянского бога Авось поминают куда чаще, чем бога-отца, и тот их и впрямь выручает. Единицы попадаются, а десяткам сходит с рук. Дурной же пример заразителен, и прочие рассуждают, что авось и им сойдет с рук.
– Ну и, наконец, бояре, – вытер я пот со лба. – Если как следует наладить управленческую машину и перестроить армию по новому типу, задавить их легче легкого, но это уже потом. Они – ребята жирные, так что свинину мы пустим на десерт, а сделаем так…
И я изложил практически все то же самое, что и днями ранее Басманову, а потом и Дмитрию, только в более расширенном варианте, ибо в нынешнем разговоре с царевичем ликвидацией местничества я не закончил, поскольку и оно – лишь этап.
– Одного не пойму, – возразил Федор. – Все равно ведь этим придется заниматься, так лучше раньше, чем позже. – И поморщился. – Ах да, про войну выскочило.
– Война – это само собой, но тут есть и еще кое-что, – вздохнул я и перешел к тому, о чем умолчал в Серпухове, ибо имелся в моих рекомендациях один опасный нюанс.
Я бы даже сказал, смертельно опасный, потому и умолчал.
Впрочем, потомку бога Мома и положено давать как раз такие советы – разумные, но чреватые гибелью.
Начал же я издалека, заметив, что любые нововведения поначалу похожи на новорожденных младенцев – эдакие красноватые, сморщенные комочки, гораздые только на истошные противные вопли, которые они издают в любое время дня и ночи.
Царевич недоуменно смотрел на меня, не понимая, к чему все это, однако я продолжал уверенно излагать свою мысль, что потом-то из них вырастут красивые девки и пригожие ратники, но этого еще надо дождаться. Следовательно, на первых порах эти самые новшества будут лишь раздражать людей, которые сразу примутся ворчать, что куда проще и богоугоднее жить по старинке, как при дедах и прадедах.
Для наглядности я привел в пример его отца, когда его затея с университетом потерпела неудачу только из-за тупого упрямства духовенства во главе с патриархом Иовом, после чего с лукавой усмешкой спросил:
– Так зачем нам самим вызывать недоуменные слухи и злые шепотки своими новшествами? Пусть лучше их начнет Дмитрий. Считай, что мы запускаем его как ледокол. Пусть проломит лед, высвободит реку, а потом…
– Но ведь ты сам сказывал, что он вскорости… Значит, про нас тоже все равно пойдут такие же шепотки.
– Есть разница, – возразил я. – Во-первых, не мы все это начинали. Во-вторых, мы все это продолжим не просто так, но в память о невинно убиенном государе. И обозленный на бояр-изменников народ – раз в память – воспримет их продолжение совсем иначе, вроде как назло убийцам. Вдобавок, и это в-третьих, младенцы, то бишь новшества, к этому времени уже подрастут.
– Намного ли? – усмехнулся Федор.
– Пусть чуть-чуть, – кивнул я, – но достаточно, чтобы люди в них увидели и привлекательные стороны – как они мило агукают, как забавно улыбаются своими беззубыми ртами и прочее. Думаешь, какому-нибудь Перваку или Серпню не станет приятно при виде своего сына, который знает счет и уже умеет читать, хоть и по складам? То-то и оно.
– Тогда и Иов тоже будет иначе… – начал было Федор, но я его перебил:
– Нет, не будет. Всегда есть очень стойкие, которые станут держаться за старину до последнего. Причем больше всего их будет из числа духовенства, и чем старше по возрасту, тем сильнее они станут упираться. Так вот Иов по причине глубокой старости как раз из таких. Поэтому, хотя ты мне и говорил как-то про него, но возвращать старца из Старицкого Успенского монастыря ни к чему.
– Ты сказывал тогда, что негоже лаяться с Дмитрием из-за патриарха, – напомнил Федор и упрямо заметил: – А может, и зря не возвернул. Новшества новшествами, а он завсегда за наш род Годуновых молился.
– Молился, пока род в силе был и царь жив, – отрезал я. – Да и то не за так, а в уплату за свое патриаршество. Зато когда он скончался… Я, когда у Дмитрия был, грамотку одну видел… повинную… Москвичи ее прислали, и очень ею государь гордился…
Говорить и напоминать о недавних днях, которые были слишком свежи в памяти, явственно отдавая тошнотворным запашком крови, не хотелось, потому я и медлил, делая в своем коротком рассказе паузу за паузой, стараясь подобрать более обтекаемые, нейтральные слова, дабы не всколыхнуть…
Да и ни к чему Федору знать, в каких холуйских выражениях москвичи просили у Дмитрия прощения, сами приглашали его на престол, извещая, что детей Годунова они с него уже скинули и отдали под стражу.
Мол, теперь они и все их свойственники и родичи покорно дожидаются его царской воли над собой, ну а какой она оказалась – известно.
И подписи внизу. Много подписей.
А еще печати, поскольку помимо простецов – стряпчих, жильцов, гостей и прочих торговых людей – приложили руку и бояре вместе с окольничими, спасая свои шкуры.
Ну они – ладно. Их-то как раз можно понять.
А вот столь же холуйское изъявление верноподданнических чувств со стороны духовенства – это что-то с чем-то.
Жизнь дорога? Понимаю.
Вот только Дмитрий и за более серьезные проступки служителей церкви не трогал – опасался. Он даже монахов-убийц, подержав слегка под арестом, и то помиловал и выпустил еще при мне, объявив Кириллу и Мефодию по случаю смерти Бориса Федоровича амнистию, хотя их вина – да еще какая вина! – была доказана.
Не говорю о том, что столичному духовенству надлежало непременно вступиться за малолетних брата с сестрой. Ну не годятся они на такое самопожертвование, ибо до Христа им как свинье до рая, так что пускай, хотя заповедь «не убий» время от времени я бы на их месте из чувства приличия вспоминал.
Но они могли, по крайней мере, воздержаться и не подписывать эту покаянную грамоту. Между прочим, и причина для этого имелась достаточно весомая. Мол, выбор царя и вообще власти – дело мирское, а наше – духовное.
Тогда они хотя бы формально оставили свои руки чистыми.
Но нет, подписали, а то вдруг попрут с теплых насиженных мест.
Подмахнул ее в числе прочих епископов, архиепископов и митрополитов, словом, всех иерархов, оказавшихся в Москве, и глава православной церкви на Руси патриарх Иов.
Ошибки нет – я сам видел его печать.
Разглядывал, правда, недолго, но это была именно она – уж очень выделялись три штуки своим необычным среди прочих красным цветом[75]. Он-то поначалу и привлек мое внимание, а уж потом лик Девы Марии с младенцем на руках, тоже изображенный на всех трех.
Приглядевшись к той, что располагалась на самом почетном месте, мне с трудом, но удалось прочесть: «Божией милостью святейший патриарх царствующего града Москвы и всея Руси».
Остальные – каких-то то ли митрополитов, то ли архиепископов, столь же красные, цвета крови Федора, – я даже и читать не стал. И без того понятно, кем по своей сути являются их обладатели.
Как там говорил киногерой, который князь Милославский? Тьфу на них еще раз.
Своему ученику я сказал:
– Все высшее духовенство, что сидело в Москве, ее подписало. И радетель за ваш род тоже, причем самым первым.
– А может, ее без ведома патриарха приложили? – нашел лазейку для оправдания Иова царевич.
– На такое его печатник решился бы только в случае, если бы он уже был низложен, но грамота ушла раньше его снятия, так что впредь не стоит сокрушаться о том, как над ним бессовестно глумились. Помни: он предал, чтобы сохранить свой чин, но – не вышло. И как знать, может, это низложение свершилось над ним хоть и по Дмитриеву велению, но, коль вдуматься, по божьему хотению. Эдакая небесная кара за иудство.
Царевич выслушал, не произнеся ни слова.
Да и глаза его остались вновь на удивление сухими. Как тогда, в Архангельском соборе, когда он увидел, что сделали с местом последнего пристанища тела его отца. Только скулы – и тоже как тогда – окаменели.
– Сказываешь, все подписали, – протянул он, недобро щурясь, и цвет его глаз изменился на черный, в точности как у Бориса Федоровича, когда он впадал в гнев. – И…– Он чуть помедлил, не иначе как хотел, но и страшился задать вопрос, даже дыхание затаил. – И отец Антоний тоже подписал?
– Не было у меня времени приглядываться, – честно ответил я, – но и без того уверен: ни его руки, ни его печати там не сыщешь.
– Отчего так мыслишь? – Федор чуть расслабился и глубоко, с облегчением вздохнул.
– А знаешь, как его в юности прозывали? Апостолом, – улыбнулся я. – И не потому, что его христианское имя Андрей, а потому, что чуяли люди – из настоящих он, тех, что без оглядки за Христом пошли. К тому же вспомни, как смело он встал в тот день на вашу защиту. Его и убить могли, но не убоялся. Ему как раз можно верить до конца – не продаст.
– До конца, – задумчиво протянул царевич. – А иным?
– Увы, таких в церкви немного, – развел руками я. – В основном преобладают иные, и как уж их там кличут – архиепископами, митрополитами, патриархами, неважно. Суть в том, что они последователи Иуды Искариота. И я тебе больше скажу…
Мне тут же припомнился рязанский архиепископ Игнатий, чуть ироничный прищур умных серых глаз, все понимающих, но не торопящихся с осуждением.
Да, на свою сторону его не завербуешь и не привлечешь, но он сам на нее встанет, когда поймет и решит, что ты вышел в победители. Зато от него не надо ждать каких-либо каверз или противостояния, когда встанет вопрос об университете или еще о каком-нибудь новшестве.
Этот отпустит все грехи или посмотрит на них, если власти предержащей требуется, сквозь пальцы, сумев обыграть их так, что грех вроде как уже и не грех. Пожалуй, он даже самые тяжкие, которые смертные, благодаря своей эрудиции сумеет вывернуть наизнанку таким образом, чтоб они предстали эдаким невинным пустячком.
И в памяти почему-то всплыли слова одного из героев популярного телефильма, так нравившегося моему отцу и дядьке: «Сгодится нам этот фраерок».
Об этом я и сказал царевичу, правда, более сухо:
– Поверь, что рязанский архиепископ Игнатий, которого наш государь собирается поставить патриархом, тот, кто нам нужен. Во всяком случае, в защиту Дмитрия он никогда не проронит ни единого слова, а больше нам ничего от него не требуется. Поэтому, когда он прибудет в Москву, постарайся отнестись к нему почтительно и без тени враждебности, и тогда он тоже не станет пытаться чинить тебе каверз.
Кажется, поверил.
– То-то ты мне воспретил монастыри посещати, – задумчиво протянул Федор.
– Не воспретил, а не советовал, – поправил я его. – И вовсе не потому. Коли место истинно святое, его никакой иуда не опоганит, даже если он там за главного. Просто некогда нам заниматься ерундой, а помощи от отцов церкви, если что, тебе все равно никогда и ни за что не дождаться. Они поддерживают только победителей, и сан мучеников их почему-то не прельщает – уж больно им дороги собственные жизни.
– А тебе она, стало быть, недорога была, – невесело усмехнулся он. – Да и Квентин тож потом-то опомнился, спохватился.
– Напрасно ты так о нем, – попрекнул я Годунова. – Князь Дуглас… кстати, он сейчас Василий, человек чести. Так что он не опомнился и не спохватился. Шотландец просто не подозревал, что его обманывают. Запутали его с этой свадьбой, заморочили женитьбой на царевне, вот он и… А уж потом, когда понял, в чем дело, не думаю, что хоть миг колебался, на чью сторону ему встать. – И посоветовал: – Да ты сам вспомни.
– Нешто таковское забудешь, – глухо отозвался Федор. – И рад бы, да доселе во снах приходят за мной.
Я насторожился.
Странно. А почему он мне об этом ни слова? То-то, смотрю, глаза у него по утрам какие-то припухшие, да и сам выглядит утомленным, словно спал часа три-четыре, не больше.
Оказывается, кошмары снятся.
– А почему молчал? – строго спросил я.
– Не молчал, – возразил царевич. – Сказал как-то одному из лекарей. Настой дали, чтоб почивал крепче. Токмо сны от этого приходить не перестали. И вот что дивно, – он слабо усмехнулся, – там мне иное продолжение того утра снится. Будто нет близ меня ни тебя, ни Дугласа, а токмо четверо стрельцов, и один, самый дюжий, прямо… за уд меня ухватил да как сожмет со всей силой. И боль такая, что я сам кричу, чтоб они поскорей мои мученья окончили… – Он прервался и, тяжело дыша, принялся утирать платком выступившую на лбу испарину.
Я не торопил.
Такой сон и впрямь надо пересказывать по частям. Ничего, обожду, лишь бы выговорился до конца, тем более что этот его сон удивительным образом напоминал подлинные события, которые на самом деле произошли бы с ним, не появись в этом мире князь Мак-Альпин, а если попросту, то Федька Россошанский.
И как назвать этот кошмар? Ложная память? Смотря с какой стороны посмотреть.
Остаточное явление? Но ведь не умирал он, во всяком случае в этом мире.
Тогда что это собой представляет?
Да и вообще – дело-то, если вдуматься, не в кошмарах. Если дальше ничего не последует – ладно, полбеды. Пройдет еще месяц, два, три, пускай полгода или год, и они все равно улетучатся, исчезнут, испарятся.
Ну а если они лишь начало? Так сказать, слегка выпирающий выступ чего-то значительно более гадкого, гнусного и столь мерзопакостного, что и слов для названия не подобрать.
К тому же настораживала и тенденция, ведь царевич, передохнув, поведал мне не только про свою смерть, но и дальше. Например, рассказал, как он лежал бок о бок с мертвой матерью, когда их тела выставили на обозрение всему московскому люду.
И потом что с ним было – тоже «видел», включая черную и вязкую после недавно прошедшего дождя землю на кладбище Варсонофьевского монастыря, где его и мать закопали близ могилы Бориса Федоровича.
Описание разных бытовых подробностей тоже наводило на логичную мысль, что все это было бы на самом деле, если б не моя помощь…
В эпилоге – и это самое страшное – воцарившийся мрак, который Федор живописал так, что мороз по коже. Вроде и слова самые простые, но, признаться, и мне стало не по себе.
– Я допрежь этого лета ночи никогда не боялся, – негромко, продолжая смущаться – стыдно жаловаться на такие пустяки, рассказывал царевич. – И тьмы не страшился – эка невидаль. А теперь вот, ежели доведется проснуться, губы кусаю, чтоб в крик не удариться.
– Окно настежь перед сном – может, от духоты у тебя такое. И свечу не гаси на ночь, – посоветовал я.
– Не подсобит, – последовал убежденный ответ.
– То лишь как дополнение, – пояснил я, – а об остальном травница моя позаботится. Только ты ей все как на духу.
– Да ну! – испуганно отмахнулся Годунов. – Бабам токмо поведай, вмиг вся Москва прознает. Не надобно нам ее.
– Надобно! – отрезал я. – Основное я ей и без тебя расскажу, но коль что потом спросит, ответишь честно. А за ее молчание не тревожься. Она похлеще иных мужиков тайны хранить умеет, проверено.
– Лучше поведай, яко с ратниками нам теперь быти? – торопливо сменил неприятную тему Федор.
– А никак, – усмехнулся я. – Раз велено, значит, выполним. Холопей так холопей. В Кострому так в Кострому.
– Согласятся ли? – вздохнул царевич. – Чай, в Москве службишка куда слаще.
– Они ж верные, потому не сомневайся, – успокоил я его и порадовался собственной предусмотрительности. – К тому же я чуть пораньше уже поговорил с ними. Командный состав весь с тобой остается. Из рядовых, скрывать не стану, нашлись пожелавшие тут остаться, но немного, всего-то полтора десятка.
– Всего?! – изумленно воскликнул Федор, и на его глаза вновь набежали слезы.
Все-таки не всегда удается царевичу справляться со своими чувствами.
– Всего, – еще раз подтвердил я. – Заодно учиним и сборы своего имущества, а так как они дело долгое, мы государю вначале грамотку вопросную отпишем.
– Какую? – не понял Федор. – А разве такие бывают?
– Ну ответ, – пояснил я. – А в ней спросим кое-что, да заодно и просьб всяких накидаем.
Федор поморщился. Просить хоть что-то у Дмитрия для него было нож острый. Всякий раз приходилось по полчаса, а то и по часу убеждать, что надо, никуда от этого не деться, приводить кучу аргументов и доказательств в подтверждение важности.
Словом, сплошная морока.
Кажется, сегодняшний день не станет исключением.
– Надо ли? – С этого вопроса он всегда начинал. – Может, без просьбишек обойдемся? А вопрошать и вовсе не о чем, все яснее ясного.
– Э нет, – загадочно улыбнулся я. – Такой удобный случай упускать никак нельзя. Чтобы мы своих ратников из Москвы убрали, он сейчас на любые наши просьбы согласится, тем более на столь пустячные. Есть тут у меня одна задумка…
Ответное письмо, составленное в самых почтительных тонах, мы с Федором написали в этот же день.
Пришлось повозиться, но не с текстом, который был для меня ясен еще до его написания, а с престолоблюстителем. Уж очень не хотел мой ученик крохоборствовать и спрашивать Дмитрия о разного рода мелочах. Дескать, низко это как-то – вопрошать дозволения на то, чтобы взять, к примеру, с собой одежу из царских запасов, и тут же следовал подробный ее перечень.
Нет, не каждой в отдельности – такое и впрямь перебор, – но наименований. Телогреи, летники, сарафаны, кафтаны, шубы, ферязи, зипуны и прочее.
Тут меня изрядно выручил Иван Иванович Чемоданов, которого моя Марья Петровна ухитрилась поставить на ноги. Его-то, как дядьку царевича и вообще достойного мужика, на деле доказавшего свою верность царевичу, я и привлек к составлению грамотки.
Дело в том, что я не знал и половины названий, которые требовалось накидать в тексте, а Федор филонил, всячески уклоняясь, так что Чемоданов пришелся весьма кстати.
Тем более что он оказался чертовски хозяйственным и домовитым, с самого начала решительно встав на мою сторону:
– И правильно княж Мак… ах чтоб тебя, Федор Константиныч сказывает, – то и дело приговаривал он, постоянно путаясь с моей излишне мудреной, по его мнению, фамилией и предпочитая величать по имени-отчеству. – Неча ироду оставляти. У его заморских нарядов, поди, полным-полнехонько, а нам в Костроме все сгодится.
Затем мы с Чемодановым перечислили постельные принадлежности, и тоже детально, далее перешли к коням, а заодно и к упряжи…
Словом, не забыли ничего, включая… женские украшения, а в самом конце длинного текста я не преминул упомянуть и кухонную утварь.
Когда черед дошел до нее, Федор озадаченно уставился на меня и осторожно намекнул:
– Нешто о том мыслить надобно, княже?
И даже Иван Иванович впервые усомнился, деликатно возразив мне:
– С чугунками и сковородами оно и впрямь как-то не того выходит. Таковского добра и в Костроме сколь хошь.
– Э нет. Такого в Костроме мы не отыщем, – не согласился я.
– Ты прямо яко батюшка мой по весне. – Это вновь Федор. – Он тоже подклети самолично проверял, заперты али нет.
– Ну и правильно, – рассудительно заметил я. – Видишь, одобрил бы меня Борис Федорович, коли жив был бы. – И продолжил, еле сдерживая смех: – Нынче нам экономить надо. К чему лишние расходы, если можно все прихватить с собой. К тому же кухонная утварь, она разная. Лишь бы государь дозволил ее взять…
– В том не сумлевайся, – мрачно заверил Федор и уныло протянул: – Представляю, яко он насмехаться учнет при чтении грамотки.
– Хорошо смеется тот, кто смеется последним, – последовал мой поучительный ответ. – И поверь, Федор Борисович, что этими последними окажемся мы с тобой.
– Разве что над собой смеяться учнем, когда повезем, – внес он поправку.
– Можа, утварь и впрямь выкинем из грамотки, ась? – нерешительно осведомился Чемоданов, не зная, на чью сторону ему становиться.
– Да вы что?! – возмутился я. – Ради нее и все прочее писалось, а ее, как самое главное, я специально оставил в конце, чтоб глаз у государя притомился, да он, не заметив подвоха, одним росчерком разрешил взять все что угодно.
– Ежели с подвохом, тогда иное, – согласился Чемоданов, принявшись успокаивать царевича: – Ты, Федор Борисыч, князю верь. Он хошь и иноземец, но худого не присоветует, и коль сказывает, что нужна нам утварь, – пущай. Чую я, что и впрямь им задумано нечто.
Однако Годунов остался безутешен.
– Горшки да сковороды повезем всей Москве на смех, – презрительно фыркнул он. – Блюда с ендовами да братинами…
– Нет, все мы с собой не заберем, да и чугунки со сковородами оставим, – поправил я его, – а вот блюда с ендовами точно прихватим. Тоже не все, конечно, но возьмем немало, и чем больше, тем лучше. А Москва, глядючи на нас, не смеяться будет – завидовать. Что до государя, то он в скором времени о своем разрешении обязательно пожалеет.
И я, не удержавшись, прыснул со смеху, представляя возмущенного Дмитрия, когда он, как герой одной из гайдаевских кинокомедий[76], возмущенно вопит: «Вы зачем мою кухонную посуду забрали?! Из чего я теперь кушать стану?!»
Федор и Чемоданов озадаченно смотрели на меня. Отсмеявшись, я сжалился над ними и пояснил:
– Мы ведь не указываем, где хранится эта утварь, верно?
Оба молча кивнули.
– Значит, взять ее можно отовсюду, где бы она ни была, включая… Казенный двор, а потому…
Спустя минуту смеялись уже все трое, а Чемоданов даже прослезился от умиления и бросился целовать мне руку, заявив, что мудрее человека всю Русь обойди – не сыщешь.
Руку я не дал, насчет мудрее тоже усомнился, но все равно было приятно. Да и слова Федора тоже:
– В сравнении с тобой, княже, змий, что Еву соблазнил, простота голимая.
– Червячок навозный, – охотно подтвердил я. – Такому орлу, как я, склевать его – делать нечего.
Глава 22
Самый убыточный царский указ
Мой прогноз оправдался на сто процентов – ответил Дмитрий недвусмысленно и лаконично. Если совсем кратко, то суть его: «Хоть все вывозите».
Как я и ожидал.
Первым на очереди был Конюшенный приказ.
Кстати, сразу оговорюсь, что насчет самих лошадок мы вели себя весьма скромно, отобрав с помощью моего Ахмедки всего-то с десяток арабских скакунов.
А куда больше, если они, как заметил мой спец по лошадям, годились только для парадных выездов. Нам же, как людям практичным, подавай в первую очередь хорошие ходовые качества, хоть и в неказистой внешней упаковке.
Остальные именно так и выглядели – с виду ничего особенного, но раз Ахмедка утверждает, что брать надо именно этих, – пускай.
Зато казну все того же Конюшенного приказа мы подчистили изрядно, забрав с десяток роскошных седел, и поверьте, что цена каждому составляла далеко не одну сотню рублевиков.
Даже тебеньки[77] у них и то были расписаны золотом и разноцветными красками. Про сами седла вообще молчу.
Чего стоит, например, одно из них, поднесенное в дар Борису Федоровичу персидским шахом. В золотой оправе по краям, обтянуто бархатом, затканным золотом, и по ободкам все сплошь украшенное драгоценными камнями, причем разными – тут тебе и рубины, и сапфиры, и изумруды, чередующиеся с крупной бирюзой. Даже я, хотя абсолютно равнодушен к роскоши, поневоле залюбовался его красотой.
Каково же было мое удивление, когда Федор ближе к вечеру того же дня вскользь заметил, что он дарит его мне. Мол, с него довольно и того, которое отделано серебром.
Нет, седло, выбранное им, тоже было красивым. Возможно, оно выглядело даже несколько благороднее, с тончайшей гравировкой в виде цветов и птиц, а на луках чеканные изображения львиных голов, но, учитывая роскошь моего…
Честно говоря, у меня глаза на лоб полезли.
– Ты ничего не перепутал, Федор Борисович? – осторожно осведомился я.
Годунов в ответ лишь слабо улыбнулся и пояснил:
– То батюшкино, потому оно и милей моему сердцу. А тебе, яко первому воеводе и правой руке престолоблюстителя, надлежит иметь вид, достойный сего звания, а у тебя ныне эвон каковское, ровно у казака простого али десятника стрелецкого. И чепрак[78] тот, с цветками, тоже забери.
– С цветками, которые из жемчуга, а в середине золотые вставки с драгоценными камнями? – уточнил я на всякий случай, хотя другого, чтоб «с цветками», попросту не было.
– Его, – равнодушно кивнул Федор. – Мыслю, к эдакому седлу токмо таковский чепрак подойдет.
Одарил он седлом и чепраком – правда, не в пример моему, а куда скромнее – и второго воеводу полка Христиера Зомме, чем растрогал старого служаку чуть ли не до слез.
Однако, как я уже сказал, это все было вечером, а до раздачи подарков я еще успел встретиться с ювелирами, или серебрениками, как их тут называют.
Их было пятеро – самые маститые во всей Москве. Задачу им ставил лично я, хотя и от имени царевича. Сколько мне требуется оправ – не уточнял, велев нашлепать столько, сколько есть у них золота и серебра.
– Ежели самые простые надобны, дак оно можно и не за три дни, а за два управиться, – заметил старый Запон. – Отливкой давно не балуюсь, но коль надобно…
– И чтоб размеры, оставленные под камни, были разные, – потребовал я. – Преимущественно от горошины до вишни.
Запон почесал в затылке, прикидывая, затем оглянулся на остальных. Те степенно кивнули.
– И с оным управимся. Лапки-держатели удлиним, вот и вся недолга. – И поинтересовался: – Так когда ж камни-то?
– Завтра к вечеру, – твердо ответил я, уточнив единственное требование: – Главное, чтобы они крепко держались, вот и все.
– Срамота, а не работа, – вздохнул Запон. – Нешто так можно…
– Иногда только так и нужно, – кивнул я, и ювелир, поморщившись, махнул рукой.
– Токмо за-ради Федора Борисыча, – недовольно заметил он.
Я его понимал. Вроде бы выгодный заказ – тысяча перстней, то есть пахло хорошим доходом, но настоящему мастеру эдакий примитив и впрямь выполнять зазорно.
Ну все равно что Федору Коню, под чьим руководством Москва обрела нынешние стены Белого города, заказать… крестьянскую избушку.
Немудрено, что кое-кого из серебреников пришлось настойчиво уговаривать, и поддались они, лишь когда я пустил в ход тяжелую артиллерию – имя царевича. Перед нынешним авторитетом и популярностью престолоблюстителя ювелиры стушевались.
В Постельный приказ я вообще не совался – там вовсю орудовала царица, которая в кои-то веки одобрила мои решения относительно такой «зачистки» царских запасов и теперь подгребала все, что только видела, причем настолько рьяно, что я порекомендовал Федору как-то урезонить мамашу – наглеть тоже ни к чему.
К примеру, из домотканых местных материй взять не больше одной четверти от имеющегося, в конце концов такие действительно отыщутся в Костроме. Завозных – английские, фряжские, немецкие и прочие сукна – их не более половины, а касаемо особо дорогих – шелка, парча, бархат, аксамит и прочие – и вовсе ограничиться третьей частью.
– Никак князь все для пресветлого государя Димитрия Иоанновича радеет, – зло прошипела она, но послушалась.
А у меня на очереди были казначеи, которыми я собрался заняться сразу поутру.
Их в Москве оказался всего один – второй укатил на поклон к Дмитрию. Но зато это был тот, который уже знал меня в лицо. Понятно, что перед повелением Годунова любой не дернется, но куда лучше, чтоб вдобавок имелось еще и личное знакомство.
К нему мы с Федором отправились самолично, благо что он жил неподалеку от моего подворья – метров сто, не больше.
Польщенный визитом столь дорогих гостей дьяк Меньшой-Булгаков расстарался не на шутку – стол ломился от обилия закусок и кувшинов с медком. А уж когда мы пару раз назвали его Семеновичем, тут он и вовсе расплылся в славословиях.
Я тоже не отставал в любезностях от хозяина дома, да и Федор разок – особо баловать нельзя, всему должна быть мера – провозгласил здравицу в его честь.
Правда, едва речь зашла о деле, как дьяк тут же протрезвел, хотя и не до конца, заявив, что без государева повеления он самовольно выдать требуемое нам из казнохранилища не имеет права.
Даже царевичу.
– И правильно, – подхватил я. – Вот, Федор Борисович, какие верные престолу слуги на Руси ныне живут, примечай. Мыслится, что таковских в дьяках держать негоже – пора в думные[79] его переводить.
– Замолвлю словцо пред государем, непременно замолвлю, – включился в игру Федор.
– Что же до денег, кои нам потребны, то оное разрешение указано в грамотке Дмитрия Иоанновича, коя ранее во всеуслышание была зачитана перед всем людом на Пожаре. А коль запамятовал, то вот она, прихвачена с собой. – И я выложил на стол свиток.
– А сколь ныне в казне? – полюбопытствовал царевич.
– Четыреста семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят три рублика, – отчеканил дьяк, ни секунды не колеблясь. – Да к им полтина и три алтына, – добавил он спустя несколько секунд.
Мы с Федором переглянулись. Получалось не ахти. Раз в казне меньше миллиона, то согласно той же государевой грамотке Годуновым причиталось лишь сто тысяч. И я еще раз порадовался собственной предусмотрительности относительно украшений царевны и матери-царицы, а также «кухонной утвари».
Но ставить в известность дьяка о том, что помимо монет мы собираемся прихватить и еще кое-что, не стал – рано. Лучше это сделать на месте, внутри сокровищницы, чтоб он уже особо не дергался, коль Булгаков такой щепетильный.
Меня так и подмывало напомнить ему, что он вообще-то… покойник.
Да-да, я сам читал в одном из «прелестных» писем Дмитрия, как царь Борис Федорович, узнав, что Меньшой-Булгаков вместе с дьяком приказа Большого Дворца Смирновым-Васильевым пили дома за здоровье Дмитрия, повелел умертвить обоих.
Глядишь, пыл и служебное рвение от такого известия немного и убавится, но, поразмыслив, не стал ничего говорить – и так справимся.
Спустя час мы уже находились близ Казенной палаты, представлявшей собой мрачное здание, стоящей наособицу от остальных приказов. Оно и понятно. Чай, министерство финансов, не шутка.
Признаться, стало как-то не по себе, когда я вошел внутрь и воочию увидел то великолепие, которое хранилось тут в таком изобилии, что и места свободного не имелось. Серебро так и вовсе было навалено в здоровенных ларях, пристроенных к стенам, и я еще раз похвалил себя за предусмотрительность – тару мы привезли с собой.
Загружались мои ратники под завязку, проворно сменяя друг друга, тем более что их нелегкий труд был мною сразу организован по конвейерному методу.
Двое быстренько взвешивали пустой сундук, после чего поспешно тащили его к ларям с серебром, где вторая пара лопатами сноровисто загружала в него монеты.
Едва сундук, для крепости окованный по углам толстенными железными полосами, наполнялся, как еще одна пара – весовые – тут же хватала его и тащила к большим весам. Там они под присмотром Меньшого-Булгакова уравнивали вес до двухсот сорока девяти фунтов, добавляя или убавляя черпачок серебряных монет.
Такая некруглая цифра была выбрана мною неслучайно, поскольку я решил загружать в каждый сундук ровно по полторы тысячи рублей. Но если отвешивать двести пятьдесят фунтов, выйдет несколько больше, а так получалось почти полторы, даже с легкой недостачей в виде полтины и одной деньги-московки.
– То тебе с каждого сундука за труды и радение… на семечки, – расщедрился я, решив не мелочиться – уж очень скорбный вид имел Меньшой-Булгаков, наблюдая за стремительным процессом опустошения моими бравыми молодцами объемистых ларей.
– На что? – проблеял дьяк.
Ах, ну да, семечек еще нет. Хотя погоди-ка, а тыквенные? Или они тут называются иначе? Но на всякий случай поправился:
– На сласти, – гадая, а выдержит ли его сердце дальнейшее разорение.
Меж тем очередной доверху заполненный сундук быстро захлопывался, запирался и опечатывался Еловиком Яхонтовым, которому я временно поручил заведование печатью.