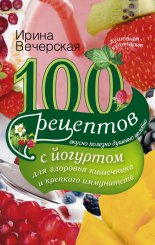Правдивый ложью Елманов Валерий
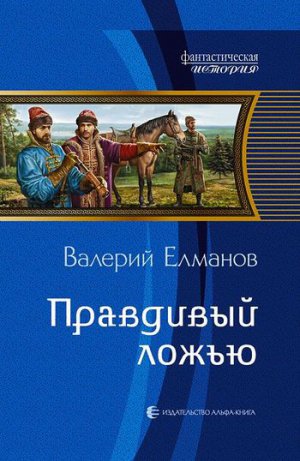
Тут же еще одна пара специально подобранных мною самых здоровенных ратников выносила его на улицу, где уже ждали подводы, которые по мере загрузки одна за другой катили к Запасному дворцу, под надежную охрану полка, проживавшего в нем.
С тридцатью сундуками мы управились буквально за три часа – дьяк только глаза таращил, после чего настала очередь золота.
Вообще-то цена его, как я предусмотрительно выяснил, была разная, причем все зависело от… цвета.
Например, огненные угорские цехины и рыжие фряжские флорины ценились несколько дороже, чем высокопробные, но бледно-желтого цвета польские дукаты, а также английские соверены и кроны. Испанские реалы и французские экю стояли примерно посредине.
Но не возиться же, отбирая монеты пожелтее. Лопаты в руки, и посыпались в пустые сундуки без разбору тяжелые португальские с крестом, английские корабленники и новенькие юнайты Якова I, генридоры и экю, дукаты и цехины, пиастры и песо…
Греби как попало, ребята, потом разберемся. Потом – в смысле в Костроме.
Тут управились куда быстрее – восемь сундуков по сто шестьдесят три фунта в каждом заполнили за час.
– Кажись, все, – печально и в то же время с некоторой долей облегчения подытожил дьяк, после того как был опечатан последний, восьмой сундук.
Я сочувственно посмотрел на него – бедный, не знает, что его ждет впереди, и… возмутился:
– Как это все? Считай сам. Сорок пять тысяч серебром и пятьдесят золотом. Итого девяносто пять, а в грамотке указано – сто.
– Дак ты яко злато считал? – не понял он. – Ежели по полтине за золотник, то…
– Ай, нехорошо царевича обманывать, – покачал головой я. – Золотник золота стоит тринадцать алтын и две деньги, так что ты Федора Борисовича не сбивай – все равно не дозволю.
– Ну… пущай дале грузят, – сокрушенно махнул рукой он.
– Э нет. И без того тридцать восемь сундуков – замучаемся везти. – И я шагнул в сторону, уступая свое место прибывшему полчаса назад Запону.
Ювелир был готов и во всеоружии, то есть имел под мышкой ларец с небольшими весами. Он деловито кивнул, давая понять, что готов приступить к работе, и спросил:
– С чего начинать, Федор Константиныч?
– А вон с того дальнего уголка. – Я мотнул головой в сторону отдельно стоящих сундучков, которые были куда меньше ларей по размеру, но сокровищ в себе таили как бы не больше.
– Об их в грамотке и речи не было! – взвыл дьяк.
– Часть пойдет в зачет пяти тысяч, – пояснил я, – а мелочь почтенный Запон прихватит на изготовление украшений для царицы Марии Григорьевны и царевны Ксении Борисовны.
– Какие еще украшения?! – возмутился Меньшой-Булгаков.
– А вот сам читай. – И я, сунув дьяку под нос недавно полученную от Дмитрия грамотку, велел ювелиру: – Приступай.
– Да что ж это такое?! – встал на дыбки казначей. Подскочив к сундучкам и шкатулкам, встал, загородив их и широко раскинув руки в стороны. – Не дам государево добро расхищать! Царь-батюшка добр, а вы и рады-радехоньки попользоваться оным! Креста на вас нет!
Запон, шагнувший было вперед, нерешительно остановился и вопросительно повернулся в мою сторону. Годунов тоже растерялся, не зная, что сказать.
Получалось, что надо принимать руководство на себя.
– Понимаю твой кивок, Федор Борисович. – Я склонил голову перед царевичем, хотя никакого кивка не было и в помине. – И впрямь дьяк за такое непочтение к государеву слову заслуживает лютой казни, но ты уж прости его на первый случай из милости своей. А далее упрямиться станет, тогда уж иной разговор с ним затеем.
Подействовало.
Стих Булгаков, ручонки опустил, личико побледнело.
А что ты думаешь, мужик, валандаться с тобой никто не собирается.
Судя по отобранному количеству камней, носить теперь перстни Ксении Борисовне круглый год, причем каждый день меняя на новые. После того как двести худосочных «вишенок» и восемьсот упитанных горошин перекочевали в ларец Запона, я перешел к камням покрупнее.
– Ну уж они и вовсе ни в один перстень не влезут. Грешно тебе, княже, таковское добро за бабье украшение выдавать, – вновь подал голос дьяк.
Я прикинул. Действительно, учитывая, что чуть ли не каждый, судя по размерам, тянул на несколько десятков карат, а некоторые на сотню, а то и несколько, получалось и впрямь «грешно», но…
– Это бабе простой такое не личит или, скажем, графине, маркизе или герцогине, – невозмутимо парировал я, – а у нас царевна, понимать надо, дурья твоя голова. – И скомандовал Запону: – Для Ксении Борисовны на ее лебяжью шейку три ожерелья, и чтоб каждое одного цвета.
Тот хладнокровно устремился выбирать, лишь уточнив:
– По сколько камней на каждое?
– По… сорок, – после легкой заминки, связанной с беглым подсчетом хранимого, выдал я и благочестиво перекрестился, заметив: – Божье число, меньше никак нельзя.
Но я несколько поспешил. Получилось совсем немного, тем более ювелир деликатно брал те, что поменьше.
Пришлось добавить еще три – для невесты Федора Борисовича.
Меньшой-Булгаков удивленно уставился на царевича, а тот в свою очередь на меня.
– А когда ж ты, государь?.. – удивленно протянул он.
– Когда! – возмущенно хмыкнул я. – Еще о прошлое лето.
Вначале-то я решил приплести какую-нибудь Амалию-Фредерику-Доротею-Луизу, дочку пфальцграфа Баден-Баденского. Помнится, сынок у него на выданье точно был, которого я забраковал еще Борису Федоровичу, ибо тоже из сопливых, семнадцать лет, куда ему царевну, он и на руки-то ее не поднимет, поди, чтоб из ЗАГСа вынести или там из церкви.
Ну а раз сынок имеется, почему бы не быть и дочке?
Но, припомнив, как со мной скандалил Квентин, ответил честно или почти честно:
– Посольство-то помнишь, которое в том году на Кавказ укатило во главе с Татищевым?
– А-а, – понимающе протянул дьяк и… сокрушенно выпустил из рук шкатулку. Правда, уточнил: – Так вроде не приехал еще Михайла Игнатьев[80], как же так?
– Не приехал, – согласился я. – Но весточку прислал. Сразу двоих грузинок подыскали нашему престолоблюстителю – Гюльчатай и Зухру. Теперь вот ждем описания – как выглядит, дородна ли, – припомнились мне критерии женской красоты, – ну и прочее. А ты для невесты каких-то жалких камешков пожалел.
– Так брать? – уточнил Запон.
– А ты еще не взял? – удивился я.
– Сколько?
– Так же, как и для Ксении Борисовны, – недолго думая распорядился я.
Ни к чему будущей невесте Федора, как бы ее ни звали – Лейла, Фредерика или Аграфена, – иметь на груди больше камней, нежели у царевны.
Сам же, пока Запон трудился, перешел к самым крупным камням.
– Такие на груди не поместятся, – сразу предупредил дьяк.
Экий надоеда, честное слово! И он будет учить меня, что там поместится, а что нет. Хотя и впрямь несколько крупноваты они для ожерелья…
Ладно, пусть будет аттракцион неслыханной щедрости. Но вначале попугать.
– Вообще-то смотря какая грудь, – задумчиво протянул я, вертя в руках здоровенный, сотни на две каратов, не меньше, рубин.
– Бога ты не боишься, вот что, – вновь запричитал Булгаков, чуя неладное.
– Боюсь, – выразил я несогласие, – а потому буду их покупать. – И напомнил опешившему от такого поворота дьяку: – У нас же еще пять тысяч не выбрано. Вот за счет них. – И кивнул Запону, давая понять, что тот может идти.
Проводив ювелира до самой двери пристальным взглядом – не иначе как опасался, что тот по дороге возьмет и сопрет какую-нибудь безделушку, Булгаков сурово заявил:
– Тута не на пять тысяч, а куда боле.
«Он мне еще указывать станет!» – возмутился я, но спорить не стал, миролюбиво посоветовав:
– А ты, вместо того чтоб охать да подвывать, лучше б достал нужные книги, где указано, какой и за сколько покупался. А то, не ровен час, и впрямь дешевле оценим. – И улыбнулся, заметив, как сразу засуетился дьяк, сноровисто метнувшийся за ними.
Вот балда, хоть и казначей.
Они-то мне требовались как раз для иного. Уверен я был, что не могли Иван Грозный, Федор Иоаннович и Борис Годунов покупать драгоценные камни за их подлинную стоимость. У нас ведь государство испокон веков всегда норовило надуть человека вне зависимости от того, какая власть, купив у него как можно дешевле, а продав как можно дороже.
К тому же я точно помнил цену именно этого камня. Знаком он мне.
Именно его, с двумя острыми гранями и закругленной широкой частью, показывал мне как-то по осени Борис Федорович, только что купивший рубин не помню у каких купцов, но что за восемьдесят рублей – железно.
Запомнилось, потому что, когда царь назвал цену, я сильно удивился – эдакий здоровяк и за столь ничтожную сумму.
Память меня не подвела – спустя минуту Булгаков назвал именно ее.
– Покупаем, – кивнул я и, открыв пустую шкатулку, лежащую на столе, положил в нее первую добычу.
За ними последовали алмазы, изумруды, еще один рубин, только поменьше, огромный синь-лал, как тут называют сапфир, который пошел вовсе за бесценок – всего сорок рублей…
– Покупаем, – всякий раз небрежно говорил я, едва дождавшись названной цифры.
В итоге в шкатулке скопилось порядка восьмидесяти камней на общую сумму в четыре тысячи девятьсот сорок рублей.
– А теперь, – торжествующе объявил я, – царевичу осталось забрать только кухонную утварь. – Пояснив остолбеневшему дьяку, решившему, что я ошалел на радостях и потому перепутал казнохранилище с поварской: – Ну всякую там посуду. – И недолго думая схватил и сунул десятнику в руки первое попавшееся мне на глаза массивное блюдо из литого золота, размерами больше похожее на поднос.
– То ж из злата! – возмутился Булгаков. – Не дам! Мне за оное опосля государь главу с плеч долой!
– Иван Семенович, – проникновенно обратился я к нему, – ты меня разочаровываешь все сильнее и сильнее. Ну какая глава с плеч, когда ты час назад читал про полученное на то дозволение Дмитрия Иоанновича? – И, не поленившись, развернул свиток, процитировав: – И не возбраняется забрати всю кухонную утварь, коя токмо глянется, вместях с блюдами, ендовами, братинами, чарами, горшками, сковородами, чугунками и прочим…
Представляю, как они с Бучинским покатывались, когда писали это. Ну что ж, пусть смеются и дальше, а мы тем временем станем кушать на золоте.
– Какая ж енто утварь?! – уперся дьяк, не желая смириться с очередным поражением. Да и сказано про железные сковороды да чугунки, кои на поварне, а тут все из злата, да из серебра, да в каменьях…
– А ты найди мне в его дозволении словцо «железные» или оговорку, что золотые брать воспрещается, – предложил я. – Все равно этому блюду, каким бы красивым оно ни было, место только на столе.
– Чарке оной цена два десятка тыщ, – простонал Булгаков.
Я с сомнением повертел в руках чарку. Ну красивая, ну гиацинтовая, ну с искусной резьбой и драгоценными камнями, но чтоб столько стоила?..
Это что, работа Фаберже? Так он еще не родился. Врет, наверное, дьяк. А впрочем, даже если на самом деле цена ей впятеро меньше, все равно оставлять нельзя – как пить дать, Дмитрий кому-нибудь ее подарит[81], а потому здесь ей не место.
Булгакову же в утешение я заметил:
– Какая ни есть, а все равно сосуд, из которого можно только пить во время трапезы, а больше ее никак не приспособить.
Но мои парни знали, что вещь особо ценная. Дело в том, что последние слова служили сигналом гвардейцам: предупрежденные мною заранее, они бережно несли такие вещи к пяти отдельно стоящим сундукам, которые я велел наполовину заполнить опилками, чтобы не повредить в дороге особо дорогие и хрупкие предметы.
А дьяк все никак не унимался.
– Коты к утвари касательства не имеют, – всхлипнул он, силясь вырвать из рук моих ратников здоровенную серебряную статую.
– Не коты, а барсы, – поправил я его, раздумывая: может, ее и правда оставить в хранилище?
Вообще-то тяжеленькая. Тут килограммов…
– Все одно не утварь, а статуй, – не сдавался Булгаков. – Ты еще шапку Казанскую[82] забери. Видал я в указе государевом про одежу, ну так и прибери все.
Ух ты, как разошелся. Пожалуй, придется оставить. Пусть утешится хоть этим.
Но… сегодня дьяку выпал неудачный денек, ибо подал голос Годунов.
– Шапку Казанскую мы оставим. Пусть сынок Иоанна Васильевича ее нашивает. А что до зверей оных… Ты, часом, не запамятовал, дьяк, что их поднес аглицкий посол моему батюшке, царю Борису Федоровичу? – сурово заметил он. Даже при не особо ярком факельном свете было заметно, как щеки престолоблюстителя заполыхали сердитым румянцем. – И столец сей тоже подарен батюшке персицким царем Аббасом. – Он ткнул пальцем в красивый трон явно восточной работы, с низкой спинкой и высоким сиденьем, обтянутым какой-то золотой тканью, сплошь украшенный драгоценными камнями, бирюзой и жемчугом, и грозно осведомился: – Али запамятовал?! Так с того времени и года не минуло. Я, к примеру, даже имечко посла помню, который подарок сей вручал. Лачином Беком он прозывался. Что, и далее своемудрие выказывать учнешь?!
Ого!
Кажется, парень завелся не на шутку. Не иначе как воспоминания прежних светлых лет так сильно разбередили его душу.
Пора выручать мужика-хранителя, который, в сущности, ни в чем не виноват, и я обратился к царевичу:
– Зрю, Федор Борисович, как ты осерчал. За свое упрямство он и впрямь кары достоин, но позволь отложить ее пока что. – И, повернувшись к опешившему от такого наезда Булгакову, сокрушенно заметил: – Все, Иван Семенович. Теперь тебе без казни не обойтись, а ежели еще вякнешь, то, считай, и живота лишился…
И сразу воцарилось молчание.
Оно и понятно. Забота о казне тоже имеет свои пределы, а вот инстинкт самосохранения меры не знает.
Через минуту в казнохранилище образовалась новая цепочка, и первый из сотников принялся сноровисто выдавать своим десятникам строго по тридцать золотых изделий – ровно по три каждому ратнику. Затем его сменил второй сотник, за ним третий, и пошло-поехало – я только успевал передавать.
Навар получился изрядный.
Одни только блюда весили по несколько килограммов каждое, а помимо них хватало и прочего добра – тазы, рукомойники, кубки с тонкой, филигранной чеканкой на стенках, изящные ковши, братины, ендовы, чарки, солонки…
Чуть ли не каждое второе изделие из золота, каждое третье украшено драгоценными камнями.
Задачи подчистую выгрести все накопленное за века я перед собой не ставил – надо и совесть иметь. К тому же если Дмитрий и особо дорогие его сердцу гости не смогут покушать, черпая золотой ложкой из золотого блюда кашу и запивая ее из золотого кубка, государь может и обидеться.
Посему добрую половину посуды, как это ни печально, пришлось оставить.
Правда, на оставленной в казнохранилище «кухонной утвари» драгоценных камней практически не имелось, да и золотых изделий, не тронутых нами, тоже негусто – шиш ему, а то начнет раздавать добро славным лыцарям Речи Посполитой.
И ведь не скажешь ему, как князь Милославский управдому Бунше, что он, стервец и самозванец, казенное добро разбазаривает, так что мы уж заранее как-нибудь, дабы у него при всем желании даже возможности такой не имелось.
Перебьются ляхи и серебряными кубками – невелики птицы, хотя, честно признаться, мне и этих серебряных было жалко – вон какие красивые, аж сердце кровью обливается.
– А это что такое? – Я недоуменно поднял здоровенную статуэтку аршинной высоты. – Ого, золотая!
– То мой батюшка статуй повелел приготовить для храма Святая Святых[83], – хмуро пояснил Федор, легонько провел пальцем по соседней фигуре, очевидно какого-то из двенадцати апостолов Христа, и, вздохнув, решительно распорядился: – Их тоже с собою в Кострому возьмем. Там я и храм в память о батюшкиной задумке построю.
– Это с каких же пор статуй божьих апостолов кухонной утварью стала? – язвительно поинтересовался дьяк.
– С тех самых, как мы решили выехать в Кострому, – дал я невразумительный ответ и задумчиво погладил одну из статуэток по лысине.
Вообще-то их брать не стоило. Если что – придраться к нам делать нечего, поскольку изваяния и впрямь к посуде никаким боком.
– Может, оставим? – тихонько шепнул я Годунову.
– Мое повеление – мне и ответ держати, – насупился тот.
«Как бы не так, – подумал я. – Тут и к гадалке не ходи – отчета Дмитрий потребует совсем у другого человека. И за статуэтки, и за трон, и за кота, и… Хотя семь бед – один ответ. Раз память, так чего уж тут. Пусть будет и такая… утварь».
Живенько вынесли и апостолов. Правда, их почему-то оказалось четырнадцать, причем один с крылышками[84]. Поблизости от них обнаружились еще два вместительных и очень красивых серебряных ларца, густо усыпанных жемчугом и драгоценными камнями. Судя по размерам, нечто среднее между маленьким сундучком и большой шкатулкой.
– А это ковчеги-мощевики, кои изготовлены по повелению моего батюшки, – пояснил мне Федор. – Тут, – Годунов благоговейно перекрестился, прежде чем взять один из них в руки, – все чудотворные святые мощи. И чудотворца митрополита Алексея, и блаженного Василия…
«Хороший подарок для Дмитрия, – сразу прикинул я. – Просто отличный, учитывая, как они тут все носятся с этими частицами рук и ног святых».
Вот только царевичу этого не объяснишь. Или попробовать?
– Их мой батюшка вместе с патриархом Иовом приносил в Великую пятницу в соборную церковь Пресвятой Богородицы и пел там Великие часы, а после часов и вечерни снова возвращал в казну, – продолжал пояснение Федор.
Судя по благоговейному отношению царевича – вон как трепетно держит в руках, – повозиться с уговорами придется изрядно.
Ладно, попробуем… потом.
А следом за ними я без колебаний распорядился загрузить статуэтку Нептуна, пояснив дьяку, что негоже, дабы в казнохранилище православного государя находились изображения языческих эллинских богов, и… тут же заодно передал своим гвардейцам богиню Диану, сидящую на золотом олене.
– Чай, у нас тут не храм и не Успенский собор, – вякнул было Булгаков, намекая на место хранения церковных ценностей.
– Ошибаешься, – поправил я его. – Именно что храм, но только государственный, а не церковный, ибо без злата и серебра не выживет ни одна страна, а раз храм, то ни чужим богам, ни… их прислужникам делать тут нечего. – И забрал серебряную статуэтку грифона с золотой головой и алмазами на крыльях.
В прислужники чужих богов тут же угодили и павлин с россыпями разноцветных искр на пышном хвосте, и пеликан, вырывающий у себя сердце, и даже пряжка в виде большой птицы, которую я недолго думая нарек фениксом, с алмазами и рубинами.
В конце концов семь бед – один ответ. Авось выкручусь, если что.
– Итак, – громогласно подвел я итог, – взято у тебя ныне из казны, согласно повелению государя Дмитрия Иоанновича, золотых и серебряных монет на девяносто пять тысяч, а также различных драгоценных камней на четыре тысячи девятьсот тридцать рублей. Остальные семьдесят тебе, дьяк, ныне царевич жалует за верную беспорочную службу.
Меньшой-Булгаков в ответ горестно всхлипнул. Как я понимаю, наш с царевичем щедрый подарок радости у него почему-то не вызвал – даже обидно.
А чего это он на меня уставился? Еще хочет? Или…
– Ах да, – спохватился я. – Также мы заодно очистили государев храм от языческих богов и их прислужников, но ты за это не благодари, бесплатно потрудились, а еще взяли, но опять-таки согласно государеву указу, немного разных камней на изготовление украшений для царицы Марии Григорьевны, царевны Ксении Борисовны и невесты Гюльчатай царевича Федора Борисовича. Ну и кухонной утвари… тоже… немного…
– Немного, – вслед за мной умиленно повторил дьяк, и лицо его… расплылось в улыбке.
Я вгляделся повнимательнее. Нет, не ошибся – и правда улыбается.
– Вовсе немного, – еще проникновеннее произнес Булгаков. – Благодетели… – И дико захохотал, ухватившись за живот и тыча пальцем в остатки. – Не… мно… го… – выжимал он из себя в секундных перерывах между очередными приступами смеха.
Годунов уставился на меня. Глаза его округлились от испуга.
– Он ума лишился, – прошептал царевич и скорбно перекрестился.
– Нет, – поправил я его. – Обычный припадок. Сейчас мы его живо приведем в чувство. – Но, сделав шаг в сторону Булгакова, остановился в растерянности, поскольку дьяк резко оборвал смех и заговорщическим шепотом сообщил мне, продолжая улыбаться:
– То-то государь возрадуется, что вы его дочиста не обобрали. Ажно в пляс пойдет. – И… сам пустился плясать, если только эти нелепые телодвижения и дикие прыжки на месте можно назвать танцем.
Кажется, царевич был прав. И что теперь?
– В Константино-Еленинскую его, – дал я указание ратникам. Щедро зачерпнув из ближайшего ларя жменю серебра, я высыпал его в подставленную ладонь стоящего ближе всего ко мне Дубца, пояснив: – Это палачам, чтоб мужика поили и кормили как на убой. А выпустят пусть, как только выздоровеет… – Я призадумался, вдруг он оклемается уже к завтрашнему дню, и добавил: – Но не ранее нашего с Федором Борисовичем отъезда.
Знать бы, что потом придется расплачиваться за свой сопливый гуманизм, я бы действовал куда жестче, но очень уж мне пришлось по душе самоотверженное радение за царское добро.
Может, он тоже вор, даже скорее всего, но зато отчаянно старается не подпускать к казенной кормушке других, а это уже кое-что.
Глава 23
Детина с волком
С отправкой обоза семьи Годуновых под охраной моих гвардейцев особых проблем не было – там всем распоряжался Зомме. В Москве я оставил лишь две полусотни – себе и Федору, да в качестве телохранителей царевича две боевые пятерки спецназовцев, да столько же «бродячих», не пожелавших оставаться в Москве.
Едва получив известие об убытии «ратных холопов» Дмитрий тут же прислал грамотку о своем прибытии уже через три дня, так что следовало поторопиться с подготовкой к встрече, тем более один день выпадал вчистую – мне и Годуновым предстоял переезд.
Им из царских палат в Запасной дворец, а мне с Никитской в Кремль, в хату Малюты, которая, согласно дарственной, теперь принадлежала… князю Мак-Альпину.
А куда было деваться, коль я сам сказал об этом подарке Дмитрию.
Дело в том, что о выделении Запасного дворца под жилье семьи престолоблюстителя я завел речь еще в Серпухове. Мол, не пристало наследнику престола, занимающему как бы промежуточное положение между государем и боярами, жить как прочие.
– У него свои хоромы имеются, – отрезал Дмитрий. – Если б не было – дело иное.
– В том-то и дело, что их нет, – поправил я его, мгновенно сообразив, что придется делать «ход конем», и сообщил: – Он на днях подарил их… мне.
Дмитрий, опешив, настороженно уставился на меня, озадаченно поскреб в затылке, но ничего не ответил. Я его не торопил. Лишь перед самым отъездом, прикинув, как получше нажать, если что, невинно осведомился:
– Так мне что же, переезжать обратно?
– Ненадобно, – неохотно буркнул он. – Пущай забирают Запасной, мне он все одно ни к чему. – Но тут же, не удержавшись, съязвил: – Невелика плата за спасение-то – я б, доведись такое, чем поболе одарил.
Я сокрушенно развел руками, соглашаясь.
Потому и пришлось оформлять Федору дарственную на свой терем и прочие хозяйственные пристройки.
– Заниматься хоть допустишь? – с улыбкой спросил царевич.
Дело в том, что один из небольших флигельков я, согласовав с царевичем, переоборудовал в некое подобие спортивного зала. Снаряды установили самые немудреные, но для восстановления спортивной формы вполне.
Туда и приезжал после вечерни Федор, так сказать, на сон грядущий. Трое спецназовцев, тщательным образом мною проинструктированных, нещадно гоняли его по этим снарядам.
Точнее, гонял один. Второй занимался с Годуновым рукопашным боем, а третий – фехтованием. Полутора часов вполне хватало, чтоб с него ручьями лился пот, после чего он сразу же нырял в приготовленную баньку.
А уж когда я узнал про его ночные кошмары – жаль только, что поздновато, – то распорядился увеличить нагрузку вдвое, что в совокупности с настоями Марьи Петровны и впрямь немного помогло.
Нет, они по-прежнему приходили к царевичу, но были нечеткие, размытые, в туманной дымке и… не столь страшные. Правда, полностью ликвидировать их не получалось, но тут уж ничего не попишешь.
– И еще проверю, чтоб непременно приходил каждый вечер, – строго погрозил я ему пальцем и… отправился руководить собственным переездом.
Прикатив в последний раз на Никитскую перед тем, как переселиться на новое место, я неожиданно застал в трапезной… мать Аполлинарию, настоятельницу женского монастыря, расположенного буквально по соседству с моим теремом.
Вежливо поздоровавшись и поцеловав ей руку, я устремился наверх – не до монахинь мне нынче. Однако спустя пару минут ко мне заглянула моя ключница.
– Ты бы спустился ненадолго, – порекомендовала она. – У игуменьи, что заглянула к нам, просьба до тебя имеется.
– А ей что нужно? – удивился я.
– Ну как же. Монастырь-то боярин Никита Романович учинил. Опосля его смерти братья Захарьины-Юрьевы подсобляли деньгой, а ныне их нет, так впору хоть побираться. Сказывала, совсем худое житье настало.
Вот уж не чаял не гадал, да в спонсоры угодил.
Я хотел было отказать, но призадумался. Одно дело – мужской монастырь. Им нипочем бы не дал – сами пусть вкалывают, а молитвы читают во время работы.
Но тут женщины. Поди сыщи подходящую работенку. И впрямь надо помочь.
К тому ж кто ведает, как у меня сложится дальше. Жизнь выписывает такие коленца, что только держись. У меня самого, если что, укрыться в нем, разумеется, не получится, но хоть мою травницу примут…
– Ладно уж, помогу Христовым невестам, – кивнул я, – а то и впрямь от голода помрут.
Заглянув в сундук, содержимое которого к этому времени поубавилось где-то на четверть, я уставился на аккуратные рядки разноцветных кошелей – труд аккуратиста Дубца. В каждом из черных лежало пять рублей серебром, в зеленых – десять, в синих – двадцать, в желтых – пятьдесят.
Нет уж, давать так давать – и я извлек красный, самый тяжеленький, в котором сотня.
Странно, но мать Аполлинария явно не ожидала от меня такой щедрости – уж очень она удивилась. Интересно, а сколько же тогда здесь принято давать?
И еще одно озадачило. Пока игуменья меня благодарила, она ухитрилась сделать пару недвусмысленных намеков относительно дальнейшей судьбы освобождаемого мною подворья.
Согласно ее словам, получалось, будто ныне сестры во Христе живут в такой тесноте, что питаются чуть ли не сидя на коленях друг у друга. Утрирую, конечно, – она говорила про две очереди в трапезную, но, если собрать всех сразу, получилось бы именно так, как я и сказал.
Даже помолиться проблема – уж очень маленький храм, а тут у меня, можно сказать, благодать…
Вот тебе и раз! Сто рублей для нее огромная сумма, а получить в подарок подворье – нормально.
Пришлось пояснить, что терем этот приготовлен мною для передачи в качестве свадебного дара некоему человеку, который в Москве вовсе не имеет пристанища, только тогда и отвязалась.
Гитару я перевозил самолично, не доверив никаким телегам и бережно прижимая к груди. Правда, душу отвести почти не получалось. Только на сон грядущий и не чаще чем раз в три дня – все некогда. Вот доберусь до Костромы, а уж там…
Но тут мне встретился Федор. Послушный ученик прибыл на очередное занятие и первым делом поинтересовался, что за вещицу я так бережно держу под мышкой.
Словом, не отстал, пока я не показал.
Но, как выяснилось позже, это было только начало, поскольку сразу после занятий и баньки он вновь заскочил ко мне, чтобы я ему сыграл, и упрашивал до тех пор, пока я не согласился.
Вдобавок престолоблюститель оказался совершенно бессовестным. О первоначальном уговоре – всего одна песня – он мгновенно забыл и, едва утих последний аккорд, принялся горячо упрашивать спеть еще одну.
Потом еще.
И еще.
И пел я, пока из Запасного дворца не прибыл всклокоченный и перепуганный отсутствием царевича дядька Чемоданов, он же распорядитель и новый дворский.
Прибыл он забрать Федора, потому как «дитятку надобно в столь поздний час почивати и десятый сон зрить». Знал бы Иван Иванович, какие сны приходят его «дитятку», не настаивал бы.
Однако едва старик поднялся наверх, как увидал толпу моих людей, подслушивающих под дверью, а разогнать их не успел – прислушался и… умолк.
Словом, через пять минут количество моих явных слушателей увеличилось еще на одного человека – Чемоданов, забыв про поручение, присоединился к престолоблюстителю и… Архипушке.
Немой альбинос давно поправился и частенько захаживал ко мне по вечерам еще будучи на Никитской. Придет и сядет прямо на пол, грустно уставившись на меня своими светло-голубыми глазами – ну как тут его выгонишь.
Кстати, пробовал я передать его после выздоровления Годуновым – отказался. Не словами – говорить он все равно не говорил. Просто, поняв, в чем дело и зачем я привез его в царские хоромы, Архипушка сразу кинулся обратно ко мне, обнял за ноги и умоляюще уставился на меня, отчаянно тряся головой, чтобы я его не оставлял.
Пришлось возвращаться обратно вместе с ним.
Постепенно я даже привык к его молчаливому присутствию – все-таки слушатель, хотя и безответный. Нет-нет, гитара тут ни при чем, но его голова как-то даже помогала думать.
Потеребишь в задумчивости по примеру Бориса Федоровича мягкие и светлые, почти седые волосы мальчишки – глядишь, и родил идею, хотя всего пять минут назад не знал, как подступиться к очередной проблеме.
Да и рассуждалось вслух в его присутствии куда лучше.
А уж что касается гитары, то тут он и вовсе обладал сверхъестественным чутьем. Иначе как объяснить, что стоило мне достать ее перед сном из футляра и взять всего один аккорд, как во время звучания второго слышался легкий стук в дверь.
Как он умудрялся за несколько секунд выскочить из постели – время-то позднее, – одеться и из людской, расположенной в самом низу, на первом этаже, взлететь ко мне на второй этаж, ума не приложу. Или он чувствовал заранее?