В плену Левиафана Платова Виктория
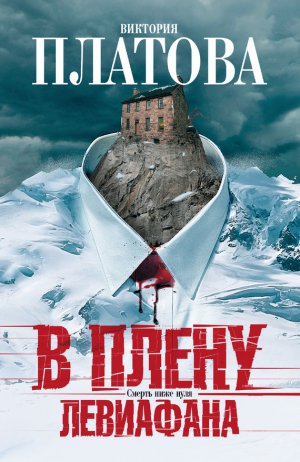
Неизвестные спасатели — высокие, мощные, на их фоне оба брата смотрелись бы самыми настоящими малышами. Но это ничего не значит. Если в горах с кем-нибудь случается несчастье, на спасение людей отправляются целые мобильные отряды, укомплектованные не только жителями окрестных долин, но и профессионалами из Тренто и даже Больцано.
Алекс старается не выпустить фигуры из вида, он почти бежит. «Почти» — потому что бежать в полную силу ему мешает осознание ненадежности горной тропы. В любую минуту можно споткнуться о камень, поскользнуться на ледышке, припорошенной снегом. И в результате окажешься в объятиях тумана или вовсе на дне ущелья — такая перспектива Алексу не улыбается. Не улыбается она и спасателям: их шаг размерен и аккуратен. И хотя скорость Алекса ощутимо выше скорости, с которой они движутся, — спасатели не приближаются.
Но и не удаляются.
Алекс осознал это в тот момент, когда чудом избежал падения, зацепившись носком ботинка за небольшой, вросший в землю валун. Он вынужден был остановиться, чтобы удержать равновесие, а валун вылетел с насиженного места и покатился прямиком в туман. Треска и шума, произведенного при этом, было вполне достаточно, чтобы его уловило и не самое чуткое ухо. В горах любой звук имеет значение, он может нести в себе потенциальную опасность и его нельзя игнорировать. Привычка прислушиваться ко всему у тех, кто имеет дело с горами, доведена до автоматизма. А по тому, как движется парочка, можно с уверенностью сказать: они имеют дело с горами. Даже если они не спасатели, то почти наверняка альпинисты или скалолазы. Случайный человек появиться на такой высоте просто не может. Оттого Алекс и ждет, затаив дыхание, — ждет, когда они обернутся.
Они не оборачиваются.
Не удаляются и не приближаются, а как будто топчутся на месте, имитируя движение.
Проклятый туман мешает разглядеть фигуры во всех подробностях, кажется, у них за спиной рюкзаки, а в руках — альпенштоки. Лукино и Лоренцо предпочитают комбинезоны, легкие и прочные; а парни, что идут по тропе, облачены в куртки, сужающиеся в талии. Впечатление такое, что куртки перетянуты ремнями.
Алекс снова пытается закричать, и, кажется, на этот раз у него получается. Получается! — он слышит собственный голос:
— А-а-а! Эге-гей, ребята!..
Наконец-то его услышали! Один из двоих (тот, что идет последним) оборачивается и машет Алексу рукой. Он ничуть не удивлен раздавшемуся за спиной крику, не то что пораженный в самое сердце таким поворотом событий Алекс. Если бы дело происходило на одной из улиц К. (погодные условия неважны), а на месте двух парней оказался бы Джан-Франко, или близнецы Эрик и Аннета, или кто-то еще, кому можно крикнуть довольно фамильярное «Эге-гей», подобный жест еще можно было объяснить. Но здесь не улица, а горная тропа. И парень в куртке ведет себя так, как будто они знакомы. И взмах его руки достаточно красноречив: «Не отставай, подтягивайся!»
Все можно объяснить.
Наверняка эти двое — не единственные, кто задействован в спасательной операции. Есть еще люди, они рассредоточились по склону, кто-то отстал, кто-то ушел вперед. Судя по всему, парочка из тех, кто всегда впереди, вот они и приняли Алекса за одного из отставших.
Молодой человек даже обернулся назад, проверяя, не идет ли кто следом.
Тропа была пуста, но это ничего не значит: туман существенно ограничивает поле зрения, видно не дальше, чем метров на двадцать. Странно лишь, что спасатели движутся не к «Левиафану», а от него… Впрочем, откуда Алексу знать, где именно он находится?
Скорей бы все разрешилось!
Для этого нужно всего лишь догнать парней в куртках и объяснить происходящее. И самому получить кое-какие объяснения. Например, почему идущий последним не окликнул Алекса, не поинтересовался, кто именно прикрывает их тылы… Вот черт! Идущий последним все сделал правильно! Он не проронил ни звука из-за опасности схода новой лавины. Иногда и хлопка бывает достаточно, чтобы огромные массы снега сдвинулись с места и понеслись вниз, сметая все на своем пути. Сам Алекс повел себя неверно, он напрочь забыл правила поведения в лавиноопасной зоне. Но это можно понять: слишком долго он пробыл в одиночестве, слишком тяжело дался ему выход на поверхность, как тут не обрадоваться людям?
Но первая волна радости прошла, а вторая никак не может накатить, вот Алекс и шляется в ожидании прилива по замерзшему пляжу собственных сомнений и предчувствий, ежесекундно повторяя про себя одну и ту же фразу — что-то здесь не так.
В последние часы она всплывала в его сознании неоднократно и была связана с причудливой реальностью «Левиафана» и его окрестностей. Что-то здесь не так, эти люди не похожи на спасателей, они похожи на… военных! В спасательной операции задействованы военные части? На памяти Алекса такое уже случалось, лет восемь назад, когда в горах пропало двое подростков из соседнего с К. городка. Эпохальное событие, произошедшее как раз в промежутке между смертью сербской семьи горнолыжников и гибелью лагеря австрийских альпинистов. Разница заключалась лишь в том, что дети (мальчик и девочка шестнадцати и пятнадцати лет соответственно) пропали летом, а не зимой. И они не были ни альпинистами, ни горнолыжниками. И не были местными жителями, просто приехали к родным на каникулы. Через три дня интенсивных поисков, когда стало ясно, что своими силами спасателям и добровольцам справиться не удается, подключились военные. Впрочем, детей не нашли и они, ни живых, ни мертвых. А все, так или иначе причастные к этой истории, смогли убедить себя в том, что имела место романтическая история. И такой же романтический побег, правда, без велосипедов. Юные Ромео и Джульетта просто сбежали из дому, и вроде бы их даже видели где-то в Больцано. Или даже в Вероне, хотя Кьяра, которая любит отслеживать подобного рода дела, эти слухи не подтвердила.
Очевидно, Лео и его метеостанция слишком важны для К., вот почему военных оповестили так быстро. Но зачем им оружие…
Оружие?
Теперь Алекс явственно видит карабины за плечами военных, странно, что он не заметил их раньше! Карабины — вот главная деталь, а вовсе не куртки, не альпенштоки! Но каким образом они могут помочь в спасательной операции?
Что-то здесь не так.
…Никто из солдат больше не обернулся. Не остановился, чтобы подождать Алекса. Еще несколько минут их спины маячили впереди, а потом исчезли. Так же неожиданно, как и появились, скорее всего — просто скрылись за поворотом. Он не успел ни обрадоваться, ни огорчиться этому, потому что за тем же поворотом увидел сложенное из камней невысокое строение. Тропинка обрывалась у самой двери, свернуть некуда, и захочешь — не обойдешь эти камни.
Военные наверняка уже внутри.
Алекс на секунду прикрыл глаза, вспоминая, как один из них махнул ему рукой. В этом взмахе не было ничего угрожающего, скорее, наоборот. Ему не нужно опасаться тех, кто пришел на помощь пленникам «Левиафана». Ему нужно войти.
Распахнув дверь, Алекс приоткрыл рот, чтобы произнести приветствие, но слова застряли у него в горле. Некому говорить «Здравствуйте!», некому говорить «Эге-гей, ребята!», сторожка пуста. Достаточно было обвести ее взглядом, чтобы понять это. Она пуста много лет, и предметов здесь немного, а на тех, что есть, лежит печать ветхости. Стол, колченогий стул, грубо сколоченная полка, подобие топчана: на него даже присесть страшно (на стул, впрочем, тоже). Маленькая печка-буржуйка со сломанной трубой. Она стоит в самом дальнем углу, рядом с окном. Окно тянется от одной стены к другой; обзор, который открывается из него, должен быть отличным. Если бы не туман, Алекс наверняка увидел бы величественную панораму гор.
А сейчас он видит только белую и плотную вату, просачивающуюся извне.
Неожиданно ему захотелось закурить. Желание было таким острым, что во рту немедленно начала скапливаться слюна. Алексу даже пришлось потрясти головой, крепко сжать зубы и разжать их — но желание не проходило. Странное дело, он ведь никогда не курил, не то что Кьяра! Мама была против всяческого курения и внушила эту же нехитрую мысль сыну: «Ты ведь знаешь, дорогой, что случилось с мужем тети Паолы? Он дымил, как паровоз, а в результате его парализовало, и умер он в страшных муках!» И было неважно, что несчастный муж тети Паолы умер совсем не из-за курения, но это тот самый случай, когда каждое лыко — в строку. По мнению мамы, курение — вот главная причина большинства смертельных заболеваний, неурядиц в семье, депрессий и мужской несостоятельности, «тебе, как будущему мужу и отцу, необходимо всегда об этом помнить, дорогой! Ты только взгляни на легкие курильщика, никаких фильмов ужасов не надо!». Мамина логика потрясает, ведь под боком у нее курящая дочь, а она всю силу своего темперамента обрушивает на некурящего сына. А Кьяре и словечка против не скажет, молчит, как рыба. Все потому, что она побаивается Кьяры, Кьяра для нее — существо высшего порядка, способное испепелить, если что-то будет ей не по нраву. А Алекс — послушный сын, он и слова поперек не скажет и будет выполнять все мамины прихоти, даже находясь за сотню километров от нее. Конечно, до крайностей в вопросе курения дело не доходит, не все смертельные болезни — следствие неумеренного потребления табака, так склонен думать Алекс. Однажды, в ранней юности, он даже сделал пару затяжек, но ничего особо волнующего не испытал. Скорее наоборот: в горле запершило, подкатила тошнота, и потом он еще долго не мог избавиться от неприятного запаха. Табачный дым, казалось, пропитал все поры его тела, и чтобы избавиться от него, пришлось целых полчаса стоять под душем. На этом отношения с сигаретами для него закончились, и он старается держаться подальше от курильщиков, к Кьяре это не относится.
Кьяра — это Кьяра, совершенно особенный человек. Высшее существо.
Но, в отличие от мамы, Алекс не боится, что старшая сестра испепелит его при случае. Он боится совсем другого: что сестра о нем, при случае, забудет.
Как же хочется курить!
К счастью, он вспомнил, что в кармане лежит подобранная пачка сигарет. «Не стоит этого делать, — сказал кто-то рассудительный внутри него. — К дурному привыкнуть — дело нехитрое. Отвыкать будет сложнее».
Кто же это там разговорился?
Прошлый Алекс, риелтор-неудачник и жалкий продавец рубашек. Мелкий воришка, стянувший чужие запонки (тоже, событие, а-ха-ха!). Радиолюбитель-надомник, фанат непотопляемого пса-полицейского, никогда не существовавшего в действительности. В действительности собак убивают, даже самых умных; полосуют ножом по горлу. С людьми тоже расправляются подобным образом. Прошли те времена, когда он видел смерть, обряженную в благопристойные, хотя и слегка обносившиеся одежды: старомодные фасоны, запах нафталина, выточенная молью ткань. Смерть заглядывает в К. так редко, что ей всякий раз удивляются, и сама она удивляется тоже. И даже изумляется — как незадачливый пассажир, севший не в тот автобус. И удаляющийся от нужного пункта назначения, вместо того чтобы к нему приблизиться. Он может сколько угодно жать на кнопку «стоп» и кричать водителю, чтобы тот остановился, но водитель остановится ровно там, где положено по расписанию.
Остановки «К., сраный городишко» в этом расписании не существует. Он лежит в стороне — и от смерти, и от всего остального. Прошлый Алекс чувствовал себя в этом городишке прекрасно, он собирался жениться на девушке, которую не любит, но к которой относится с симпатией, и прожить с ней жизнь. Так бы все и вышло, и он со временем привык бы к Ольге и к новоявленному родственнику Джан-Франко, вот только Джан-Франко мертв. Его смерть не чета смерти, которая настигает в К. только стариков и дается как награда за выслугу лет. Его смерть носит татуировки, предпочитает обходиться без одежды и не прочь повисеть вниз головой, как заправский акробат.
Такие вещи завораживают, вот бы поговорить о них с Кьярой! А заодно явить ей нового Алекса, который не испугался холода и темноты, сумел найти выход из мрачного левиафановского лабиринта и теперь… хочет покурить!
Куда он положил сигареты?
Они должны быть в кармане полушубка, так и есть! Алекс вытащил пачку «BENSON&HEDGES», ловко (как будто всю жизнь только этим и занимался) выбил из нее сигарету и щелкнул зажигалкой. Первая затяжка была восхитительной, вторая — не менее прекрасной. Алекс чувствовал, как сладковатый дым заполняет легкие, голова слегка кружилась, еще секунда — и наступит полная эйфория. А это именно то, что сейчас ему нужно, — немного положительных эмоций, чтобы взглянуть на все с ним происходящее без ужаса и сосущей тоски. Когда мозг не затуманен страхом, проще оценить обстановку и подумать о всех последующих шагах.
Военные не могли раствориться в воздухе, они просто ушли дальше, а Алекс не увидел продолжения тропы. Сторожка и туман сбили его с толку. А военных так просто с толку не собьешь. Хотя… Мало кто устоит перед искушением заглянуть в дом, который оказался на пути. В месте, где дома не встречаются в принципе.
Размышляя об этом, Алекс курил прямо в окно, следя за тем, как табачный дым смешивается с туманом, исчезает в нем. А потом дым остался в одиночестве: туман исчез. Это началось несколько минут назад, сначала в плотном сыром облаке появился просвет. Через мгновение просвет увеличился вдвое, еще через мгновение очистилась уже добрая половина пейзажа в окне — все происходило как при ускоренной съемке, когда цветы распускаются за считаные доли секунды и за те же доли секунды отрастают хвосты у ящериц.
Туман тоже похож на ящерицу. Или на гигантскую саламандру, спасающуюся бегством от опасности. Достаточно выглянуть из окна, чтобы понять: он не рассеялся окончательно, всего лишь спустился на десяток метров вниз и забился в расщелины. Сверху он напоминает хлопья, залитые молоком, пожалуй, сейчас Алекс не отказался бы от тарелки хлопьев!
Но за неимением хлопьев и сигареты подойдут.
Как он вытащил вторую сигарету, Алекс даже не заметил. Зачем ему понадобилась вторая? Никотиновый голод не удален, пижонские «BENSON&HEDGES» — слишком слабы для него, разве что оторвать фильтр?
Так он и поступил.
Крошечные волокна табачного листа защекотали губы, и снова это было приятное ощущение. Что-то оно напомнило Алексу. Ах, да, такие ощущения возникают, когда прядь женских волос упадет на лицо. Не какая-нибудь абстрактная прядь абстрактной женщины, случайно мазнувшей по лицу волосами в утренней давке ski-bus’а[22]… Тем более что Алекс не лыжник и не сноубордист, ему нечего делать в автобусе, идущем к подъемнику. Это не абстрактная прядь и не абстрактная женщина… Ольга? Ольга забирает волосы в хвост, так предписывают санитарные нормы. Волосы не должны лезть в глаза, когда разносишь поленту и собираешь со столов пустые бокалы. Простой хвост по будням, а в выходные и праздники Ольга украшает его разноцветными заколками, у нее сотня заколок. Или даже две — с бабочками, цветами, видами приморских городов и героями мультфильмов. У остальных девушек Алекса… вот черт, у них у всех были короткие стрижки! Стрижка — не личностное предпочтение Алекса, просто так складывалось: девушки, с которыми Алекс «крутит любовь» (мамино выражение, оно идет в комплекте с поджатыми губами), приезжают сюда отдохнуть и покататься с гор. Они энергичные, немного жесткие — в словах и поступках, у них жесткие пальцы, жесткие запястья, хранящие память о застарелых переломах. И любовь получается такой же жесткой и короткой, она длится ровно столько, сколько длится их отпуск. Тратить время на возню с волосами девушки Алекса не считают нужным, лучше лишний раз спуститься по склону. Хорошо, что волосы растут медленно. Очень медленно. Если бы все связи Алекса можно было измерить длиной волос, то они получились бы смехотворными карликами: два миллиметра, три, полсантиметра. Никто не задерживался рядом с Алексом дольше трех миллиметров. Никто, кроме Ольги.
Но совсем не об Ольге думает Алекс. Не о ее волосах — о других.
О волосах очень желанной женщины, которая была когда-то в его жизни. Или ему только кажется, что была? Табак в сигарете потрескивает и обжигает губы. Перекур закончился, надо двигаться дальше. Искать ушедших вперед военных, чтобы сообщить им о заваленном снегом «Левиафане» и о калеке, который ждет помощи. И о тех, кому помощь уже не понадобится. Джан-Франко, Боно… Алекс очень надеется, что этими двумя список жертв ограничится.
И хорошо, что туман соскользнул вниз. Теперь ему видна горная цепь в отдалении. Если судить по абрису, он отошел от «Левиафана» не слишком далеко, пара обледеневших скал хорошо ему знакома по плато. Соединенные вместе небольшой седловиной, они образуют подобие Кельнского собора. Это — совсем свежее открытие, не так давно он получил QSL-карточку от одного радиолюбителя из Кельна. На карточке красовалась фотография собора. Вот Алекс и сопоставил оба объекта — природный и рукотворный — и нашел их почти идентичными. Правда, скалы заметно приблизились, чтобы взглянуть на «собор», не нужно даже задирать голову. А это означает лишь то, что он находится выше «Левиафана». Если бы сторожка не была столь необжитой, Алекс подумал бы, что он добрался до метеостанции, о других постройках в окрестностях бывшего форпоста ему неизвестно. Но что он может знать об этих чертовых окрестностях? Он никогда не был здесь, хотя… Если он высунется из окна, то обязательно увидит ущелье и трещину на отвесной скале, примыкающей к сторожке.
Это — неучтенная скала, она не имеет отношения к «собору» и с плато не видна.
И все же трещина там есть. В форме буквы «V», Алекс просто уверен в этом. Она так и стоит у него перед глазами, заросшая маленькими фиолетово-розовыми цветками сольданеллы. Но время цветения сольданеллы придет еще нескоро, наверное, Алекс видел где-то похожий разлом — в одном из ущелий или во сне. А здесь он никогда не был, следовательно, не может знать о мелких деталях ландшафта. Внезапно возникшее желание приблизиться к сольданелловой «V» беспокоит Алекса: оно так велико, что молодой человек, рискуя свалиться вниз, высовывается из окна едва ли не по пояс. Хлопья с молоком никуда не делись, просто опустились еще ниже, а вот и искомая трещина! Своим острием она касается тумана, то выплывая из него, то снова погружаясь; в фиолетово-розовых тонах она смотрелась веселее, но и сейчас выглядит неплохо. Во всяком случае, вызывает в Алексе самые теплые чувства.
Сердце его начинает учащенно биться, он ничуть не удивлен тому, что нашел этот маленький автограф на скале, ты не поверишь, милая, но даже здесь все напоминает о тебе.
Кто произнес это?
Он сам.
Но кому адресуется фраза, Алекс не понимает. Явно не Ольге и не девушкам, с которыми он был близок. Слишком скоротечными были связи, на трех миллиметрах русых, ярко-рыжих или каштановых воспоминаний умещаются лишь имена, все остальные подробности приходится отсекать. Но то, что испытывает Алекс сейчас, отсечь невозможно. Его захлестывают нежность и грусть, и это тоже относится к воспоминаниям. Не коротким, лишь время от времени вспыхивающим в душе бледными огоньками, а тем, что горят всегда, спокойным и ровным пламенем.
Глаза Алекса слезятся, всему виной табачный дым. Так, во всяком случае, думает он, ведь для того чтобы расплакаться, взрослому парню нужна причина. Более веская, чем тупая боль в сердце, вызванная нежностью, грустью и мечтой о несбыточном. Ах, да!
Плечо.
Оно все еще ноет, неплохо бы осмотреть его. Хотя вряд ли осмотр поможет делу — разве что Алекс полюбуется на синяк, оставшийся после его бдений на лестнице в шахте. Для того чтобы добраться до больного места, нужно снять винтовку и расстегнуть полушубок, а затем — пижонскую куртку Лео и рубашку. Но сначала — винтовка, давно пора избавиться от этого бесполезного куска железа.
Алекс ухватился рукой за брезентовый ремень, сбросил винтовку, до сих пор болтавшуюся за плечами, и застыл в изумлении. От ржавчины и следа не осталось, металл лоснится, на прикладе нет ни единой зазубрины, мушка и спусковой крючок сверкают!
Алекс отбросил оружие, как отбрасывают ядовитую змею: винтовка шлепнулась на топчан. Но это был совсем не тот топчан, который он увидел, войдя в сторожку. Да и в самой сторожке все изменилось, она приобрела обжитой вид. Стол и стул выглядели намного крепче, на полке стояла нехитрая утварь: пара алюминиевых кружек, котелок и банки с консервами. У стола стояло ведро, накрытое деревянной плашкой, а топчан был покрыт большим куском овчины. Мелкие детали ускользали от растерянного взгляда Алекса, но все здесь говорило о том, что временное жилище устроено по уму. Если бы еще в печке гудел огонь…
Огня не было.
Но справа от буржуйки стояла небольшая (примерно на два литра) канистра, а стену подпирала поленница дров. И сама маленькая печь явно приободрилась и обзавелась двухколенной трубой, верхняя часть которой выходила в окно.
Алекс может прямо сейчас подойти к печке, бросить в нее несколько поленьев и развести огонь, тем более что тут же, на поленнице, лежат спички и целый пучок тонко наструганных лучин для растопки. Через пару минут запылает пламя, и он наконец-то согреется. Все так, он заслуживает отдыха, заслуживает тепла! Вот только Алексу не хотелось прикасаться ко всем этим спасительным вещам. Прикоснуться к ним означало бы принять новую реальность. Стать ее частью, согласиться с абсурдом происходящего. Или хотя бы с тем, что у него не все в порядке с головой. Ведь не может выстуженное, давно покинутое жилище за несколько минут так измениться! Когда он вошел сюда…
Когда он вошел сюда?
Когда он мог войти, через порог какого времени переступить, чтобы увидеть все это? Среди вещей нет ничего, что напоминало бы о сегодняшнем дне. Такими кружками давно не пользуются, такие котелки давно стали раритетом, таких консервов нет ни в одном супермаркете, такие печки вышли из употребления еще до того, как Алекс появился на свет, да и кто теперь растапливает их лучинами?.. На столе лежит большая, слегка потрепанная тетрадь, раскрытая посередине. Она хорошо видна Алексу, но он боится заглянуть в нее. Керосиновая лампа «летучая мышь», подвешенная к потолку, могла бы принести облегчение (похожая лампа хранилась и у них дома, составляя компанию патефонным пластинкам), но облегчение почему-то не наступает. Несколько пар глаз следят за ним, и все это — прекрасные женские глаза. Бумажные глаза: небольшая, правильной формы доска возле стола заклеена вырезанными из каких-то журналов портретами. Большинство лиц незнакомы Алексу, кроме, пожалуй, одного:
Алида Валли.
Киноактриса, чья слава кончилась вместе с алюминиевыми мятыми кружками, а если и пережила их, то не слишком надолго. Далекий от кино Алекс никогда бы не узнал о ее существовании, если бы не мама. Мама — вылитая Алида Валли, так она утверждала всегда. Мама, а вовсе не Алида, актрисам до простых смертных дела нет. Мама — вылитая Алида, не правда ли, дорогой? «Дорогой» в этом случае относится к отцу, он должен подтвердить (или опровергнуть) сказанное мамой. Отец обычно выбирает третье. Подтверждая — опровергает, опровергая — подтверждает: безусловно, кое-какое сходство имеется, но ты намного интереснее, золотце мое! Намного, намного интереснее!
Алида Валли и впрямь похожа на маму: тот же разрез глаз, тот же овал лица. Такой мама была в молодости, до рождения Кьяры, до круиза вокруг Апеннин, а может, и во время него. Алекс готов расплакаться: что он скажет маме, если ее Кьяра, ее маленькая зведочка, не найдется? А если он сам не найдется?
Мама заболеет от горя. Или даже умрет.
Алида Валли, вырезанная из журнала и присобаченная к доске, не ведает не то что горя — печали. Она улыбается, она юна и безмятежна. Девушки, волей судеб оказавшиеся рядом с ней, тоже кривят в улыбке накрашенные в форме сердечка рты. Хотя Кьяра наверняка высмеяла бы и эти сердечки, и макияж. И локоны, со старательной небрежностью спадающие на плечи. Подобная боевая раскраска не актуальна уже лет пятьдесят, а то и больше. Впрочем, так думают не все. Так не думает человек, который сделал приписку химическим карандашом, прямо на ключицах Алиды Валли:
НА МОЮ ДЕВУШКУ — НЕ ПЯЛИТЬСЯ И НЕ ДРОЧИТЬ!
Еще под одной девичьей шеей (пухленькая, скандинавского типа блондинка с полуоткрытыми губами) имеется и вовсе срамная надпись:
ХоРоШо СоСеТ!
Соседке скандинавки — аскетичной худощавой брюнетке — повезло чуть больше, она удостоилась почти целомудренного:
ХОРОШО ЦЕЛУЕТСЯ!
Правда, все портит вопрос, уцепившийся за хвост утверждения:
а как сосет?
Что за идиоты упражняются здесь в непристойностях? Слюнявят химический карандаш и царапают всякую похабель, которую и произнести-то не слишком приятно. Алекс вовсе не ханжа, он и сам неоднократно спускал на постеры с красотками, но это было давно, в отрочестве и ранней юности. И сопровождалось почти сакральным ужасом, по силе едва ли не равным возбуждению и самой разрядке: а-ну как в комнату войдет мама? Она не отличается особым тактом, она сначала распахивает дверь, а уже потом дает себе труд небрежно стукнуть костяшками пальцев, можно мне войти, ты еще не спишь, милый?
Сюда мама не войдет.
Ни мама Алекса, ни чья-нибудь еще.
И женщины могут попасть сюда лишь в таком виде — раскатанными по журнальной странице. Свернутыми в трубочку, сложенными вчетверо, а потом заботливо расправленными. Это — сугубо мужской мир, стесняться в нем нечего. Некому. Химический карандаш, материализующий дурные мысли и темные желания, висит тут же: он привязан к шнуру. Длина шнура позволяет не только изгаляться над красотками, но и делать записи в тетради. Алекс все-таки не удержался и заглянул в нее.
Это что-то вроде дневника наблюдений за местностью.
Его ведет не один человек — несколько, судя по разности почерков. Аккуратные печатные буквы сменяются затейливой вязью, затейливая вязь — такими каракулями, что смысла за ними не разглядеть. Страницы тетради разграфлены, в самой узкой колонке указано время, в самой широкой — события. «Заступил на пост — пост сдал». Событий не слишком много, в основном они касаются пролета эскадрилий тяжелых бомбардировщиков (эти выводы Алекс сделал, изучив несколько страниц). Никаких особых вольностей пишущие себе не позволяют. Все предельно лаконично, за исключением крошечных пассажей вроде:
Скоро зацветет дрок.
Нас навестили два орлана.
Тулио ушел за эдельвейсами и до сих пор не вернулся.
Эта запись — одна из последних, она сделана четким каллиграфическим почерком. И не карандашом, как все остальные, — перьевой ручкой. Рыхлый тетрадный лист с трудом переносит прикосновение такой ручки, чернила кое-где расплылись, а перо в нескольких местах прорвало бумагу. Но неизвестному писарю на это наплевать. Ручка делает его непохожим на других; на тех, кто мечтает сотворить непотребство с пухленькой блондинкой и аскетичной брюнеткой. Входил ли в их число Тулио? Вряд ли. Человек, который ушел за нежными эдельвейсами, не станет гадить на нежные женские ключицы. Алекс знает лишь одного человека по имени Тулио.
Тулио Амати, один из убитых альпийских стрелков.
Он погиб много лет назад, а тетрадь выглядит хоть и потрепанной, но совсем не старой, даже страницы не пожелтели. И записи не выцвели и не стерлись, это, наверное, какой-то другой Тулио. Множество мальчиков и мужчин носят это имя, счет идет на тысячи, если не на десятки тысяч; то, что в окружении Алекса не оказалось ни одного Тулио, — сущее недоразумение. Дрок зацветает повсюду и всегда, орланов Алекс видел неоднократно, труднее объяснить записи о самолетах. Поблизости нет ни одной военной базы, откуда им взяться, тяжелым бомбардировщикам? Конечно, Алекс не раз замечал светящиеся точки в ночном небе, но это все гражданские самолеты, совершающие обычные рейсы. Они летят на такой высоте, где никого нельзя потревожить, а излишний шум отпугнул бы туристов.
Вернулся ли Тулио из похода за эдельвейсами?
Почему-то этот вопрос волнует Алекса. Тулио — молодой парень, излишне романтичный, немного застенчивый, он часто краснеет, как девушка, что является предметом шуток, впрочем, совершенно беззлобных… Стоп-стоп… Откуда у Алекса такие сведения о совершенно незнакомом ему человеке?
Ниоткуда.
Надо бы как-то защитить себя от мыслей о Тулио. О семье Тулио, о его младшей сестре. О брате по имени Роберто, Тулио очень любит своего брата. Иные ждут писем от девушек, иные — от матерей, а Тулио всегда ждет писем от братишки. Письма Роберто — очень забавные, к тому же он — неплохой рисовальщик для своих тринадцати с половиной лет. Чего только он не чиркает на полях! В основном, конечно, это корабли (Роберто собирается стать моряком), срисованные с натуры и придуманные из головы. Но находится место и бытовым зарисовкам, и даже быстрым карандашным портретам, из Роберто вышел бы неплохой шаржист! А сам Тулио мечтает о карьере кинооператора в «Чинечитта»[23] и, несмотря на то что киностудию, по слухам, уже бомбили, он верит, что все восстановится, вернется на круги своя, и «Чинечитту» еще ждет настоящий расцвет.
Алекс бьет себя кулаком в голову, пытаясь избавиться от Тулио, о существовании которого не имел понятия до сегодняшнего дня. А заодно от мыслей о Роберто: он не стал моряком и не стал художником, а устроился докером в порту. Впрочем, это устаревшие сведения, датированные 1952 годом. Кто знает, как сложилась судьба Роберто-младшего впоследствии?
Что произошло с Тулио, известно.
Он ни дня не проработал на «Чинечитта», он даже не добрался до нее, — погиб здесь, в горах. Так почему Алекса волнует не этот прискорбный факт, а то, что Тулио ушел за эдельвейсами и до сих пор не вернулся?
«До сих пор не вернулся».
До сих пор.
Невидимый карточный шулер ловко тасует колоду памяти Алекса. Возможно — не только Алекса. Возможно — не только памяти, потому что мысли о Тулио совсем свежие. Они наслаиваются на мысли о выросшем Роберто и заслоняют их (туз покрывает десятку); они заслоняют мысли о Кьяре, о маме, о невинных гражданских самолетах, которые летают на большой высоте. Туз и десятка нарисованы совсем юным Роберто, остальные его рисунки (корабль под парусами, корабельная рында; мужчина средних лет, читающий газету; женщина — она склонилась над тазом, рукава засучены, на лицо свисает прядь волос) — остальные его рисунки так и стоят перед глазами.
Алекс видел их! Видел совсем недавно, ни одна деталь еще не забылась.
Печатными буквами пишет Даниэль Селеста, он же навесил ожерелье из похабщины на лилейную шейку скандинавки. У Альберто Клеричи — ужасный почерк, ни одного слова он еще не написал без ошибки, но стрелок Альберто отменный и лучше него никто не свежует коз. А какое мясо он готовит!.. Но и это не все его достоинства. Альберто — спокойный и рассудительный парень, оказавшись рядом с ним можно ни о чем не волноваться: он все проверит, ничего не упустит, про таких обычно говорят: природный ум, крестьянская сметка…
Это не его голова, не Алекса!
Но он ощущает боль от ударов кулаком. С каждым таким ударом голова наполняется все новыми подробностями о Даниэле и Альберто и еще о нескольких людях, мужчинах, солдатах. Такие подробности можно знать лишь тогда, когда находишься рядом с этими людьми. И не один день — довольно продолжительное время. Все они как на подбор — крепкие и высокие парни, разглядеть за их плечами что-то еще не получается.
Из всех девушек, выставленных на деревянной витрине, Алексу больше всего нравится Алида Валли. Она напоминает ему одного, очень близкого человека. Кого?
Нет, не напоминает.
Аскетичную и совсем-совсем юную брюнетку зовут Марина Берти, она сыграла всего лишь в одном фильме. Девушку, которую Алекс принял за скандинавку, — Катерина Боратто (штатный греховодник Даниэль Селеста произносит ее имя на американский манер — Кэт, Пусси Кэт). Мария Меркадер, Карла Дель Поджо, Дина Сассоли[24] — имена журнальных красоток всплывают одно за другим, как рыбы, оглушенные взрывом. Да и само сознание Алекса похоже сейчас на пойму реки, куда бросили тротиловую шашку. Все предметы, все вещи, скрытые под толщей воды, поднимаются на поверхность, и неизвестно, что возникнет в следующую секунду.
Тулио очень нравится Марина Берти, кажется, он даже немного влюблен в нее. И экзерсисы Селесты ранят его в самое сердце. Однажды они подрались из-за отношения к женщинам, если можно назвать дракой избиение младенцев. Селеста так вздул несчастного малыша Тулио, что ему пришлось отплевываться кровью и выбитыми зубами. Тулио считает, что все женщины — богини, Селеста — что все женщины шлюхи, оба они неправы.
Но Алекс все равно на стороне Тулио.
Стратегическая авиация британцев бомбит Турин и Геную, но здесь тихо. Если бы не адский холод, можно было бы считать это место курортом. Здесь тихо и холодно, а в Тунисе было жарко, — странные, чужие воспоминания продолжают просачиваться на поверхность. Лучшее, что может сделать Алекс, — не вглядываться в них чересчур пристально.
Тулио ушел за эдельвейсами и до сих пор не вернулся.
Кажется, эта запись сделана совсем недавно. Кой черт — она сделана только что, даже чернила не успели просохнуть! Алекс осторожно касается их кончиками пальцев, а потом подносит пальцы к глазам: на подушечке указательного явственно проступает темная точка. И последнее слово оказалось смазанным. Куда подевался Тулио? Он уже должен был вернуться!
Ужас охватывает Алекса. Ту небольшую его часть, что еще остается Алексом, продавцом рубашек из маленького городка. Если эта часть исчезнет совсем — с чем он останется?
Кьяра.
Она не богиня и не шлюха, но с девушкой по имени Кьяра связано что-то важное. Кьяра-Кьяра-Кьяра, Алекс цепляется за это имя, как цепляются за ломкие края полыньи в надежде не утонуть, выбраться, остаться в живых. Но другие имена тянут его на дно — Марина Берти, Селеста, здоровяк Альберто, Мария Меркадер (кажется, это ее брат несколько лет назад вляпался в неприятную историю с ледорубом) и, конечно же, Тулио. Тулио, ушедший за эдельвейсами, будь ты проклят, Тулио! Тулио — привязанная к щиколоткам корабельная рында, привязанный к щиколоткам камень… Алекс опускается все глубже и глубже, кто такая Кьяра?..
Его девушка?
Нет.
Его девушку зовут совсем иначе, вот кто настоящая богиня — его девушка!
Нет.
Она не просто девушка, их с Алексом связь не эфемерна, к восхищению и восторгу тут же прибавилось чувство беспокойства, так можно беспокоиться лишь об очень близком человеке. Целость и сохранность ее рук беспокоят Алекса: руки обвивали его шею не единожды, ноги переплетались с его ногами. Это — не просто девушка. Она украшена маленькими цветками сольданеллы, вся-вся… Откуда эти потрескивания, черт возьми? Полевая рация, ну конечно! Деревянный ящик, пристроенный на колоде рядом с поленницей. Сквозь потрескивания едва слышен хриплый мужской голос:
— «Дрок» вызывает «Ястреба». «Дрок» вызывает «Ястреба»! Ответьте! Окочурились вы там, что ли? Тулио, сукин сын, ответь!
Алекс (или кто-то другой) подходит к рации и берет в руки передатчик.
— Тулио ушел за эдельвейсами и не вернулся, — Алекс не узнает своего собственного голоса. — «Дрок», это «Ястреб». Вы меня слышите?
— Да. Простите, лейтенант.
Лейтенант. Вот как. Если Алекс не узнает собственного голоса, это еще не значит, что его не могут узнать другие. Во всяком случае, тот, кто вещает от имени базы, его узнал. Но самое странное, самое пугающее, что и Алекс узнал голос говорящего.
— Все в порядке, Барбагелата.
— Точно?
— Да.
— Через час пришлю ребят на смену.
— Хорошо.
— Надеюсь, к тому времени малыш вернется.
— Да.
— У вас действительно все в порядке, лейтенант?
— Я же сказал, все в порядке.
Барбагелате — сорок шесть, он самый старший из всех и большинству парней годится в отцы. Надежнее человека не сыщешь. Он за всеми приглядывает, обо всех заботится. Он храбрый, но его храбрость — это храбрость много повидавшего человека, лезть на рожон, как молодняк из взвода, он не будет никогда. Он просто выберет лучшее решение из всех возможных, так не раз бывало в Тунисе… Барбагелата — мастер на все руки, до войны он работал в часовой мастерской. Из куска проволоки ему ничего не стоит создать самый настоящий ювелирный шедевр — кольцо или подвеску, которой не стыдно украсить шею любой женщины. А какие запонки Барбагелата делает из монет!..
Лоб Алекса покрывает испарина, ноги подкашиваются, еще мгновение — и силы оставят его окончательно. Рухнув на топчан, он несколько секунд сидит, прикрыв глаза, а потом начинает медленно расстегивать полушубок.
Сейчас не время для цветения эдельвейсов, слишком холодно. Но малыш Тулио утверждал, что видел их в полевой бинокль. Место, где они якобы растут, не кажется Алексу таким уж труднодоступным, вот он и отпустил малыша. Не в последнюю очередь для того, чтобы беззлобно подшутить над ним, когда Тулио вернется с пустыми руками. А в том, что будет именно так, Алекс ни секунды не сомневается, сейчас не время для цветения эдельвейсов. Гораздо более стойкие цветы сдались, перестали бороться за жизнь, заснули до следующей весны. Тулио все придумал.
Но он одержим этими чертовыми эдельвейсами — мнимыми или настоящими, так же как Алекс одержим своей девушкой, они понимают друг друга без слов. Никто другой не позволил бы малышу покинуть пост — ни Барбагелата, ни Альберто Клеричи, ничего не поделаешь, они — люди, слишком глубоко пустившие корни в грешную землю, а Тулио вечно витает в облаках.
Но Алекс все равно на стороне Тулио.
Сидя на топчане, он машинально расстегивает пуговицы, никаких трудностей с ними не возникает. И сам полушубок выглядит намного лучше, чем… когда? Какая-то мысль ускользает от Алекса, какое-то воспоминание… не слишком важное, от него запросто можно отмахнуться. От боли в плече не отмахнешься, но теперь Алекс хотя бы знает причину, из-за которой она возникла, — ранение, полученное в Тунисе.
До того как оказаться здесь, он служил в Тунисе, в спецбригаде «Империали» — сборной солянке из самых разных войсковых соединений. Танковая разведгруппа «Лоди», танковый батальон, артиллеристы, моторизованная пехота и берсальеры. Его ранило под Бизертой, в самом начале мая 1943 года, незадолго до капитуляции. Ранение поначалу не показалось тяжелым, не то что разрывная пуля «дум-дум», использование которых запрещено всеми международными конвенциями. Но она задела Алекса и раздробила ему плечо. Плечо — не грудная клетка, не брюшная полость (последствия таких ранений могли оказаться намного плачевнее), хотя и того, что произошло, вполне достаточно. Хорошо еще, что обошлось без ампутации. Рука потеряла чувствительность, висела как плеть, и на ее восстановление ушло довольно много времени и усилий. Но рана периодически открывается, и это — худшие моменты в жизни.
Справляться с болью удается с трудом и привыкнуть к ней не получается.
Хотя, по большому счету, он счастливчик. Он не погиб под Бизертой, а до этого — стараниями все того же Барбагелаты — избежал смерти в Вади-Акарите. Он мог бы оказаться на Восточном фронте, увязнуть в снегах без всякой надежды на возвращение. Когда боль в плече становится совсем уж невыносимой, он думает именно об этом: о Восточном фронте, о снегах. Здесь тоже холодно, но здесь он дома.
Почти дома.
Под полушубком — свитер. Под свитером — гимнастерка, но не обычная, а «камиччото сахариано», ее Алекс привез с собой из Африки, как и бустину[25]. Бустина до сих пор лежит в его сумке, малиновый берсальерский кант на ее кокарде выцвел, и сама пилотка выглядит потрепанной, но она дорога Алексу. Милая его сердцу вещь, в которой хранятся другие вещи, не менее значимые:
— письма;
— крошечный осколок пули, ранившей Алекса. Кудесник Барбагелата впаял его в серебро, получился довольно симпатичный (если не знать предыстории) кулон. И Алекс обязательно надел бы его — из суеверных соображений, но у него уже есть кулон, в придачу к солдатскому жетону. А три штуковины на одной шее — явный перебор;
— что-то вроде записной книжки или, скорее, дневника. Алекс ведет его несколько лет, но записи появляются не так часто. А лишь тогда, когда в жизни происходит что-то важное. Или что-то пусть и несущественное, но милое сердцу.
За отворотом бустины хранится еще несколько мелочей: билеты в кино, билеты на посещение регаты, билеты на аттракцион «Лепесток лотоса», цирковые билеты, все — на два лица. Есть еще два билета — особенно ценных — на круиз вокруг Апеннин, но корешки у них не отрезаны, а сами билеты не пробиты специальным компостером: круиз так и не состоялся. Все планы нарушила Африканская кампания, хотя Алекс надеется, что все поправимо. И круизное судно обязательно дождется его, лишь бы кончилась война! Все войны заканчиваются — рано или поздно, и в его случае проиграть войну означает выиграть жизнь. Он просто хочет остаться в живых, чтобы попасть на большой, ослепительно-белый лайнер. Времена безрассудства и отчаянной храбрости прошли, разрывная пуля не только повредила плечо, она опрокинула сознание и вытащила на свет не самую приятную правду: Алекс стал осторожным, слишком осторожным. Это еще не совсем трусость, но… Теперь он не уверен, что заслонил бы своих людей собственным телом. Он не уверен, что будет сражаться до конца в открытом бою, а не поднимет руки в знак капитуляции. Хорошо, что активные боевые действия здесь пока еще не ведутся, иначе… как бы он поступил? Дезертировал?
Ответа нет.
Он хочет остаться в живых не только ради себя, но и ради любимой женщины. Это вряд ли извинит мужчину, оказавшегося на войне рядом с такими же мужчинами, парнями, мальчиками. У них тоже есть любимые женщины и девушки — у всех. Даже у Даниэля Селесты, привыкшего считать женщин шлюхами. И тем не менее его грудь украшена татуировкой девушки. Это — самая странная татуировка, которую когда-либо видел Алекс, в ней есть что-то пугающее и притягивающее одновременно. Он никак не может запомнить вытатуированные подробности, единственное, что накрепко осело в сознании, — высокий лоб девушки, навевающий мысли о Средневековье. И у Селесты есть мать (неважно, какой она была — добропорядочной или не слишком); у Барбагелаты — жена, две взрослые дочери и восьмилетний сын, его надежда и отрада. Барбагелата — единственный, с кем Алекс пытался поговорить о проблемах, которые его мучают. Он побывал в тех же переделках, что и его лейтенант, и тоже был ранен, причем дважды. Один раз косвенным виновником его ранения стал сам Алекс, тогда, в Вади-Акарите, во время артобстрела.
— Ты помнишь тот артобстрел, Барбагелата?
— Смутно.
— Мне кажется, такое не забывается.
— Если помнить обо всем — башка не выдержит, лейтенант, — тут Барбагелата слукавил. Нельзя не помнить бой, в котором получил ранение.
— Почему ты прикрыл меня, Барбагелата?
— Вы — мой командир. Вот и все объяснение.
— А если бы на моем месте оказался кто-нибудь другой? Тулио…
— Малыш Тулио? Малыши должны вырасти и стать мужчинами. Обидно, если этого не происходит. — Попробуй пойми этого косноязычного фельдфебеля!
— А если бы на моем месте оказался Селеста?
— К чему все эти вопросы? На вашем месте оказались вы, а я — на своем. И оба мы, слава богу, живы.
— Да. Я твой должник.
— Пустые слова, лейтенант.
— Нет. Я всегда буду помнить о том, что ты сделал для меня.
— Знаете что? Не хотел бы я, чтобы вы вернули этот долг. Побыстрее бы все закончилось! Побыстрее бы кончилась война.
— Ты тоже боишься умереть?
— Умереть? Нет, не боюсь. Боюсь никогда больше не увидеть сына. Это все, чего я боюсь. Вы ведь понимаете меня, лейтенант?
— Да.
Алекс понимает фельдфебеля как никто. Самое главное его сокровище хранится не в бустине, оно спрятано в медальоне. Ему и сейчас ничего не стоит запустить руку под свитер, вытащить его на свет божий и слегка надавить на защелку. Там, в золотой темноте, в полном покое хранятся две крошечных пряди волос: темные и светлые. Они переплетены так тесно, что отделить одну от другой не представляется возможности, да Алекс и не будет этого делать, потому что разорвать связь между женщиной и ребенком невозможно.
Это — его женщина, жена.
Это — его ребенок.
Мальчик, совсем маленький, ему и трех лет не исполнилось, а любовь к жене так велика, что сколько ни дели ее — хоть наполовину, хоть на множество частей, — она не убавится.
— Значит, ради того чтобы выжить… и увидеть сына, ты пойдешь на все, что угодно? Так, Барбагелата?
— Эээ… Что вы имеете в виду, лейтенант?
— То, что сказал. Ты пойдешь на все, что угодно?
— Выжить и увидеть сына — разные вещи.
— Это одно и то же.
— Нет, лейтенант. Если выживать любой ценой…
— Это я и имею в виду.
— Мужчина, который выживает любой ценой, за счет других людей, по мне — кусок дерьма.
Самый исчерпывающий ответ из всех возможных. Барбагелата смотрит на Алекса так, как будто видит его насквозь. Это — совсем новый взгляд, в нем нет ни капли симпатии, ни капли человеческой привязанности, ни капли сочувствия. Это — непривычный взгляд, как будто фельдфебель увидел своего лейтенанта совсем в ином свете, чем раньше. И увиденное ему совсем не понравилось. Алексу тоже не нравится все то, что происходит с ним. Ему хочется вернуть прежнего Барбагелату, которого он знал по Африке, уже тогда между ними сложились отношения, которые невозможно запихнуть ни в один устав. Их можно назвать дружескими, почти братскими. Старший брат — безусловно — Барбагелата: и по возрасту, и по жизненному опыту. Но он тактичен, он никогда не забывает, кто командир, а кто всего лишь подчиненный. Алекс не всегда выдержан, может вспылить, наорать на солдат, учинить мелкую несправедливость, жрать свой офицерский паек на глазах у людей, получающих совсем другие пайки, курить хорошие сигареты, в то время как все остальные курят откровенное дерьмо, — именно так обстояли дела в самом начале его службы. Но стараниями Барбагелаты, ненавязчивыми и почти незаметными, он изменился в лучшую сторону. Перестал кичиться собственным — довольно высоким — происхождением. Перестал видеть в солдатах лишь неотесанных парней, которых не жалко пустить на перегной. Алекс хочет вернуть прежнего Барбагелату. Но больше всего он хочет вернуть прежнего себя.
— Что вас беспокоит, лейтенант?
— Я просто устал.
— Мы все устали. Не думаю, что это продлится еще долго. И года не пройдет, как все закончится, вот увидите.
Алексу кажется, что эта бессмысленная война будет длиться вечно. И он почти готов смириться с этим, как с неизбежностью. Ведь вечность ничем не измеришь, ее не пересидишь ни в окопе, ни на наблюдательном пункте. Год — дело другое, он максимально приближен к человеку и легко измеряется тем, как отрастают волосы. Как растет собственный сын, которого ты не видел с самого рождения. На год можно и поворчать.
— Год — это слишком долго. Слишком.
— Надо потерпеть.
— Да.
— Как ваше плечо, лейтенант?
— Сносно. Иногда побаливает, но справиться с этим можно.
— Не увлекайтесь обезболивающими… Вы понимаете, о чем я говорю.
В этих словах — весь Барбагелата. Даже его тактичность, свойственная людям, которые всю жизнь имели дело с крохотными нежными механизмами, иногда дает сбой. «Вы понимаете, о чем я говорю» — относится к порошкам, которые принимает Алекс. Он никак не может привыкнуть к боли в плече, добро бы это были короткие яркие вспышки с относительным затишьем. Но плечо ноет постоянно, забыться не удается даже во сне. Боль, скорее, тупая, приглушенная, и — слишком назойливая, как жужжание комара. Иногда Алекс сравнивает ее с китайской пыткой водой, когда капли медленно и настойчиво долбят темя. От этой пытки сходят с ума самые стойкие, слава богу, Алекс все еще себя контролирует. Не в последнюю очередь благодаря чудодейственным порошкам. Порошками его снабжает Селеста, у которого есть кое-какие фармацевтические связи, — не в ближайшей дыре под названием К., где-то на равнине. «Кое-какие фармацевтические связи», конечно же, эвфемизм. На самом деле время от времени Селеста отлучается на равнину к «госпитальной шлюшонке», еще одной pussy-даме из его колоды. Оставлять эти отлучки совсем без объяснений невозможно, вот он и придумывает для Селесты всякие поручения. Из-за этого у него уже был неприятный разговор с фельдфебелем.
— Вы потакаете Селесте. По-моему, это неправильно. Или вам наплевать, что о вас подумают ваши люди, лейтенант?
— Ничего я не потакаю. Есть ситуации…
— Селеста — мутный парень. С каких пор он стал вашим любимчиком?
Даже мудрый Барбагелата иногда ошибается. Алекс — на стороне Тулио, на стороне самого фельдфебеля, на стороне всех остальных своих людей. А Селеста никогда не вызывал у него теплых чувств. Он и впрямь — мутный. Но у Селесты есть то, что жизненно необходимо Алексу.
Порошки.
И Алексу, и Селесте прекрасно известно, что это — морфий, хотя вслух они об этом не говорят. И сам лейтенант никогда не делился с ним своими страданиями, но Селеста многое подмечает. Когда он первый раз заявился с порошками, Алекс был удивлен. Тогда Селеста отвел его в сторонку и шепнул на ухо: «Вижу, как вам плохо, но у меня есть кое-что, что облегчит боль». Надо было сразу отказаться от услуг мутного парня Селесты, но Алекс смалодушничал, взял пару пакетиков. Боль отпустила, и это были лучшие часы за последние месяцы. Часы покоя и неспешных мыслей: они уже не вертелись, как привязанные, вокруг плеча, теперь Алекс мог, ни на что не отвлекаясь, подумать о Виктории (его жену зовут Виктория!), и о малыше, и о многом другом.
Морфий стоит недешево.
Но и Алекс не беден, денежные вопросы удалось решить без проволочек. Конечно, ощущение того, что Селеста надувает его, осталось. Даже учитывая то, что Даниэль идет на определенный риск, добывая порошки, — все равно надувает! Наверное, Алексу следовало бы отказаться от его услуг, перетерпеть — и все образовалось бы само собой. Но Алекс не смог, а потом — втянулся. Иногда в его сознании мелькает мрачная мысль о том, что он покупает чертовы порошки уже не из-за боли в плече, а из-за них самих. Мрачная мысль похожа на болотную жабу, толстую и склизкую, с отвратительными пупырышками на спине. Жаба неуклюже перепрыгивает с кочки на кочку, отталкиваясь задними лапами, при этом ее студенистое тело трясется, а безгубый рот широко раскрыт. Единственная цель жабы — перебраться из вонючего болота в чистую проточную воду, где резвятся маленькие золотые рыбки: мысли о Виктории и сыне.
Жаба хочет их сожрать!
Жаба хочет сожрать все, что дорого Алексу. И попутно наплодить других жаб — свои точные копии. Алекс уже несколько раз давал себе слово разорвать порочный круг, сказать Селесте, что боль прошла и он больше не нуждается в наркотике. Но разговор все откладывается и откладывается, а количество пустых бумажек из-под порошка множится. Сначала Алекс просто выбрасывал бумажки в пропасть, скатав их в комок. Теперь делает из них миниатюрные кораблики и прячет за отворот бустины. Противоположный тому, где хранятся милые сердцу билеты в цирк, кино, на аттракцион «Лепесток лотоса» и на круиз вокруг Апеннин. Бумажные кораблики — совсем не то, что большой круизный лайнер, где даже качка не ощущается. Они бы точно пошли ко дну, не продержавшись на волнах и пары часов, а сейчас тянут на дно самого Алекса.






