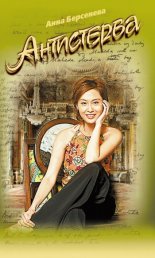Орфография Быков Дмитрий
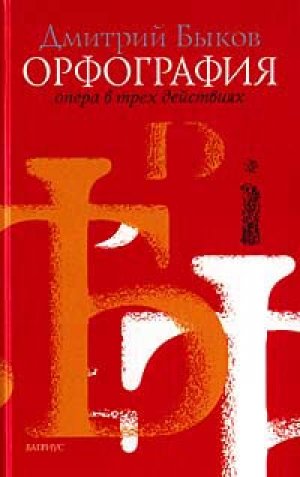
Они отправились в сторону диких пляжей, туда, где на кончике мыса — белый на белесом — еле виднелся гурзуфский маяк.
Словно только того и дожидаясь, им навстречу по набережной в сторону кофейни вихляющей походкой — руки в карманы — двинулась давешняя парочка: темный бродяга, словно выдуманный Хламидой для раннего романтического рассказа, и его светловолосый спутник. Ять хорошо их запомнил — три дня назад они охраняли захваченную татарами управу. Темный нехорошо посмотрел на Таню. Разминулись. Ять с облегчением вздохнул. Между тем двое дошли до кофейни и приблизились к дремлющему Пастилаки.
— Э, Одиссей, — сказал один. — Пошли. Пастилаки проснулся.
— Ты чего? — воззрился он на гостей. — Пошли вон, я вчера вам наливал. Хватит. Пришедшие переглянулись и неприятно усмехнулись.
— Пойдем, пойдем, — сказал другой. Речь их как-то странно изменилась: у обоих появился явственный кавказский акцент.
— Да куда мне идти? — спросил грек, и татарин Керим, оторвавшись от нард, уловил в его голосе панические нотки. Это было уже странно — двое бродяг вряд ли могли всерьез испугать толстого Пастилаки.
— Куда надо пошли, — сказал первый. — Сам знаешь.
— Не пойду никуда! — взвизгнул Пастилаки, но двое подхватили его под руки и бесцеремонно потащили вверх по дороге в город. Он тут же обмяк у них в руках и перестал сопротивляться, словно поняв, что раз тащат — значит, имеют право, протестовать бесполезно.
— Кому платить? — спросил Керим в крайнем недоумении.
Грузин неопределенного возраста Акакий Могришвили, до того сторож и фактически единственный хозяин покинутого имения Кавкасидзе, а ныне столь же единоличный правитель Гурзуфа, вошел в город ранним утром, по традиции правителей последнего месяца. Идти ему было недалеко — сторожка находилась у самого въезда в Гурзуф. В этой сторожке он обычно и сидел целыми днями, курил самосад, покашливал да смотрел сквозь кипарисы на море, синевшее внизу. Выражение, с каким он смотрел на все это, определить было сложно: он словно одобрял незыблемый порядок вещей, однако знал и иной, более совершенный порядок. Все можно устроить правильнее, но его пока никто не спросил.
О том, что Могришвили получил власть, в городе узнали мгновенно. Как ни странно, все были давно готовы именно к такому развитию событий. Сами понимаете, когда в городе давно нет порядка, обязан найтись кто-то, кто возьмет на себя ответственность. Так ли уж важно, что доселе он был сторожем в имении? В конце концов, имение по размеру превосходит весь Гурзуф. Как знать, может быть, при нем мы действительно заживем наконец как люди… Такие или подобные разговоры шли на базаре с утра. Общее настроение одним словом определить трудно: в нем деятельная бодрость сочеталась с расслабленной вялостью. Что-то вроде: «Итак, мы наконец выходим в решительный бой — но не столько мы идем, сколько нас идут, а потому оставьте усилия».
Могришвили был прагматик в высшем смысле слова — из тех, которые даже не знают, что такое прагматик; и это в самом деле совершенно не обязательно. Мало того: Могришвили был садовник, а это решает все. Из всех правителей Гурзуфа он был единственный, кто обладал народным, природным инстинктом власти — умел, когда нужно, подчиниться обстоятельствам, а когда можно — подчинить их себе. Есть вещи, которых не имитируешь, — они чувствуются; у народа и Могришвили было, если можно так выразиться, чутье друг на друга.
Как всякий истинный садовник, Могришвили знал, что программа действий не нужна и даже вредна — другие выдумают ее за тебя, прослеживая извилистый ход твоих интуитивно угадываемых действий, а в крайнем случае, изобретут задним числом в поисках оправдания для самих себя. Такое было время, — а какое было время, они выдумают, когда им надо будет оправдаться. Обо всем этом Могришвили много говорил с деревьями, населявшими его парк; он привык выступать перед ними с краткими успокоительными речами, когда обрезал или рубил. Говорить с деревом надо так, чтобы оно понимало, а понимает оно повторы, ибо привыкло к смене зимы и лета, зимы и лета — и так каждый год. Никого не надо поощрять к труду — это инстинкт труженика; так и дерево не надо поощрять к росту, ибо у дерева есть инстинкт роста. Надо только внушить дереву, что если оно принесет плоды и даст новые ветки — его не срубят, обрежут сушняк, удобрят и дадут тем самым веру в то, что оно трудилось не зря. Дороже всего в мире заведенный порядок — стоит завести его, как все начинает крутиться само собой.
Он вошел в загаженную управу и быстро объяснил страже, охранявшей управу, кого ей теперь нужно слушаться, — и они не возразили, как не возражали ему юные кипарисы, когда он садовыми ножницами придавал им благородную круглую форму. Он не стал говорить речи с балкона, а просто предупредил знакомых, чтобы те предупредили знакомых, а те — своих знакомых: все будет теперь правильно, то есть как по-старому, но лучше, чем по-старому. Чтобы сад рос, много усилий не надо — нужно не мешать естественному порядку вещей и мешать противоестественному; так я говорю?
Они сказали: так.
Он велел прислать к себе старшину рыбаков. Нельзя, чтобы у рыбаков не было старшины. Быть может, они еще не знали об этом, но теперь, когда он приказал позвать старшину, его немедленно выберут — хотя бы от страха; а тот, кого выбирают от страха, и есть самый законный старшина. В каждой оливковой роще, в каждой кипарисовой аллее Могришвили безошибочно выбирал главное дерево и, объясняя свои действия, обращался главным образом к нему. Наибольшим авторитетом среди рыбаков пользовался молодой Бурлак, победитель татар. Бурлак пришел к Могришвили. Молодой, это хорошо. Но он считал себя очень сильным, нехорошо. Могришвили объяснил Бурлаку, что теперь опять надо ловить рыбу, а больше ничего не надо. Платить четверть от выручки надо ему, Могришвили, потому что его люди стерегут базар. Раньше так не было — но раньше и порядка на базаре не было. Теперь на базаре будет чистота, он позаботится. Выстроят новые ряды, об этом он тоже позаботится. За все это надо платить, а кто не будет платить — не будет торговать на базаре. Другого базара не будет. Это говорит он, Могришвили, и говорит по-доброму, дружески. Есть закон, а как без закона — мы все уже видели. Ты понял меня, рыбак? Иди, рыбак.
Он не против, чтобы на базаре торговали татары. Но татары уже устроили один беспорядок, и городу не нужен другой беспорядок. Пусть татары платят городу треть, а не четверть, потому что их надо защищать от гнева русских. Русские делают вид, что простили бунт, но они ничего не забывают. И если татары хотят торговать на этом базаре, пусть платят треть. А другого базара не будет. Ты понял меня, татарин? Иди, татарин. И запомни: если ты хочешь говорить по-татарски — ищи другой город. Я грузин, но смотри — я говорю по-русски. Ведь ты понимаешь, когда я говорю? Я тоже хочу понимать, когда говоришь ты. Я так уважаю тебя, что хочу понимать все, что ты говоришь. Иди, татарин, и скажи татарам: скажи по-татарски, в последний раз.
В городе есть дома, которые занимают люди, ничего не сделавшие для города. Может быть, это хорошие люди, но нет закона, чтобы хорошие люди жили в хороших домах. Есть закон, чтобы в хороших домах жили полезные люди. Иногда хорошее дерево растет не на своем месте: в дубовой аллее не должен расти кипарис. Кипарис должен расти в кипарисовой аллее, верно я говорю, историк? Зачем тебе двухэтажный дом, тебе не нужен двухэтажный дом. Ты понял меня, историк? Дуканщик Кавалеридзе кормит мясом весь город, и ему нужнее двухэтажный дом. Он имеет дочь. Иди, историк.
— У меня гости, — робко сказал Зуев.
— Нам не нужны гости, — спокойно сказал Могришвили. — У нас самих не так много пищи. Иди, историк, и скажи, чтобы твои гости ехали туда, где их дом. Я даю им время до завтра, но завтра хочу, чтобы было, как я сказал.
И еще Могришвили мечтал об опере. Он всю жизнь мечтал об опере, потому что знал, что в настоящем городе должна быть опера, и еще потому, что музыка благородно действует на деревья. Они меньше раскидываются, растут стройней — словно дисциплина, которой подчиняются звуки, волшебным образом распространяется и на ветки. Люди должны слышать благородную музыку, а не грубые песни. В Тифлисе Могришвили однажды был в опере. В опере все сидят чинно, одетые по-праздничному. Гурзуфцам нечего шататься по вечерам — они должны сидеть в дукане у друга Кавалеридзе и потом идти в оперу, а впоследствии он совместит дукан с оперой, чтобы люди могли слушать музыку и кушать в перерыве. Опера делает жизнь красивой и благородной, в опере любят красиво и убивают красиво. Я слышал, что у татар был певец. Пускай позовут певца.
Маринелли нашли на пляже. Он стоял у воды в полосатом купальном костюме чудовищного размера — Ять и не предполагал, что такие бывают; впрочем, тело итальянца отнюдь не производило впечатления рыхлости. Он был толст, но мускулист, и Таня невольно залюбовалась им.
— Я мечтаю искупаться с тех пор, как сюда приехал! — торжествующе объяснял он по-английски. — С этими вечными сменами власти никогда не дадут выкупаться! Я понимаю теперь, почему у русских есть настоящие певцы, но нет настоящих пловцов: певцов воспитывает каждая власть, а поплавать некогда. Но ничего, теперь я вам всем покажу, как плавает итальянец. Вода, конечно, не та, что в Неаполе, — о, mare Tirrena, мое лиловое счастье! Но я и в Неаполе купался во всякую погоду, и холод меня не остановит. Отойдите, я разбегусь…
Однако разбежаться он не успел. Решительно ему не судьба была купаться в этот сезон, по крайней мере в Гурзуфе.
— Слышь, пошли, — сказал темный, спускаясь на пляж. — Ты, питерский! Усатый! Объясни ему.
— Что-то ты раскомандовался, — миролюбиво ответил Ять.
— Слышь! — крикнул темный. — Рассуждаешь много! Оторвись от бабы своей и валяй толмачь!
— Чего они хотят? — спросил насторожившийся Маринелли.
— В морду они хотят, — ответил Ять и без особенных колебаний ударил темного в глаз. Он не любил драк, но был предел и его терпению. Кое-чему он в молодости учился. Темный полетел на гальку, но сзади на Ятя наскочил белокурый и с силой выкрутил ему левую руку. Ять согнулся, крякнул, попытался лягнуть его ногой по колену — не вышло; тут поднялся и темный, подбежал к Ятю и врезал ему по носу. Ять рванулся, вырвался — не тут-то было: оба уже крепко держали его. Таня набросилась на них с кулачками, темный хотел отпихнуть ее, но сдержался.
— Слышь, ты не ссорься с нами, — сквозь зубы проговорил он. — Не то хуже будет. Власть теперь наша, понял? Толмачь кучерявому, и пошли.
— Они требуют, чтобы вы пошли с ними, — задыхаясь, перевел Ять.
— Пусть дадут мне одеться, — пожал плечами Маринелли. Он старался держаться невозмутимо, но крупно дрожал и явно перепугался не на шутку.
Поразительна была скорость, с которой черный и белый признали новую власть своей, хотя она и обременила их множеством дополнительных обязанностей; вероятно, дело было в том, что она была своей по духу, — а еще вероятней, в том, что наряду с обязанностями снабдила их небывалыми полномочиями. Маринелли надел штаны и красную рубаху, в которой щеголял с утра. Таня стояла поодаль, сжимая и разжимая кулаки.
— Отпустят их, отпустят, — жалостливо, несколько по-бабьи утешал ее белокурый, оборачиваясь. Все это время он не выпускал запястий Ятя; хватка была железная. — Я твоему и давеча говорил: глядишь, и отпустили.
— К управе топай, — сквозь зубы сказал Ятю темный. — Лишний раз шевельнешься — убьем, время не прежнее.
Это Ять и сам понимал.
— Почему двое? — равнодушно спросил Могришвили.
— Пересказывает он ему, — пояснил белокурый.
— Противился, сука, — сплюнул темный.
— Это ничего, что противился, — все так же спокойно сказал Могришвили, взглянув на заплывающий глаз босяка. — Если ты стража, тебе всегда противятся, если ты хорошая стража — возьмешь верх. Если ты плохая стража — будет новая стража. Хорошо, что ты пришел, — кивнул он Ятю, как будто тот пришел сам. Ятя поразила надменная царственность его скупых жестов. — Я объявил городу и теперь объявляю тебе, что нам не надо гостей. Сейчас не такое время, чтобы принимать гостей. Будет курортный сезон, мы подготовимся и тогда примем гостей. — Его речь с ритмическими повторами гипнотизировала, как суры Корана, но в ней не было той пронзительной, пустынной тоски, искупавшей многое. — С тобой девушка, забери девушку. А ты, — обратился он к Маринелли, — будешь петь в опере. Мы построим оперу, и ты будешь петь в нашей опере.
— Он требует, чтобы мы с Таней уехали, а вас заставит петь в опере, — перевел Ять.
— Все заставляют меня петь! — взорвался Маринелли. — Скажите ему, чтобы он пошел к черту! Я сорвал себе голос на этих сурах и не намерен больше выступать бесплатно! Я еду с вами! Я уезжаю на родину! Мы вместе едем в Ялту, находим корабль и сматываемся отсюда к чертовой матери! Не может быть, чтобы при анархистах в Ялту перестали заходить иностранные корабли!
— Хорошо кричишь, — невозмутимо сказал Могришвили. — Сильно кричишь. Я хочу послушать теперь, как ты поешь.
— Он просит, чтобы вы спели сейчас, — перевел Ять.
— Скажите ему, чтобы он пошел к черту, — заорал певец.
— Так и сказать? — уточнил Ять.
— Черт, черт, черт! Черт понес меня в эту страну! Чего доброго, они начнут меня бить. Этот хуже татар, я его насквозь вижу… Что я должен петь? Кто он такой?
— Грузин, судя по акценту. Житель Кавказских гор.
— Что такое «грузин»? Я не знаю кавказского репертуара!
— Пойте что хотите. Могришвили спокойно слушал их перебранку.
— Хорошо кричишь, — одобрительно приговаривал он, — громко кричишь. Можно сделать так, что будешь совсем громко кричать.
— Что любят грузины? — быстро спросил Маринелли.
— Женщин, — не очень уверенно ответил Ять.
— Женщин любят все! Что еще?
— Вино.
— Вино, вино… Черт с ним, я спою ему про вино!
Маринелли встал в позу, и управа огласилась звуками застольной из «Травиаты» в оригинале. Ни о чем не подозревавший Грэм, который с утра ушел бродить по городу и сейчас добрел до базара, задрал голову и прислушался. Он обожал эту музыку. Под такую музыку должен был прибывать в город флот триумфаторов, на головном корабле — оркестр; оркестр на море — это следовало обдумать.
— Хорошо поешь, — кивнул Могришвили. — Но в одном месте не так: тата-а-а-та, тата-а-ата!
Он пел фальшиво, негромким дребезжащим голосом. Он слишком долго вполголоса пел деревьям, боясь, как бы его не услышал кто-нибудь из Кавкасидзе и не поднял на смех.
— Повтори! — кивнул Могришвили.
— Спойте за ним, — перевел Ять.
— Но он фальшивит!
— Слышу!
— Что мне делать?
— Спойте, как надо. Может, не заметит. Маринелли повторил первую фразу арии.
— Хорошо поешь, — кивнул Могришвили. — Но надо не так. Ми люди не гордые, ми повторим. — акцент его от раздражения усилился, лицо слегка побледнело, но больше он ничем себя не выдал. — Та-та-а-а-та, тата-а-а-та! Слышишь, нет? Макарони любишь? Макарони ти любишь?!
— Он спрашивает, любите ли вы макароны, — тревожно перевел Ять.
— Скажите, чтобы он поцеловал меня в задницу! — заорал Маринелли и тут же точно скопировал фальшивое пение Могришвили.
— Во-от, — удовлетворенно сказал диктатор. — Теперь вижу, что не только макарони любишь, но и музыку любишь. У нас будет опера, настоящая опера. Но ты поешь грубо, ты поешь низко. В настоящей опере должен быть кастрат, и у нас будет кастрат.
— Wha-at?! — взвился Маринелли, узнав слово, примерно одинаково звучащее на всех европейских языках. — What the hell is he saying?!
— Вероятно, — Ять едва сдерживал неудержимое и вовсе неуместное желание расхохотаться, — вероятно, он перепутал вашу фамилию. Помните, был некто Фаринелли?!
— Откуда этот кретин знает мою фамилию?! Прекратите ржать, разрази вас гром!
— О Господи, простите меня, Маринелли. Он не знает вашей фамилии. Он просто слышал, что в опере поют кастраты.
— Да черт вас всех подери! Почему каждая революция в этом городе начинает с того, что бритвой тянется к моим гениталиям?!
— Это не революция, — пояснил Ять. — Это контрреволюция. Она всегда начинает с этого.
Он до сих пор не верил, что все происходит всерьез.
— Скажите ему, что я иностранный подданный! — фальцетом закричал Маринелли.
— Он итальянец, — пояснил Ять диктатору и страже.
— Я вижу, — кивнул Могришвили. — Итальянцы хороший народ, макарони любят. Если Италия захочет повоевать, мы повоюем с Италией. Ять перевел.
— Может быть, ему надо денег? — тоскливо спросил Маринелли.
— Боюсь, такое предложение только ухудшит наши дела.
— Ну, хватит, — сказал Могришвили. — Я послушал, как ты говоришь. Ты хорошо говоришь. Этого в участок, — кивнул он на Маринелли, — а ты останься.
— Но за что его в участок?! — не выдержал Ять. — Что он вам сделал? Вы просили спеть, он спел…
— Хорошо спрашиваешь, — кивнул Могришвили, — но тут ми спрашиваем. Ми! — неожиданно взвизгнул он. — Завтра вечером он будет петь на базаре, — добавил диктатор после паузы, демонстрируя подданным недюжинное владение собой. — Чтобы никуда не делся, будет сидеть в участке, репетировать. А ты садись, с тобой разговор будет…
Ять опустился в кресло, в которое так недавно его судорожно-величественным жестом усаживал Свинецкий. Все повторялось — не было только стражи. Ну ничего, сейчас поговорим, и, может быть, все окажется ерундой. Он добродушный малый, наверняка все это шутки. Всегда можно договориться.
— Теперь слушай, что я скажу, — спокойно сказал диктатор, останавливаясь прямо перед ним. — Знаешь, кто я?
— Нет, — честно ответил Ять.
— Я Акакий Могришвили, садовник. Был садовник там, — он показал куда-то себе за плечо, — теперь садовник тут. Ты хорошо слышишь?
— Да.
— Встать! Ять встал.
— Сесть, — спокойно сказал диктатор. Ять исполнил и это.
— Встать. Сесть. Встать. Вот так, — удовлетворенно сказал Могришвили. — Хорошо стоишь, теперь сесть. Слушай еще, что скажу. Он сделал паузу.
— Какое твое занятие?
Ять понял, что назвать себя журналистом — значит подписать себе приговор. Не исключено, что новый хозяин города захочет издавать в Гурзуфе газету.
— Я филолог, — ответил он.
— Встать, — невозмутимо приказал Могришвили. — По-русски скажи.
— Специалист по языку.
— Зачем специалист по языку, когда каждый знает язык? Ты всю жизнь чужой хлеб кушал, теперь понимаешь? Что ты еще можешь?
Могу удавить тебя, подумал Ять. Но тут же понял: не может. Эти желто-зеленые глаза парализовали его.
— Могу переводить, — глухо сказал он.
— Нам не надо переводить. Пусть они наш язык учат, правильно? — дружелюбно спросил Могришвили. — Русский язык — красивый язык, богатый язык. Сейчас скажи мне: правда, что в России отменили грамоту? (Об этом Могришвили услышал, когда в январе ездил в Ялту.)
— Правда.
— Хорошо, — кивнул Могришвили. — Вот бумага, пиши. — Он придвинул к Ятю чернильницу. — Пиши разборчиво, печатно и так, как я говорю. Дикрет номер адын. Дик-рет, ти слышишь? Номер адын. С э-та-ва дня — сегодня какой дэнь?
— Двадцать пятое, — еще тише ответил Ять.
— С э-та-ва дня, двадцать пятое цифрой, каждый пишит, как слышит. Это а-би-за-тэл-на. Записал? Хорошо пишешь быстро пишешь. Но не так пишешь! — Могришвили выхватил у Ятя листок. — Это какая буква?
— Мягкий знак.
— Какой звук он делает?
— Он не делает звука, — объяснил Ять. — Он смягчает согласные.
— Согласные и так согласны, зачем их смягчать? — Невозможно было понять, шутит Могришвили или говорит серьезно. — Нам не нужны мягкие согласные, нам нужны твердые согласные. Какая это буква? Вот эта, в начале слова.
Его желтый, очень твердый ноготь упирался в слово «Обязательно».
— «О», — сказал Ять.
— Зачем «о»? Ты говоришь, ты знаешь язык. Как ты знаешь язык, если «о» и «а» не различаешь? А-би-за-тэл-на.
— Но вы сказали — писать, как слышу, — возразил Ять.
— Ты ТАК слышишь? О-бя-за-тел — мягкий знак — но? Нэт, ты слышишь а-би-за-тэл-на!
— Так слышите вы, — упрямо ответил Ять, чувствуя, что есть предел и его унижению — дальше он попросту не сможет о самом себе думать без отвращения. — Но откуда вам знать, как слышу я?
— Все будут слышать, как слышу я, — ровным голосом сказал Могришвили. — Потом словарь сдэлаим. На еще листок. Пиши: Дикрет номер адын. Дальше должен помнить. Дата, подпись. Подпись будет моя. Теперь ступай. И завтра тебя нэт. В девять проверю. Историку сказки — сам приду.
Ять вышел пошатываясь. Могришвили любовно посмотрел на декрет — первый документ гурзуфской государственности, с которого начнется отсчет новой эры. Но с введением нового летосчисления он решил подождать. Не нужно слишком много реформ сразу.
Вернулась стража, отводившая Маринелли в участок.
— Ты наберешь охрану к управе, — сказал Могришвили темному, безошибочно почувствовав, кто из двоих главный. — Будешь начальник этой охраны. Ты пойдешь со мной, — обратился он к белокурому. — Я пойду осматривать парк, ты будешь охранять меня в парке. Да, и вот еще что, носатый. — Он шутливо, но больно ухватил темного за хищный клюв. — На базаре повесишь вот это. Хватит им писать безграмотно, пусть пишут грамотно.
Он вручил темному декрет и вышел в сопровождении белокурого охранника, страшно гордого новой ролью личного стража.
Против воли Ять все ускорял и ускорял шаг, так что вниз, к дому Зуева, летел пулей. Отчего-то ему казалось, что стоит вернуться туда, на второй этаж, к которому он так привык и где был так счастлив, и все станет по-прежнему: он снова будет тот, утренний, счастливый Ять, никем еще не униженный, не предавший несчастного Маринелли (ведь это явное предательство — то, что он дал его увести), не исполнявший дурацкой гимнастики перед садовником — сесть-встать, сесть-встать, — там, в доме, безопасность и покой; и, может быть, перед лицом Тани развеются, как всегда, все химеры. Дом был пуст. Ни Тани, ни историка нигде не было. Взять не могли, нет, взять не могли — ведь убираться сказали ему с Таней, а к Зуеву диктатор назавтра собирается с визитом — не иначе диктовать «дикрет номер два», о том, что предки гурзуфцев альмеки были грузинами… Хлопнула входная дверь.
— Ять, ты здесь?! — кричала Таня. — Охрана мне сказала, что ты здесь!
— Ты была там? — в отчаянии крикнул Ять.
— Да, конечно! Я не могла больше ждать. Они сказали, что тебя выпустили. Что они там с тобой делали? Где Маринелли?!
— Со мной не делали ничего. (Он скорее оторвал бы себе голову, чем рассказал ей о гимнастике и декрете.) Он продиктовал мне идиотский декрет о том, чтобы все писали, как слышит он. У него нет другой заботы, кроме грамоты. Маринелли увели и хотят сделать оперным певцом, но сначала обещают кастрировать. Думаю, угроза пустая, но чем черт не шутит.
Снова хлопнула дверь, и на второй этаж взлетел Зуев. Ять никогда не видел его таким: смуглое лицо стало зеленым, пенсне болталось на нитке.
— Вы здесь? Вы уже знаете?
— Смотря что, — отозвался Ять.
— Меня выгоняют из дома!
— Только этого не хватало. — Ять окончательно уверился, что спит. — Когда он столько успел?
— За мной пришли с утра… эти двое ублюдков… Он сказал, что теперь здесь будет жить дуканщик.
— А Маринелли арестован, — сказала Таня.
— Да черт с ним, с вашим Маринелли! Я прожил в этом доме полжизни, куда мне теперь деваться?! Здесь библиотека, архивы, рукописи… здесь всё!
— Может, можно как-то скинуть этого урода? Кто он вообще такой?
— Он местный садовник, — махнул рукой Зуев. — Никто не обращал на него внимания. Я всегда думал, что он сумасшедший. Ходил по саду, разговаривал сам с собой…
— Неужели в Гурзуфе не осталось нормальных людей?
— Откуда?! Их тут никогда не было много… Историческое общество частью разъехалось, частью запугано… Муравлев не пустил меня на порог, Самохвалов на рынке отвернулся, как от зачумленного… Откуда все так быстро становится известно?
— Знаете, — раздумчиво проговорил Ять. — Я был у него сегодня и знаю, что, если еще раз его послушаюсь, — дальше жить не смогу. Мне дышать будет стыдно. Вы не должны завтра уходить из дома.
— А что мне делать?
— Мы запремся тут. Таня, конечно, уйдет. Мы ее отправим в Ялту за подмогой.
Таня, все это время сидевшая на плетеном стуле молча, с низко опущенной головой и холодными руками, зажатыми между колен, — вскочила и топнула ногой:
— Я никуда не уеду! Как ты смеешь отправлять куда-то меня одну?
— Ну, не сидеть же тебе в осажденном доме…
— Идиот! Я никогда еще не сидела в осажденном доме! Мы же договорились попробовать всё!
— Таня, это не шутки! — крикнул Ять. — Шутки кончились!
— Шутки только начинаются. — Она тряхнула головой, внезапно развеселившись. — Что у нас есть, кроме ружья?
— Ружье есть у Самохвалова, — тихо сказал Зуев. — Ружье он, конечно, даст, но может и донести. Я его знаю, гниловат…
— А сколько человек сможет мобилизовать садовник?
— Сколько угодно, — пожал плечами Зуев. — Если он прикажет громить дачи… или грабить дома, что поприличнее… или откроет Голицынские склады…
— Кстати! Почему их не разграбили до сих пор?
— Это последнее табу, — покачал головой Зуев. — Не забывайте, гурзуфцы — потомки альмеков. Есть запреты, через которые и они не могут переступить. Но если этот заставит… тогда последние табу полетят к черту. В городе восемьдесят лет не было ни одного убийства! — Он вскочил со стула и бешено заметался по комнатке.
— Главное — первым выстрелом положить его, — твердо сказал Ять. — Без него толпа немедленно отрезвеет.
— Да? — скривился Зуев. — Вы хотите, чтобы толпу повели на штурм эти бандиты — черный с белым?
Ять замолчал. В словах историка был резон. Неожиданно снизу, с улицы, донеслась «Марсельеза», исполняемая на языке оригинала.
— Что это?! — встрепенулся Зуев.
— Это Маринелли. Ах, черт! Что же можно для него сделать, пока эти не пошли нас штурмовать?
— Передайте ему вина! — воскликнула Таня. — Я сейчас же куплю на базаре.
— Но, может, попытаемся насчет побега? — предложил Ять. — Как-то подговорить… стойте, я сейчас.
Он спустился вниз. Дверь участка была заперта снаружи на гигантский висячий замок. Караул был теперь не нужен. Ять забарабанил в дверь. В ответ донесся град ругательств на незнакомом гортанном языке. Голос, однако, с несомненностью принадлежал Маринелли.
— Маринелли, это я! — крикнул Ять. — Откуда замок — вы не знаете?.
— Он замок с собой принес, — отозвался печальный голос Пастилаки. — Это с его склада замок, он там лопаты хранит. Ключ всегда при себе носит. Ясно, безнадежно подумал Ять. Каждый входит со своим символом государственной власти; этот пришел с замком.
— А на каком это языке вы сейчас ругались? — не удержался он. Любопытство было в нем едва ли не сильней сострадания.
— Меня научил владелец кофейни! — отвечал Маринелли. — Он утверждает, что это кавказские ругательства.
— Вы что, подумали, будто диктатор явился за вами?
— Да. Учтите, я дорого продам свою жизнь!
— Хотите вина? Я попробую передать вам через окно.
— Лучше сбейте замок!
— Э, не балуй, не балуй! — раздался голос позади Ятя.
Он оглянулся. Наискосок, в тенечке, сидел его давешний охранник — человек из отряда Свинецкого.
— Я и не приметил тебя, — удивился Ять.
— Слона-то он и не приметил, — процедил образованный босяк. — Там на базаре отряд набирают — дай, думаю, послужу. Скушный город Гурзуф, грабить некого. На две дачи слазил — тошшишша!
— Слышь, — сказал Ять. — Я ему бутылку передам — ничего?
— Бутылку можно, — зевнул босяк. — Бутылку — милое дело…
Ять подошел к нему поближе и шепотом проговорил:
— А чтобы выпустить этих — сколько возьмешь? Босяк посмотрел на него как на недоумка.
— Ты чего? — сказал он наконец. — Ты с кем шутки шутишь?
— Но меня же ты… или забыл?
— Так то ж на ночь, — искренне недоумевая, как можно не понимать таких простых вещей, пояснил босяк. — И куда ты сбежишь, ежели у тебя баба тут? И начальство тогда в город уплыло, к тому же было больное на всю голову. А теперь такое начальство, что — ух! Ты мне хучь бочку выкати, хучь баб роту приведи — не, я с этим шутковать не стану… И тебе скажу — не пхуткуй. На Руси до трех считают, на Кавказе до одного…
— И многих он там навербовал, на базаре?
— Да человек, считай, до ста наберет, — уверенно сказал босяк. — А потом и больше. Делать в городе нечего, а он хучь порядок наведет…
— Что ж, он вам и оружие дал?
— Оружие у нас вот, — босяк молниеносно извлек и покрутил в пальцах перед Ятем превосходную стальную бритву. — Да от эсерчика кой-что осталось… В общем, хлюпа вроде тебя порешим, да и толстячка, если сунется куда, не упустим…
— Ять! Эй, Ять! — донесся снизу счастливый голос Грэма. — Я нашел, слышите? Все нашел!
Если подумать в тишине и при настоящей музыке, все сразу находится, — говорил Грэм, слегка задыхаясь. — У меня никогда не было кабинета: к чему? В кабинете ничего не высидишь. В ходьбе можно найти ритм, а у моря можно найти тему. И вот тема: старый моряк живет в поселке с маленькой дочерью…
Наивность Ятя была такова, что он посчитал это невинной болтовней, которой Грэм надеется отвлечь внимание босяка, чтобы сообщить нечто важное. Решив, что вино для Маринелли подождет, он вернулся с Грэмом в дом и вслед за ним поднялся к себе.
— Живет моряк с дочкой, — продолжал Грэм. — Он списался на берег, но делать береговую работу не умеет, как птица не умеет ходить. Город сплошь состоит из ужасных, приплюснутых жизнью особей…
— Да что вы нашли-то? — спросил наконец Ять. — Тут можно, все свои.
— Как — что? — не понял Грэм. — Это и нашел! Но послушайте сюжет: это будет феерия!
— Грэм… — Ять сардонически улыбнулся, поняв, что есть в городе люди, понимающие в жизни еще меньше, чем он. — Вы знаете, что в Гурзуфе переворот?
— Знаю, конечно, татар погнали. И что?
— Татар погнали вчера, — еще ехиднее улыбнулся Ять. — А переворот случился сегодня. И я сильно подозреваю, что он последний.
— Кто теперь? — по-прежнему радостно спросил Грэм. — Рыбацкое временное правительство?
— Если бы. Теперь диктатура. Сторож из соседнего имения.
— Садовник, — мрачно поправил Зуев.
— Так прогнать его к чертовой матери, и дело с концом, — беспечно рассмеялся Грэм. — Татары — это я еще понимаю: татар много, и у них есть опыт ига. Но садовник…
— У садовника гораздо больший опыт ига, — передразнил его Ять. — У Зуева отбирают дом, нам с Татьяной предписано покинуть город, а в участке сидит певец Маринелли, которого хотят кастрировать.
— Ловко, — уже серьезнее заметил Грэм, взглянув на стенные часы. — И это все к трем часам дня? Ловко.
— Это не все. Он ввел новую орфографию, построенную на фонетическом принципе. Пишите, как слышится, но не так, как слышится вам, а как ему. Ему все слышится с кавказским акцентом: тарэлька, но — сол. Понимаете? Русский язык облагорожен клекотом горного орла.
— Его еще не растерзали? — деловито спросил Грэм.
— Напротив. Он пользуется в городе полной поддержкой. Наконец-то порядок и все прочее. Кроме того, за него все босяки и дуканщик.