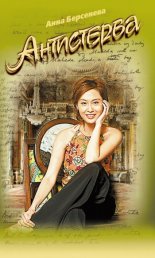Орфография Быков Дмитрий
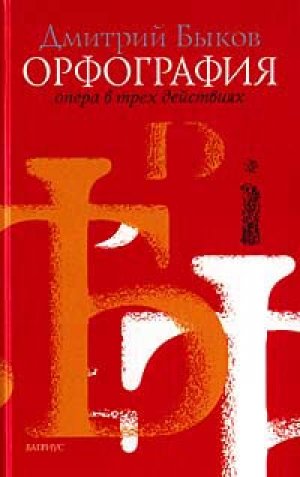
— Невеста? — переспросил Свинецкий. — Вы не женаты?
— С первой женой разошелся.
— И все-таки… — Эсер никак не мог слезть с раз избранной темы. — Я никак не уясню себе, есть ли у вас политические воззрения?
— Да конечно, есть! — воскликнул Ять. — Я люблю никому не нужные вещи, интересуюсь одинокими чудаками, мне дороже всего то, что не имеет отношения к выживанию. Мне нравится зазор между человеком и… как бы это сказать? В человеке есть избыток… что-то сверх его нужд, а может, даже и вопреки его нуждам. Вот этот излишек я и люблю, а больше меня ничего не интересует. Мне симпатично то, что делается вопреки жизни, а сама жизнь представляется мне довольно скучным местом. Если ее вообще можно назвать местом. Как по-вашему, это политический взгляд?
— А религиозные убеждения у вас есть? — не отвечая, продолжал допрашивать Свинецкий.
— Есть, конечно. В нас слишком много необязательного, чтобы мы могли быть результатами эволюции. По-моему, это так понятно… Я и вами интересовался в основном потому, что меня восхищает способность человека легко отказываться от жизни. Но ведь это не для всех. Если вы хотите управлять городом, вам надо руководствоваться Ветхим Заветом, иначе город развалится сразу же. А я стараюсь руководствоваться Новым и потому не гожусь вам в советники.
— Однако, как я понимаю, — Свинецкий в упор рассматривал его, — бороться с моим режимом вы тоже не собираетесь?
— Я еще не знаю, что за режим. Вас, эсеров, всегда так занимала борьба, что не было времени подумать о власти. Как вы собираетесь ею распорядиться?
— Мои взгляды изменились мало, — сказал Свинецкий. — Я по-прежнему считаю, что человек стоит столько, сколько он готов пожертвовать.
— Это очень симпатично, но жертва — дело добровольное. Нельзя ее требовать от обывателя.
— Обывателя больше не будет, — твердо сказал эсер. В мыслях он уже распространил свою власть от пламенной Тавриды до хладных финских скал. — Нельзя требовать жертвы, но можно создать условия, в которых жертва станет естественной для каждого. Люди трусливы и ленивы, и не у каждого достанет сил сделать шаг к высшему состоянию. Дело власти — дать им эту возможность. Как я могу заключить из ваших слов, все двенадцать лет, что мы не виделись, ваша душа проспала таким же непробудным сном, что и эти несчастные рыбаки. — Свинецкий вскинул голову, носом указав в сторону берега. — Мой долг разбудить и их, и вас. Вы арестованы.
— Очень приятно, — сказал Ять. — Нет, в самом деле. Царизм меня хотел арестовать за антивоенную газету, но воздержался. Теперь пришли вы и начинаете с того, что арестовываете меня. Хороша свобода.
— Оставьте, — махнул рукой Свинецкий. — Вам ли говорить о свободе? Жертвовали ли вы собой? Прощались ли с товарищем, идущим на смерть? Может быть, вы караулили на ледяной улице, ожидая, когда проедет карета, везущая вашу Цель, вашу смерть? Если вы ничего не знаете о смерти — что знаете вы о свободе?
— То есть для Гурзуфа, если я верно вас понял, настал период смертных казней, — кивнул Ять. — Поголовный переход в царство небесное с последующей рассортировкой. Ладно, все это очень интересно, но мне пора.
— Сидеть! — рявкнул Свинецкий, и двое с пиками лениво подошли к Ятю. Они встали по сторонам его кресла, и тот, что справа, с нехорошей улыбочкой положил тяжелую руку ему на плечо.
«Шутки кончились, — подумал Ять. — А я-то перед ним так распространился. Когда уже пройдет этот подростковый идеализм, заставляющий предполагать в дураках высшие человеческие начала!»
— Вы достойный ученик большевиков, — пустил он в ход последний козырь. — Они тоже первым делом стали бороться с газетчиками…
— Я и не собираюсь бороться с газетчиками, — гордо ответил Свинецкий. — Я дам вам все необходимое — перо, бумагу. Вы сможете писать и печататься, как могли в свое время мы. Больше того — я приду к вам в узилище, как вы когда-то приходили ко мне, и там мы продолжим нашу беседу. В истории есть благородная симметрия, вы не находите?
— Я нахожу, что вы слишком много читали Достоевского, — сказал Ять.
«Попробовать все, — повторял он, лежа в подвале гурзуфского полицейского участка на жестком тюфяке. — Что ж, в этом есть смысл. Что ни придумаю — сбывается дословно; надо бы перестать придумывать».
Замок с дверей гурзуфского участка был торжественно сбит в день, когда установилась большевистская власть. Это было своего рода разрушение Бастилии в местном масштабе. Нового замка никто навесить не удосужился, тем более что за скобяным товаром надо было ездить в Ялту. Дверь поэтому не закрывалась, и Ятя посменно караулили люди из отряда Свинецкого.
Разумеется, была особая ирония в том, чтобы за полторы тысячи верст добраться к Тане, встретиться с ней после двухлетней разлуки, чтобы после двух ночей, проведенных вместе, снова оказаться в одиночестве, и где? — в трех шагах от нее! Именно эта близость была всего невыносимей. В доме напротив она спала, ходила по комнате, писала ему (записку передал стражник)… Хорошо еще, что Свинецкий, до конца решивший играть в просвещенного властителя, тут же известил ее об аресте жениха, да не через курьера, а лично. Впрочем, возможно, у него просто не было курьера.
«Он полный урод, — писала Таня, — и если это прочтет, то пусть знает. Видишь, вот мы и начали с тобой пробовать все. Ты теперь узник, а я невеста борца. Будь спокоен, не пройдет и двух дней, как окажешься на свободе. Не думай, пожалуйста, что я выкуплю тебя ценою своей добродетели. Ты не стоишь моей добродетели».
Отсюда, из подвала двухэтажного здания, были слышны звуки местной жизни: ранним утром к морю спускались рыбаки, чуть позже шли на базар торговки, и с девяти утра (часы Ятю оставили) доносились крики веселого южного торга; к десяти открывал кофейню Пастилаки. Как всякий приморский город, Гурзуф жил лениво и беспорядочно: кто зависит от переменчивой стихии моря, тому смешна деловитость. Прилежно работали одни татары: ковыряли глинистую землю виноградников, доили коз, латали крыши. Татары жили в верхней части города обособленно. Рыбаки их втайне презирали за неистребимую сухопутность, скучную домовитость и еще за то, что жены их и дочери были строгих правил. В подвале было оконце, выходящее на улицу, — располагалось оно слишком высоко, чтобы Ять мог до него дотянуться. Сквозь него проникал слабый свет, позволявший, однако, догадываться, что на улице прелестно. Как и обещал Свинецкий, Ятю принесли керосиновую лампу (вероятно, в надежде на самосожжение), бумагу, чернильницу и стальное перо.
«Свинецкий — свинья», — написал Ять и нарисовал свинью с бородой.
О политической жизни Гурзуфа на протяжении двух дней правления Свинецкого он не знал ничего, а между тем такой бурной политической жизни, как в эти два дня, у Гурзуфа не было ни до, ни после. Первым же декретом Свинецкий упразднил шестидневную рабочую неделю и сократил ее до трехдневной, поскольку физический труд казался ему проклятием человечества. Он ввел несколько новых праздников — около пятидесяти дней рождения павших борцов; сооружение памятников было провозглашено важнейшей задачей дня. Какого бы культа предков ни придерживались альмеки, в сравнении с культом павших, который установил Свинецкий, их религия была апофеозом жизнеутверждения. Пятьдесят дней в году Гурзуфу предстояло одеваться в траур. Культ героической смерти исключал всякую заботу о нуждах низкой жизни. Свинецкий ввел беспрецедентно жесткую регламентацию повседневных занятий и собирался менять эту регламентацию ежедневно, чтобы не давать жителям поселка зажиревать: рутина опаснее всего. Год он собирался властвовать лично, а потом, когда свобода проникла бы в плоть и кровь подданных, намеревался инициировать заговор против себя и погибнуть в результате безукоризненно спланированного акта. Власть развращает, а потому все надо успеть за год: и раскрепостить народ, и вырастить смену. Ять казался ему достаточно храбрым человеком, чтобы стать этой сменой, но за год его предстояло провести через многие испытания — подстроить побег, поймать, подвергнуть пытке, научить подбирать соратников и готовить покушения. Главное — не останавливаться, ибо Свинецкий давно уже знал, что революция не имеет никакой конечной цели, кроме себя самой.
Рынок он не закрыл, но ввел карточную систему. Татарам, торговавшим молоком, козьим сыром и сушеным виноградом, отныне вменялось в обязанность раздавать свой товар бесплатно — прежде всего семьям, где были дети. Татары не поняли. Свинецкий объяснил, но, кажется, у них остались сомнения. Рыбачить он разрешил два дня в неделю, в прочее время обязав рыбаков отрабатывать по шесть часов на строительстве памятников павшим борцам. Три часа своего времени ежедневно отвел на преподавание в гурзуфской школе (в поселке насчитывалось тридцать детей разного возраста — от двух до шестнадцати лет; всех он намеревался обучать вместе по методике Штайнера, о которой услышал в Швейцарии). Портрет Ленина сжег. Семью комиссара Трубникова, на которую ему тут же указали услужливые доносчики из числа гурзуфских обывателей, осыпал милостями и просил передать, что Трубников может вернуться. Троих вернейших из своей гвардии Свинецкий отправил в Ялту — агитировать обывателей для последующего захвата Ялты; ночью, возможно, он под парусом лично выедет туда и выяснит ситуацию. Большевики там слабы, серьезного сопротивления не будет.
Ятя разбудил в одиннадцатом часу вечера вдребезги пьяный стражник; эту рожу Ять видел впервые — видимо, сменился караул. В камере горела керосиновая лампа, по стенам плясала чудовищная тень.
— Слышь, малый, — кряхтел и возился над ним усатый толстяк. — Вставай, слышь. Хватит дрыхнуть-то, работать пора. Баба твоя тебя ждет, слыхал, нет?
— Какая баба? — не понял Ять.
— А их што, много у тебя? — захохотал страж. — Знала бы, не выкупала бы… Только смотри, время у тебя до утра. Утром марш назад, как положено. Ну, я покараулю — домик-то напротив, не сбежишь… Мне без разницы, где караулить…
— Как — выкупила? — все еще не соображал Ять.
— Вот так! — Страж показал ему немалых размеров бутыль, оплетенную соломкой. — Самый первейший самогон, татаре гонят. Где взяла, это уж ты у нее спроси. Ничего девка, и сама пить здорова. Тяжело тебе с ней, худосочному, — босяк зычно расхохотался.
— А что, если ко мне ночью этот нагрянет… главный-то ваш? — на всякий случай поинтересовался Ять. — Он, я знаю, любитель ночные разговоры разговаривать…
— Не нагрянет, — успокоил страж. — Он в Ялту уехал, лодку взял… Хочет там растрясти кой-кого. Вставай давай, ждут тебя. На, хлебни для бодрости.
Пошатываясь, Ять вышел из подвала в синюю, влажную, тяжелую гурзуфскую ночь. Над горбатой улочкой стояла огромная желтая луна, вдалеке золотилось море. Ять плотней закутался в зуевское пальто и несколько раз глубоко, с наслаждением вдохнул. По всей чаше Гурзуфа, по темным лесистым склонам, по рыбацкому поселку и татарским дворам перелаивались собаки: начинала всегда одна, самая маленькая и злая, высоким, пронзительным тявканьем словно устыжая остальных: проснитесь, проснитесь, какой сон в такую тревожную ночь! «Что?! Что?!» — тут же хрипло, отрывисто подхватывала вторая откуда-то снизу, ничего еще не понимая, но уже угрожая невидимому противнику; в ответ вступал целый хор сверху — не дадим! не пустим! — после чего слева лениво, снисходительно гавкал басовитый пес — сторож Голицынских винных складов: да ладно! да кто посмеет! Наступала короткая тишина, в которой отчетливо было слышно змеиное шуршание гальки внизу; оно-то и бесило ту самую маленькую собаку, с которой все начиналось, — потому что этот звук нельзя было отпугнуть и избыть: оставалось только заглушить его. И бессонная маленькая собака снова и снова поднимала переполох: не спите! не спите! крадется! — и снова вступала свора, и снова снисходительный бас с винных складов водворял короткую тишину. Вся эта история, как всякая история, двигалась слева направо и не имела ни конца, ни смысла.
Ять выслушал две серии этих шакальих воплей (интересно, как лает настоящий шакал?) и вошел в незапертую дверь зуевского дома. Он старался оттянуть миг встречи — не только потому, что вообще имел привычку отдалять блаженство, но и потому, что до сих пор не пришел в себя. А перед Таней, как бы он ее ни любил, надо было появиться во всеоружии — смятения она не прощала.
И точно: на ощупь поднявшись по темной лестнице, он застал картину почти идиллическую. Таня, спокойная и умиротворенная, штопала одну из его рубашек, сидя за столом, на котором вокруг керосиновой лампы были расставлены фантастические яства. Была тут и еще одна оплетенная бутылка, и сыр, и маслины домашней засолки, и холодное жареное мясо, и несколько пресных лепешек, и даже тарелка жидкого желтого меду, который, Ять знал, на гурзуфском базаре можно было только выменять — никаких денег за него не брали, ибо мед в восемнадцатом году был валютой более надежной. Ять стоял в дверях их комнатки и не сводил глаз с убогого пиршественного стола, с Таниного полуосвещенного, сосредоточенного лица со сдвинутыми густыми бровями, с лампы, вокруг которой плясал, стукаясь иногда о стекло, одинокий длинноногий комар карамора. Таня молчала, давая Ятю проникнуться всем очарованием этого хрупкого уюта и ее собственного облика — на этот раз домашнего и необычайно естественного; он редко видел ее такой и никогда не мог представить женой — в ней было слишком много огня, и движения, и неумения долго оставаться на одном месте, — а она могла быть и решительной, спокойной хозяйкой, в отсутствие мужа починяющей его пожитки и раздобывающей жалкие деликатесы к его возвращению. Он не знал, сколько обличий осталось у нее в запасе и какие чудеса ему еще покажет эта девочка, естественная во всякой среде, своя на любом базаре, мечта каждого мужчины, доставшаяся отчего-то Ятю.
— Спасибо, Таня, — тихо сказал Ять.
— Ах, этот охранник такой славный, — ответила она, не отрываясь от шитья. — Бродяжничал по всему югу, рассказывал удивительные вещи об Астрахани. Скажи, там очень холодно — в подвале?
— Не особенно. Я даже выспался.
— Бедный, я не даю тебе спать. Садись же скорей, ешь и рассказывай. Я думаю, они тебя и не кормили там?
— Почему, Свинецкий распорядился. С утра принесли печеной картошки и даже сыру кусок.
— Говорят, он тебя навестил? О чем говорили?
— Ерунду какую-то нес, я заснул. Мне гораздо важней знать, о чем вы с ним говорили. Он тебя хвалил, говорил — образцовая невеста.
— Да, знаешь, я сыграла ему такую монашку! Я уверена, что он назавтра выпустит тебя. Сколько я успела понять, у него принцип — ни один закон не должен действовать дольше суток, иначе население привыкает. Очень возможно, что завтра ты уже будешь премьером.
— Или он повесит меня на базарной площади, чтобы народ не успел закоснеть.
— Ты отлично знаешь, что он этого не сделает. А если и попробует — я ему не позволю: у Зуева есть ружье, только никому ни слова.
— Ты стрелять-то умеешь? Она перекусила нитку.
— Дай Бог тебе так стрелять.
— Где выучилась?
— Этому, Ять, не учат, это, Ять, врожденный талант. Ешь, пожалуйста. Зря, что ли, я обольщала татар?
Ять отломил кусок лепешки, обмакнул в мед и жадно проглотил. Голод проснулся мгновенно. За лепешкой с медом последовал кусок мяса, горсть маслин, два куска сухого соленого сыра («Ты слышала, что греки делали паштет из такого сыра, меда и чеснока?» — «Ах, радость моя, чеснока-то я и не купила!»), все это он запил стаканом ледяной воды, налил полстакана самогона («Тоже татары?» — «Нет, это уж из запасов Пастилаки, но не думай, пожалуйста, он совершенно бескорыстен, взял только гитару»), залпом выпил и мгновенно осоловел.
— Танька, Господи… как же ты теперь без гитары?
— Уверяю тебя, гитара вернется.
— Но почему ты ничего не ешь?
— Только самоубийцы да узники едят по ночам. Ты же не хочешь, чтобы к тридцати я стала похожа на матрешку? Не волнуйся, мы утром чудесно позавтракаем вместе.
— Странно, — сказал Ять. — Странно все. Он встал и подошел к окну.
— Странно, но ведь хорошо? — спросила она с новой, тревожно-заботливой интонацией.
— Конечно, хорошо, — уверенно ответил он. — Лучше, чем может быть. Это и странно. Понимаешь, совсем вне времени…
— Да, да. Серьезно. Как на маяке. Серое море, и маяк… и на нем мы.
— У Тютчева я больше всего люблю одну строку: «Как океан объемлет шар земной…» Мне, собственно, дальше и не надо ничего знать, наверняка какое-то умозрение, — совсем не помню. Но вот одна строчка — причем, заметь, обязательно неправильная — у него всегда волшебна. Ведь так нельзя сказать, что океан объемлет шар земной. Он объемлет куски суши, но благодаря неправильности получается прямо картина звездного океана, который окружает землю со всех сторон. И океан делается какой-то предвечный, — знаешь, я о таком и мечтал всегда: в нем нет людей, земля еще необитаема, — так, водоросли и какие-то страшные первообразы, морские гады…
— Но люди должны быть. Так что это уже не предвечный океан, а то, что будет после всего. Нас двое осталось, и мы на маяке: иногда я выхожу приманивать этих гадов морских, и ты с ужасом смотришь, как они повинуются мне…
— Выносят тебе жемчуг.
— Да, да, конечно! И ты дико меня к ним ревнуешь.
— Нет, после всего — это слишком грустно. Мне именно нравится, что этот океан — водный, звездный — еще и обещание всего. В нем и так есть уже все…
— В феврале я чувствовала себя тут, как в конце времен, — сказала она, откладывая шитье. — Посмотри, почти незаметно: художественная работа! Просто удивительно, до чего я все умею. С вас, барин, полтинник. В феврале тут хуже всего: кажется, любой питерский холод не так тяжело перенести, как здешний ветер. Чувство, будто никогда уже не остановится — так и будет дуть, дуть, выть, выть…
— Почему ты не уехала в Питер, Таня? — Он впервые спрашивал ее об этом и боялся услышать невыносимое, мучительное, с чем нельзя будет жить. Таня вздохнула.
— Сначала думала пересидеть до ноября, — скучным голосом сказала она. — Тепло и почти сытно. Потом пришли новости про эти дела, которые все вдобавок называли по-разному: я и теперь не очень понимаю, что там произошло.
— Утешься, никто не понимает.
— Вот, а там декабрь — пошли перебои с поездами, ужасные слухи о голоде, о том, что царь убит… И потом, я знала, что будет какой-то толчок и вытолкнет меня отсюда. Может быть, ты приедешь.
— Не говори только, что ты этого ждала.
— Конечно, ждала. Чего же еще мне было ждать.
— Таня, я ведь все равно спрошу, с кем ты была тут.
— Конечно, спросишь. Ты ужасно одинаковый. Тебе всегда будет недостаточно того, что сейчас я с тобой. И всего этого тебе будет мало, — она обвела взглядом комнату, — и этой ночи мало…
— Ах, да Бог с ним со всем, — сказал он, чтобы успокоить ее. — Но ты поедешь со мной обратно?.
— Конечно, поеду. — Она словно удивлялась, как об этом можно было спрашивать вообще, но эта-то пылкость и показалась ему наигранной.
— Не поедешь, я знаю, — подначил он.
— Ну не здесь же оставаться. — Таня пожала плечами. — Конечно, уедем. Я уехала бы к тебе и раньше, если бы только была уверена, что ты не оттолкнешь меня.
— Честно тебе сказать, я и сам бы не уехал, — произнес Ять, закуривая и всматриваясь в темноту за окном. Собаки снова подняли перебрех по всему Гурзуфу. — Что там делать? Здесь действительно дырка в другой мир, ни пространства, ни времени, и все нищи, и у всех все есть — еда берется ниоткуда, уж подлинно Господь посылает… Бегают какие-то милые чудаки вроде Зуева или Свинецкого… Возвращаться не хочется, право. Там такая скука теперь и настолько невозможно разговаривать с людьми — все упирается в керосин, в карточки и в несчастный вопрос, за кого я. А за кого быть, когда там петля, тут удавка… Остались, пожалуй, два человека, ради которых стоило бы вернуться, — старый да малый, и обоих ты, кажется, не знаешь.
— Может быть, и знаю. А кто?
— Один — Клингенмайер, собиратель древностей, а в сущности, старьевщик. С ним я любил разговаривать, потому что он кое-что понимал… А про второго даже я почти ничего не знаю, знаю только, что я перед ним ужасно виноват. И он рассказал ей про мальчика.
— Ять! Мы найдем его, непременно найдем и возьмем к себе!
— У него есть родители.
— Если есть — отведем к родителям. Но скажи на милость, чем же ты виноват? Привел к себе, накормил…
— Мало накормить, надо было уследить. Впрочем, вряд ли тебе все это интересно.
— Ять! — Она вскочила, подошла и спрятала лицо у него на груди. — Отчего ты злишься? Что я не так сделала?
— Все так, я просто понимаю иногда, что нам опять придется куда-то деваться друг от друга. Это ветер.
— Господи! — Она подняла на него сердитые круглые глаза. — Нет такой идиллии, среди которой тебе вдруг не стало бы тошно.
— Это точно, — кивнул он. — За это-то меня все и упраздняют. Кто ни придет, тот и гонит из азбуки. Вся надежда на Свинецкого: его бы воля — он ввел бы двадцать ятей и за ошибки арестовывал, чтобы вырастить когорту настоящих борцов. Одна беда — когда эти борцы победят, они вообще отменят письменность.
— Да выпустит он тебя, что ты все о нем думаешь!
— Нет, знаешь, его я совсем не боюсь. Как ни странно. — Ять сел на диван, Таня легла и положила голову ему на колени. — На опасность у меня чутье с рождения, а он не опасен. Могу на него злиться, могу смеяться — но чувствую, что он не сила. Такая же лишняя буква, как и я.
— А кого боишься?
— Здесь — никого. — Он гладил ее теплые темные волосы, зарывался в них руками и готов был сидеть так бесконечно. — А в Питере есть кого бояться, и именно поэтому так смешны мне все эти споры — в сущности, между своими. Ведь и среди большевиков полно своих, с которыми вполне можно разговаривать; и среди интеллигенции довольно хамья… Один такой барин жил и на Елагином до раскола — действительно барин, белый, холеный, но удивительно ловкий на всякую работу и страшно приверженный сильной власти.
— Я тоже ловка на всякую работу.
— Ты другая. А впрочем, и в тебе кое-что пугает меня. Ты была бы своей при всех, со всеми.
— Да, но при этом ничьей. Не забывай, пожалуйста.
— Это-то меня и утешает. Так вот, они ссорятся, выясняют отношения, марают друг друга, как только могут, — а те, кого действительно надо бояться, выжидают только момента, когда им можно будет вылезти наружу. Этих я действительно боюсь — потому что для нас еще есть запреты, а для них нет.
— Да разве в запретах все дело? Ты их сам ненавидишь.
— Не в запретах, Боже мой, а… как бы сказать? В бессмысленных условностях, по которым только и узнаешь своего. Без этих условностей, этих своих — я сам уже иногда не знаю, есть ли я на свете или меня вправду упразднили вместе с буквой… Дело даже не в пресловутой вежливости или обращениях на «вы»: простонародье как раз очень вежливо, соблюдает этикет, салфет вашей милости… Я знаю, как извозчики в своей среде презирают того, кто грязнее прочих, или того, кто не выучился господской речи… Как же-с, оченно понимают! Нет, мы скорее как те зуевские альмеки, которые и сами не скажут, зачем все это проделывают. Просто их жизнь оплетена паутиной сложнейших взаимодействий с миром. Не знаю даже, как сказать…
— Ах, что ты объясняешь так долго! Я все это знаю тысячу лет. Почему в детстве иногда кажется, что надо сейчас же открыть окно, или прикоснуться к столу, или переставить стул?
— Да, вроде этого. Некоторые всю религию выводят из таких предчувствий. И знаешь, я помню день, когда тебя встретил: ведь я мог не пойти туда, не хотел — но был какой-то уголек, тлел, тлел и не давал сидеть дома…
— Да. И еще, знаешь, меня очень утешила история, когда некто собирался ехать к другу, но вдруг почему-то, уже в трамвае, почувствовал сильнейшее желание вернуться домой и поменять местами две книги на полке. Зачем, с какой стати? Но он вернулся, пешком пошел домой, переставил эти книги — и тут узнал, что в доме друга внезапно обрушился потолок, как раз в столовой, где они наверняка были бы в эту минуту!
— Ну, это совпадение: может, ему каждый день хотелось вернуться и переставить книги, а один раз это спасло…
— Скорее всего. Но я точно знаю, что слышу какие-то струны. Они словно проходят через меня.
— И грамотность, кстати, той же природы. Я сам чувствую, что, ставя «а» вместо «о», нарушаю что-то в самой ткани мира…
— Ты засыпаешь?
— Нет, просто успокоился. Я всегда успокаиваюсь, когда ты у меня в руках.
— Господи, как мало тебе нужно. Я сошью себе поводок. Надеюсь, в уборную ты меня отпустишь?
— Да, но ненадолго. И спать, скорее спать.
Как ни ужасно в этом признаться, но сны, которые снились ему во всякую ночь с Таней, были не похожи на обычные, заставлявшие Ятя смеяться. Он бывал удивительно счастлив во сне, но только не с ней. С ней все было слишком прекрасно наяву — и потому ночами его не покидало ощущение свершившегося предательства, рокового упущения. Может быть, дело было именно в том, что он не привык к счастью и все время чувствовал себя смутно виноватым за него, — но почти каждую ночь, когда они были вместе, короткий обморочный сон нес ему тоску и тревогу, и Ять просыпался, не чувствуя ни облегчения, ни отдыха. Так и теперь, едва она затихла рядом, спиной к нему, поджав колени почти к подбородку, свернувшись, как зародыш, — он оборвался в такой же тревожный сон.
Во сне он жил здесь, в Крыму, в Гурзуфе, со своим мальчиком, неуловимо похожим на Петечку: это был их собственный сын, сын от Тани, но Таня, как почти всегда в его снах, отсутствовала. Она никогда не снилась ему, и в этом было особенное, деликатное милосердие, за которое он в годы разрыва был благодарен и ей, и силам, ее пославшим. Тани не было, но мальчик был ее, с теми же мягкими черными волосами и круглыми глазами, — мальчик ласковый, нежный, любящий его бесконечно. Ему было лет восемь. Они шли в горный хвойный лес, вроде того, через который он проходил на перевале, — только не в пример более густой и рыжий, осенний. То ли по грибы (он помнил, что в Крыму грибной сезон начинается осенью), то ли попросту гулять, дышать хвоей, — и, как всегда (не только во сне), из самого его страха родилось несчастье. Он знал, что заблудится, что до сих пор плохо знаком с этими местами, — и точно, еще минуту назад за деревьями виднелся поселок, а сейчас вокруг во все стороны был рыжий хвойный лес, и в самой рыжине его было что-то болезненное: не могла теплая, ранняя еще осень так густо выстлать землю сосновыми иглами, так побить холодом кедры. Это был больной лес и больное пространство, из которого надо было любой ценой вернуться в прежнюю, уютную жизнь, — но он и сам не помнил, где и как пересек границу. Задыхаясь, он бормотал какую-то ерунду, чтобы мальчик не почувствовал его страха. Это был пугливый, домашний мальчик, ему мгновенно передавались все чувства Ятя, но он еще не плакал, крепился. Во все стороны было одно и то же — гора, хвоя; спуститься к морю, подумал Ять, там-то уж вдоль берега вернемся, — но и вниз пути не было, ибо склон вдруг обрывался. От обрыва Ять торопливо пошел вверх, таща за собой мальчика, — но вдруг испугался его молчания: он не жаловался, не спрашивал, когда же они наконец выйдут, вообще был подозрительно тих; Ять присел перед ним на корточки, заглянул ему в лицо — и понял, что случилось самое худшее, то, чего он боялся с самого начала. Это все еще был его сын, но уже начавший неуловимо меняться: глаза его прямо глядели в глаза Ятя, но в лице, во всем облике проступало что-то звериное, зверье, и всего ужасней было то, что с самого его рождения Ять об этом подспудно догадывался. В самой его тихой ласковости, кротости, понятливости было обещание грядущих перемен и бед, ловушка, обман доверия; теперь, выждав час, когда Ятю неоткуда ждать помощи, он на глазах развоплощался. Зверь — это было бы еще не так страшно; он оставался человеком, но из него уже торчал нелюдь, одновременно жалобный и безжалостный. Черты его лица словно обтекали, плавились, приобретали жалкое, просительное выражение, но все это была ложь — он готовился к прыжку, собирался укусить, вцепиться в глотку, и все это с тоской и страхом в круглых черных глазах; кожа его становилась желтой, шафрановой. Он скривил рот, чтобы заплакать (может быть, так плакала подлинная, еще живая его сущность, неотвратимо побеждаемая зверем), — но вместо тихого, скулящего плача Ять услышал гортанный пронзительный крик — визг затравленной, долго скрываемой радости; в следующую секунду маленькое визжащее существо прыгнуло прямо на него, и он очнулся, вскочив на кровати и задыхаясь. С улицы доносился тот же гортанный крик. Таня стояла у окна, накинув его пальто. Было уже довольно светло. Ять натянул кальсоны и подошел к окну.
— Что такое? — спросил он, еле ворочая языком.
— Кажется, татары пришли, — весело улыбаясь, ответила она.
Вниз по улочке удалялся верхом на коне кудрявый толстяк, во все горло распевавший отлично поставленным тенором хищную татарскую песню. Он с удивительным искусством, словно вырос в степях, клекотал, заливался, выделывал горлом замысловатые коленца; песня его полнилась звериным, степным восторгом бытия. Ять узнал его черные кудри и распахнул окно.
— Маринелли! — крикнул он во весь голос.
Толстяк подпрыгнул на лошади и остановился, потом развернул свою кобылу и устремился назад.
— Друг мой! — кричал он на всех европейских языках. — Единственный друг мой! Я знал, что увижу вас! Как вы здесь очутились? Я расспрашивал, я расспрашивал всех!
— Я арестован, — по-английски объяснил ему Ять.
— Недурная охранница! — заметил Маринелли, оглядывая Таню.
— Отпустили к невесте только на ночь. Сейчас я должен вернуться, потому что поклялся.
— Вы никуда не должны возвращаться, вы совершенно свободны! — кричал Маринелли. — Власть взята татарами, the tartars, tartarians, barbarians from the hell! Ваш диктатор бежал. Город принадлежит татарскому правительству, я песнями поднимаю дух войска. Спускайтесь ко мне, захватите прелестную спутницу! Сейчас на базаре будет пир.
— Тут внизу был мой охранник, guard, — вспомнил Ять. — Он жив, надеюсь?
— Он заботится о своем guard! — захохотал Маринелли. — Все оборванцы и авантюристы бежали, город принадлежит нам. Спускайтесь же быстрей, я расскажу вам мою удивительную историю!
— Я говорила тебе! — глядя на Ятя восторженными круглыми глазами, хохотала Таня. — Я говорила, что ты еще сегодня будешь свободен! Мы спускаемся, спускаемся! — Она выхватила из пыльной бутылки сухую розу и кинула ее Маринелли. Толстяк ловко поймал ее и комически раскланялся. Лошадь под ним едва удержалась на ногах.
По булыжному спуску в Гурзуф нестройно входили скалящиеся, переговаривающиеся по-своему, деловитые конные и пешие татары. Ять никогда не видел столько татар.
Неясности начинались с его фамилии: то ли Извольский, то ли Изборский. Представлялся неразборчиво, спросить было неудобно. Тайной было также, кто его привел, кто был к нему ближе остальных, кто пустил: мигом стал своим, перезнакомился со всеми и лез ко всем. Он был среднего роста, с длинным лицом (отчего туловище казалось коротким), с бегающими глазками; носил пенсне. Удивительно хорошо был осведомлен о научной деятельности каждого елагинца. Любому умел сказать единственно нужное слово, обольстить, попасть в тон. Поначалу не знали, как к нему относиться: ждали, переговаривались, косились на Хмелева. Хмелев явно одобрил. И Извольский стал своим.
— Публицист, — представлялся он, пробормотавши фамилию. — Знаком с вашими трудами, возмущен позорной ссылкой. И ведь они дальше пойдут! Вы слышали про резервации для детей? Ну как же, весь город говорит! Силой отторгать детей от родителей и свозить в какие-то лагеря. Тоже коммуны. Там дети из порядочных семей вместе с беспризорниками. Весь день маршировка, зубрежка из Маркса, стрелковые соревнования. Мальчики и девочки спят в одной спальне. Что вы, как можно этого не знать!
— Но как родители отдают?! — возмутилась жена Долгушова, пришедшая навестить мужа.
— А как не отдать? Вооруженное сопротивление? Сразу расстрел. Они всех рассуют по резервациям, разлучат семьи, и вы не слушайте, что они сейчас обещают не трогать интеллигенцию. С интеллигенции-то всегда и начинается. Мозг — самое хрупкое, без кислорода гибнет в три минуты. Вы не слышали? Ну как же, опыты Павлова… Они всерьез рассматривают обобществление жен, делать-то больше нечего — в экономике ни бельмеса, в политике того меньше… Весь мир глядит, рот открыв. Жен — отдельно, мужей — отдельно. Понятие дома упраздняется как таковое. Все на физические работы. Детский разврат поощряется, а взрослым будет предписано абсолютное воздержание. Первый лагерь уже строят, туда, для виду, посадят своих несогласных. Потом примутся за остальных.
Поначалу всю эту репетиловщину не воспринимали всерьез, тем более что Извольский заносился в своих фантазиях далеко; но когда слух о разгроме «своих несогласных» подтвердился (Горбунов принес «Правду», в которой изничтожали эсеров), к публицисту стали прислушиваться. Слухов в городе и впрямь ходило множество, и каждый, кто их переносил, претендовал на небывалую доверительность со стороны какого-то одного высокопоставленного, раскаявшегося и чрезвычайно болтливого большевика; говорили, что немцы уже в пути и войдут в Петроград не сегодня завтра и никакой сепаратный мир не защитит; что в Киеве всю власть взял таинственный гетман, которого погнали большевики, которых, в свою очередь, погнали анархисты — наверняка с песьими головами; более экзотических слухов не воспроизводил и Афанасий Никитин, описывая географию Индии со слов своих индийских приятелей. О, как любил Казарин эту книгу, эту сказочную, волшебную географию, ботанику и зоологию, с печальной птицей Гугук, предвещающей смерть, со всеми песьими головами и волосатыми людьми, заселяющими таинственные окраины плоского покуда мира! И как страстна, как трогательна была эта неожиданная молитва в конце — спаси меня, Господи, помилуй меня, Господи, убереги, дай мне приют от твоего бесконечного разнообразия, животного, растительного, ползущего, блеющего, блещущего, — спаси меня, Господи, помилуй, Господи… Но в восемнадцатом году в Петрограде некому было умиляться бесконечным Божьим чудесам, да и волосатые люди с песьими головами не сидели больше по окраинам мира, а посматривали из каждой подворотни. Передавали, что Одесса занята французами, которых вдруг выгнали англичане. Рассказывали, что в Германии революция, в Италии восстание, а большевики для того только взяли власть, чтобы тем вернее восстановить монархию, — но слух этот, утверждал Извольский, запустили сами большевики.
— Ленин? Еврей, — уверенно говорил публицист. — Поймите, я никоим образом не оправдываю погромов и вообще не приемлю наших жидоборцев, эти кислые щи… но задумайтесь: ведь вся верхушка — еврейчики! Конечно, я понимаю, угнетение и все прочее, хотя не так уж и угнетали… у меня множество друзей в этой среде, и все прекрасно сотрудничали в печати или имели обширную адвокатскую практику… Но положим даже, что угнетение: разве может быть случайностью такой состав правительства, в котором русских не больше четверти? А насчет Ленина лично знаю, наслышан от его же бывших товарищей. По отцу русский, и то сомнительно, по матери еврей. Вы послушайте эту картавость, а главное — посмотрите на жесты, на иудейскую убежденность в своей правоте…
— Слушайте, Илья Васильевич, — не выдержал как-то Казарин, встретив в коридоре Ловецкого. — Вы всех знаете, везде печатались. Этот Извольский, или как его, он что, в самом деле публицист?
— Точно не скажу, голубчик, — сокрушенно покачал головою Ловецкий. — Возможно, что и публицист. Этого добра знаете сколько развелось перед войной? Где-то я его определенно видел. Вертелся по редакциям или на митингах орал — но мордография мне знакома.
— По-моему, он тут не просто так, — многозначительно сказал Казарин.
— А по-моему, он идиот, и только, — кротко отвечал Ловецкий.
— Идиоты-то всех и опасней, — сквозь зубы проговорил Казарин, отходя.
На четвертый день беготни и трепотни Извольского он пошел к Хмелеву.
— Можно к вам, Николай Алексеевич?
— Входите, входите, — добродушно пригласил профессор.
Он постарел за последнее время и как-то смягчился, словно побоище на Смоленском его отрезвило; и странное дело — в этой мягкости чувствовалась большая сила, чем в желчности и ярости, кореживших его в январе.
— Вы, я знаю, простите меня, если что не так скажу, — начал Казарин, усаживаясь (он поколебался, не перекреститься ли на икону, которую Хмелев с первого дня в Елагином дворце повесил в правый угол комнаты, — но решил, что перед серьезным человеком притворяться грешно). — У меня сильные подозрения, что этот наш новый гость — провокатор.
— Не думаю, — нахмурившись, сказал Хмелев. — Провоцировать нас бессмысленно, у них других дел хватает. Что, по-вашему, в Смольном только и думают, на чем нас подловить?
— Очень возможно, — кивнул Казарин. — Они сами теперь не знают, как от нас избавиться: хотели дворец искусств, а получили очаг сопротивления. Самый лучший способ пересажать всю петроградскую интеллигенцию — это спровоцировать нас на выход из берегов.
— Да опомнитесь вы, Вячеслав Андреевич, вон Гувер в «Нашем пути» в каждом номере пишет, что их надо перевешать, — и что ж они, реагируют? Два раза закрыли, редактор поменял вывеску — и пожалуйста!
— Писать про них можно что угодно, они читать не любят. А вот заговор — прекрасный предлог, и заговор они в скором времени слепят, — твердо сказал Казарин. — Своими руками, чтобы тем вернее скомпрометировать нас. Пока мы действуем в рамках закона — убогого, неправого, несправедливого, какого угодно, — мы в своем праве. Но как только они поймают нас на заговоре, а еще лучше бы на спекуляции, — прикроют не только коммуну, это бы Бог с ним, а и всю прессу и всякое инакомыслие.
— Да с чего вы взяли, что он плетет заговор?
— Он постоянно об этом говорит. Вы послушайте его за обедом, как разглагольствует!
— Я не слушаю, я далеко сижу…
— А напрасно! Он только и повторяет: вы, первые жертвы режима… сосланные, запертые… создать оплот духовной борьбы, возглавить движение против извергов! И все это, знаете, так пылко — совершенно в духе большевиков!
— Вы что, предлагаете мне выкинуть его отсюда? — вскинул брови Хмелев. — Но какие мои полномочия?
— Чтобы указать на дверь, полномочия не нужны.
— Вот что я вам скажу, Вячеслав Андреевич, — проговорил профессор серьезно и тихо. — Время теперь такое, что закладывается все на много лет вперед. И повернуть события еще не поздно — я знаю, что говорю. Неужели вы вправду думаете, что они удержат власть? Что. Россия так вот и дастся им в руки? Погодите, будет и сопротивление, и захват Петрограда патриотически настроенной армией, и расправа над всей этой швалью. Громко ликовать не будем, тихо перевешаем. Но — перевешаем, миндальничать не станем. Так вот, пока наши не вошли в город, наше дело — расшатывать их власть изнутри: митинги, разговоры, что хотите. Мы начнем, армия поддержит.
— Вы что, всерьез в это верите? — В следующую секунду Казарин понял, что говорить этого не следовало.
— А если вы не верите, так вот вам Бог, а вот порог, — указал на икону, а потом на дверь профессор.
— Я пришел к вам, чтобы вы выставили провокатора, а вы выставляете меня, — скорбно ответил Казарин. — Впрочем, это логично…
— Нет-с, не логично, Вячеслав Андреевич. Да никто вас и не выставляет. — Хмелев устыдился своей резкости. — Я говорю только, что в решающий момент лапки складывать — грех. Я профессор, старик, половину жизни над русскими летописями просидел, а другую — над «Словом о полку». Сроду пистолета не взял в руки, ружье охотничье только и видел, что у приятеля в усадьбе, — а и то чувствую, что нельзя отсиживаться да играть в постороннего. А вам вдвойне грех, вы молодой.
— И зачем вам этот Изборский… или Извольский?
— А об Изборском в свой черед узнаете. Мне его верные люди прислали. Организатор он дельный, приведет побольше народу, выведем людей на улицы… И послушайте вы меня, голубчик… — Хмелев заглянул ему в глаза почти просительно. — Вы взрослый мужчина, вы в том возрасте, когда дело дороже слова… Видит Бог, я люблю и знаю поэзию, я никогда не жил монахом, — но как можно, чтобы весь мир заслоняли стихи да юбка? Простите, что лезу не в свое дело, но уж коли пошел такой разговор: ведь не за стихи нас будут судить, а за дела наши. Что ж, вы на суде стихи предъявите? Один-единственный шанс нам дает история — погибнем, может быть, но хоть пример подадим. На что мы, книжники, годны? Только на то, чтобы гибель наша разбудила остальных. Если и не выйдет ничего, так, может, обыватели, увидев беспримерное зверство, проклянут их поганое правление.
— Вы ненавидите декабристов, а рассуждаете, как декабрист, — улыбнулся Казарин.
— Что ж, в том-то и беда, что и у мерзавцев иногда хватает решимости… Знаете, какую мне сказку студенты из экспедиции привезли? Они много ездили — по Кижам, по Заонежью, — удивительные былины привозили. Я уж не помню в деталях, но суть была в том, что дьявол с Христом спорил: отчего, говорит, никак я над тобой верха не возьму? Ведь все могу дать — и золота сколько хочешь, и женщин, и славы, — что ж ты побеждаешь, объясни мне, пожалуйста, это чудо! Христос и говорит ему: мучеников, говорит, у тебя нет, а без мучеников мертво всякое дело. Вы вдумайтесь! Если нет мучеников — мертво дело; и ежели не хотите вы писать зайца через «ю», обобществлять детей да гадить в храмах, то без мученичества тут, никуда. И уж простите, пусть Извольский болтает что хочет: он не только болтать может.
— Да ведь он дурак, — одними губами прошептал Казарин.
— И что ж, что дурак? Во-первых, все-таки поумней Чарнолуского, а во-вторых, не боги горшки обжигают. Чтобы сопротивление поставить, только такой и нужен. Хватит, кончились игры, позаседали мы во «Всеобщей культуре», послушали Хламидку, покушали конинки. Надо дело делать, раз уж Господь так управил, что всех нас тут собрал.
— Последнее, — сказал Казарин. — Я не буду вам клясться в верности, расписываться кровью — вы знаете, что мне отступать некуда, я свой выбор сделал и останусь с вами до конца. Но погибать из-за провокатора — и провокатора грубого, тупого — мне обидно. Насколько тверды ваши гарантии, что этот человек не шпион?
— Достаточны, — посуровел Хмелев. — А что до гарантий… проститься надо с этим, Вячеслав Андреевич. Какое же мученичество, ежели гарантии. Нам и бессмертия никто не гарантировал. Кто чует в себе бессмертную душу — тот ее бережет, кто не чует — тому не докажешь.
— Благодарю вас, — сказал Казарин. — Спокойной ночи.
«Господи, как все глупо, — думал он, пробираясь со свечой по длинному коридору второго этажа. — Глупо и ложно-красиво — первый признак настоящего идиотизма. Чего ради, чего ради… Ведь я первый задохнусь, если даже цель их осуществится и вернется хмелевский идеал: удесятеренное самодержавие-православие-народность, с виселицами на площадях… И какой это обыватель пойдет на улицы после ареста тридцати старых филологов?»
Бывают дни, когда все представляется в особенно мрачном свете и лепится одно к одному; кажется, что мир сошел с ума. С таким чувством после разговора с Хмелевым подходил Казарин к своей комнате, — прекрасно зная, что срывать зло и страх на Марье нельзя, однако сильно сомневаясь, что удастся сдержаться. И сдержаться, естественно, не удалось: она сидела на ковре, принесенном из дома, и смотрела в багровый глазок их печки. При виде ее спокойно-мечтательного лица Казарин ощутил страшное одиночество: ей ли понять его смятение? Он вспомнил всю свою жизнь с ней и с небывалой ясностью понял, что и с ней он все равно один — более, чем когда-либо. Он был стар, она — молода, он болен, она здорова, она весело, почти азартно следила за тем, как рушится его мир, — и ради нее он взял на душу тягчайший грех: оставил жену! Сейчас, при виде Марьи, сидящей у печки на ковре, он испытал не привычное уже умиление, а жестокий стыд. Она была чужая, еще дальше от него, чем Ираида, и все, что пугало его, вызывало у нее смех.
— Половина первого ночи, — сказал он тихо. — Ты, я вижу, не очень-то удивлена моим отсутствием. Она пожала плечами:
— Ты сам себе хозяин.
— Могла бы хоть испугаться…
— Что от этого изменится?
— Да, ты-то женщина без предрассудков…
Слово за слово, он выдал ей по первое число. Она слушала молча, ни разу (против его ожиданий) не заплакала и все смотрела в огонь, иногда подкладывая в раскаленный печной зев сырое еловое полено. Тогда огонь принимался шипеть. Молчание ее бесило Казарина сильнее всего.
— Если хочешь, я уйду, — наконец сказала она устало.
— Нет, уйду я! — крикнул он в ответ. — Я уйду, потому что ночевать вместе после этого — страшная ложь! Подожди, за ночь я, может быть, приду в себя. Прости, если я наговорил тебе лишнего. Но я в самом деле сейчас не владею собой.
Она кивнула, удерживать не стала, и это тоже взбесило Казарина. Он хлопнул дверью, промчался по коридору и вышел в ночь, сырую и пахучую, как еловые дрова. В последний раз они гуляли вместе неделю назад. Он быстро прошел по мосту, брезгливо миновал Крестовский и очутился на Петроградской, в город они с Марьей выбирались редко — для прогулок был парк, в гостях бывали и того реже: пару раз у Стечина да трижды у Зайки. Теперь он шел по ночному Питеру в смятении и раскаянии: не надо было ссориться; если часто ругаться, она непременно уйдет. За все время знакомства мы не ссорились столько, сколько за январь, — но что поделать, совместная жизнь трудна. Удивительно, как профессора до сих пор друг друга не поубивали. По ночам все еще было холодно. Уличное электричество, само собой, отключили, и город наполнился звуками — словно только свет мешал им набрать настоящую громкость. В городе пели, кричали, звали на помощь, убегали от погони, стреляли, — Казарин отвык от такого количества звуков в своей елагинской идиллии. Он остановился посреди Зелениной и прислушался.
Казалось бы, все было на месте: ночь, весна, город, — и даже зеленый оттенок неба, словно грезящего о поре, когда зазеленеет все; и вместе с тем этот Петербург был так не похож на волшебный мир его юности, что и в саму юность верилось с трудом. Миг, когда от столицы отлетела душа, остался никем не замечен. Последняя зима была еще прекрасна — голодной легкостью всего тела, кокаиновым снежным холодом, гибельным вдохновением; но с весной все кончилось, потекло, отсырело. Петербургская весна всегда была временем тягостным и гнилым — но в болотистых ее испарениях, как в парах опия, были болезненное опьянение, темные зовы, мучительные обещания. Нынче каждый дом был только домом, подворотня — только подворотней. «А всего верней, это я постарел», — подумалось ему.
Казарин родился в чопорной, вместе гордой и уязвленной Варшаве, провинциальность которой сразу понял, едва в восемнадцать лет приехал держать экзамен в Петербургский университет. Он любил и время, которое проклинали теперь все кому не лень, — время расшатывания устоев и прилежного усвоения пороков. Казарин знал, что в обвинителях недостатка не будет — его поколению припомнят и роскошь, и праздность, и мнимое равнодушие к великим вопросам — однако был ли лучший ответ на великие вопросы, нежели все эти легкие, невесомые мальчики и девочки, так любившие пудру и сафьян, так мало любившие жизнь?
О да, они были легки — но кто упрекнет в избытке легкости фарфоровую танцовщицу из музыкальной шкатулки? Кто же не знал, что у Сонечки Голубкиной чахотка? — но как весело смеялась сама Сонечка и как светло она плакала: из-за скорой смерти, думаете вы? Дудки! стоит ли смерть наших слез, покрасневших глазок и бледности! Она плакала из-за того, что парикмахер испортил ей локоны… перекалив щипцы. Княжнин прочел письмо Спесивцевой, расхохотался, ушел в кабинет и застрелился. Инеса, чьего настоящего имени никто не помнил, пять раз клялась, что отравится от несчастной любви, и отравилась после шестой клятвы; и можно ли было желать лучшей судьбы для крошечной большеглазой девочки, вечно ходившей в черном и влюбленной в какого-то католика, монаха, которого, скорей всего, никогда не существовало? Но откуда тогда на ее похоронах взялся строгий джентльмен — тоже в черном, — ни слова ни с кем не сказавший и исчезнувший так же неожиданно, как и появился? Бедная Инеса.
Да, Бердслей, да, маскарад, да, запоздалые русские игры в галантный век — которого у нас не было, потому что какая же галантность под вечный хриплый крик терзаемого на дыбе, под щелканье бича, под азиатское гиканье Пугача и его зипунного войска! Казарин за то и любил Стечина, что в нем и его приятелях узнавал ту же легкость — только новые денди меньше улыбались; прежние выбрали гибель добровольно — новых никто ни о чем не спросил. Неприспособленность к жизни; о, эта неприспособленность к жизни! Да было бы к чему приспособляться… Деньги стоило только получать в наследство или выигрывать в карты. Прекрасны неприкаянность и беспомощность, отвратительны угрюмая земская честность, самодовольная основательность, болтовня борцов…
Тут Казарин остановился, заметив на углу Большого проспекта странную сутулую фигуру, закутанную в тряпье. Он узнал растрепанную бороду и длинные седые космы: сомнений не осталось, ночью по городу бродил издатель Булгаковский, бывший священник и неутомимый борец с пьянством. Этот пропагандист воздержанности и труда давно уже был общим посмешищем, — Казарин отлично помнил, как Княжнин принес на одно из заседаний «Клуба сумасшедших» (помилуйте, когда же это было? тринадцатый год!) брошюру «Жалость взяла». Таких учительных брошюр Булгаковский выпускал по два десятка в год, названия их помнились Казарину и по сей день: «Терзание одно», «Несчастные», «Замерз в поле» — и каждая сопровождалась уведомлением на обложке:
«Автор награжден серебряной медалью на Парижской выставке 1908 г. за брошюры с приложением световых картин из жизни людей, преданных пьянству».
Эти «преданные пьянству» произвели в клубе гомерическое действие.
«Ждет не дождется бедная жена любимого мужа, — при общем стоне зачитывал Княжнин, в одной руке держа книжонку, в другой — бокал. — Но тщетно дожидается несчастная своего голубчика: лежит он, хмельная головушка, в грязной канаве!»
Вероятно, тут следовало показать световую картину, но приобретать эти стеклянные пластины для демонстрации в волшебном фонаре Княжнин не стал то ли из лени, то ли из жадности. Не вполне было понятно, на какую аудиторию рассчитывал Булгаковский: волшебных фонарей в избах не держали, а в состоятельных семьях не читали брошюр из жизни людей, преданных пьянству. Особенно забавна была святая уверенность автора, что как только русский народ перестанет пить — тут же и разрешатся сами собою все роковые вопросы.
Булгаковский, покачиваясь то ли от ветра, то ли от слабости, стоял под мертвым фонарем и время от времени обнимал его, чтобы не свалиться. Казарин подошел, интересуясь, не нужна ли помощь, — и отшатнулся: издатель был пьян встельку.
— Да-с, — сказал Булгаковский, подняв на подошедшего Казарина жалкие глаза. — Не имею чести знать, но… Позорно слаб-с. Гибну и сознаю.
— Полно, — дружелюбно сказал Казарин. — Этому пороку я сочувствую больше прочих.
— Сочувствовать, пороку нельзя-с, — слабым, дрожащим тенорком, столь странным при его могучей поповской комплекции, произнес Булгаковский. — Сочувствие пороку широко отверзает для него двери; притворяемся человеколюбцами, а любим между тем один порок… Не ищу сострадания и не хочу оправдания. Покуда мог, противился. Но вот уже пятую ночь не имею сил удержаться, пал низко. Григорий Алексеев, наборщик, из раскаявшихся пьяниц (издатель произносил «пианиц», придавая грубому слову дополнительный музыкальный смысл), возымел жалость и своими путями достал мне спирту. Вы добрый господин, примите исповедь несчастного, погубившего свою душу.
— Нет ли у вас еще спирту? — поинтересовался Казарин.
— Нет, — посуровел Булгаковский, — но хотя бы и был, не дал бы. Губить себя — моя воля, губить другого я, и падши, не стану.
— Что же, слушаю. — Казарин был разочарован (выпить в самом деле очень хотелось), но отказать несчастному не мог. Такие ли сумасшедшие встречались ему в ночных скитаниях пятилетней давности!
— Дети, — хрипло прошептал Булгаковский.
— Какие Дети?
— Ночные дети, — еще тише проговорил он. — Перенес бы все, но здесь бездна глубже человеческого разумения. Вы не видывали?
— Нет.
— Стайками, — отрывисто пояснял издатель. — В подворотнях, в переулках. Молча. Этакие ангельские личики.
— Господи, да мало ли нищих детей! — Казарин рассмеялся с облегчением. — У Николаевского всегда отирались…
— Нет-с, это не нищие, тех я знаю-с… — Булгаковский посмотрел на него с обидой. — Тех я видел-с, и они ничего-с. Эти же набрасываются на прохожего и забивают в секунды, с жестокостью истинно зверской. В последние годы слаб стал телом, но, быть может, предостерегу. Спирт же пью единственно для угнетения страха, терзающего меня повсечасно. Ибо ежели и дети отданы диаволу, то из нас ни единый не спасется.