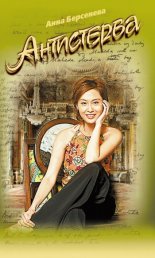Эвакуатор Быков Дмитрий
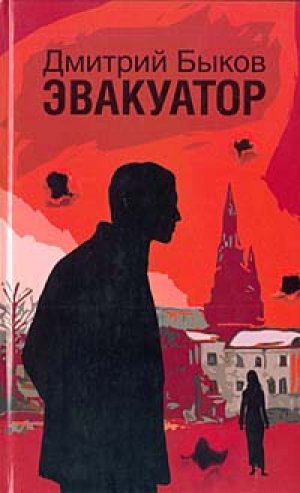
– Почему без профессии? Рисовать будешь. Ты очень прилично рисуешь, кстати. У нас графические редакторы немножко другие, но освоишься.
– А что, журнал «Офис» у вас тоже есть?
– Нет, Кракатук миловал. А ты не мыслишь жизни без журнала «Офис»?
– Что ты, что ты. Нам, татарам, совершенно без разницы. Лишь бы не даром барласкун есть.
– Это можешь быть уверена. У нас лишних нет. Может, мы еще немножко поспим, а?
– Ну погоди, Игорь, – заныла она. – Мне уже почти спокойно. Поговори еще, что ли. Я уже почти поверила, что мне там будет хорошо.
– Обязательно, – сказал он. – Тебя и учить нечему, ты со мной два месяца, привыкла, наверное.
– Что да, то да. Я только боюсь, что ты там будешь другой.
– Самую малость. Для тебя всегда буду, какой захочешь. Какой скажешь, такой и буду. У нас же там это запросто. Люди любую форму принимают, нас учат специально. Почти все умеют, и ты научишься.
– Ой! Прими, пожалуйста, какую-нибудь форму!
– Шиш. Я и так сейчас в форме землянина. Знаешь, сколько мне потом обратно превращаться? – Он взглянул на свои светящиеся часы, которые с вечера положил на мраморную полку желтого торшера. – Месяц, не меньше, пока совсем трансформируюсь. В земных условиях очень трудно. Ничего, я тебе там покажу. Я столько трансформаций умею – ты удивишься! Вплоть до страуса. Только у нас называется иначе.
– Стрыус?
– Ырфлан, – надменно пояснил Игорь. – Все, все тебе там покажу. А теперь давай спать, пожалуйста, а?
– Давай, давай. Я пока сказку придумаю, а утром тебе расскажу.
– Да, – сказал он сквозь зевок, – это чудесно, ужасно чудесно. Только помни, что это уже не сказка.
– Я помню, – сказала Катька.
VI
Катька сидела напротив мужа и с чувством горькой вины жевала сосиски. Он их добыл с боем, продежурив у магазина с пяти утра. Всякий бодрствует по-своему. Любовь несправедлива. Никто и не обещал, что будет справедливо. Если бы Игорь порезал палец, Катька рванулась бы к нему через всю Москву, а если бы наш муж, не дай бог, чем-нибудь серьезно заболел – ну, тоже бы рванулась, вероятно, но в полной уверенности, что он симулирует и что бежать никуда не надо.
Сереженька с тоскливым умилением наблюдал, как она ест. Видно было, что на этот раз в качестве наказания за долгую отлучку приготовлена пытка кротостью.
– Сергей, – сказала Катька. – А если бы у тебя была возможность взять отсюда пять человек, ты кого бы взял?
– Куда?
– Неважно куда. Считай, в Штаты, или на Землю Санникова. В хорошее место.
– Нет, это серьезная разница. Если в Штаты – одних, на Землю Санникова – других. Тем более что ее нету.
– Но если бы была! – Наш муж был ужасен именно неумением прямо отвечать на вопрос.
– Тебя взял бы, – сказал он с нежностью.
– Спасибо. А еще?
– Еще… – Он поскреб бороду. Катька глядела на него невинными круглыми глазами и ждала. – Мать, само собой. Хотя она бы не поехала никуда. Столько раз можно было, а она не хочет. Говорит, мануальщики там не нужны.
– А еще? Может, Витю Серова? – Витя Серов был наш друг, в точности соответствующий своей фамилии; наш муж не любил окружать себя яркими людьми, предпочитая тех, кто ни в чем не состоялся. Витя много пил и увлекался астрологией, составлял гороскопы всем желающим, из гороскопов никогда ничего нельзя было понять.
– Зачем Витя? – Сереженька кисло улыбнулся. – Он и в Штатах будет говорить, что это не его место.
– Что ж ты с ним никак расстаться не можешь, если все про него понимаешь?
– Да у него и так никого нет…
Ну разумеется: Сереженьке необходимо было ощущать себя благодетелем. Это не ему нужен был Витя Серов – чтобы уважать себя от нуля и даже от минуса, а Витя Серов, значит, нуждался в единственном друге.
– А больше бы никого, пожалуй. А, вру. Щербакова взял бы.
– Типа национальное достояние?
– Ага. Больше тут брать некого.
– Щербаков в случае чего раньше тебя уедет.
Почему наш муж любил Щербакова, было вовсе уж непонятно; наверное, он не отличался в этом смысле от основной массы его противноватых поклонников, находивших в Щербакове источник умилительного самодовольства. Через него они приобщались к чему-то необыкновенно умному, хотя чего там было умного? – перекисший советский романтизм с множеством заморских слов…
– А! Веллера бы взял, пусть байки рассказывает.
Да, Веллер ему нравился, Веллером была заставлена целая полка – идеальный писатель для альпинистов, алкоголиков, компьютерщиков и прочих неудачников; ведь и их разговоры состояли либо из монотонных баек про то, как лейтенант утопил в очке документ и полдня доставал его, либо из невыносимой банальщины на тему «смысл жизни». Веллер попадал в эту таргет-категорию с меткостью самонаводящейся ракеты. Катька представила Веллера в ракете: он с первой секунды начал бы учить Игоря правильно ею управлять. К чертям Веллера, ему и тут ничего не сделается. Придут оккупанты – научит их оккупировать.
Голова ее со вчерашнего утра работала лихорадочно, упорно, маниакально, – она понимала теперь, что такое сознание сумасшедшего. В нем не остается места ни для чего, кроме сверхидеи, все зациклено на ней: в сущности, норма – это и есть разнообразие, способность переключаться с одного на другое. С ума сходит всякий, кто ждет опоздавшего ребенка, всякий, кто прислушивается к боли, оскорбленный, приговоренный, реже влюбленный – нет более противоестественного и гнусного состояния, чем сосредоточенность на единственной, раскаленной болевой точке. Она перебирала самые абсурдные варианты – спасти первых попавшихся, выкрасть младенцев, пойти в детский дом, расположенный поблизости, и забрать оттуда самых несчастных (кто отдаст?!). Отчаявшись определить критерий несчастности, она додумалась до страшного – несчастные и здесь-то были никому не нужны, стоило тащить их на Альфу Козерога! Хуже всего тут было самым ненужным, словно местный Кракатук – в которого Катька не верила по-настоящему только потому, что не могла его себе представить, – заранее все предусмотрел: для всех полезных людей были варианты спасения, а дураков и слабаков безжалостно отбраковывали. Больше всего болели и хуже всего устраивались те, кому нечем было жить; исключения оказывались единичны. Жить с этой мыслью было нельзя, Катька гнала ее – но всякий раз у нее выходило, что и вся жизнь – одна огромная эвакуация, при которой в будущее попадают только мало-мальски достойные, а больные и неуклюжие гниют на обочинах. Оставалось понять критерий отбора – не талант же, в конце концов! Выходило, что местному Кракатуку для каких-то его тайных целей нужны только те, кто сознает свою значимость, служители бессмысленных идей, жрецы жестоких культов, – спасались зацикленные на своем деле, оголтелые карьеристы, отчаявшиеся одиночки, а любой, кто оглядывался на отставших или протягивал им руку, сам безнадежно отставал, пополняя собою их ряды. Оставалось утешаться, что на земле действует обратный критерий отбора, что отставших отсеивают лишь для того, чтобы быстрее эвакуировать в рай, а выжившие так и будут тупо, упорно, неостановимо брести к выдуманной цели, прямиком в объятия дьявола, – но было слишком очевидно, что эту сказку придумали отставшие, нуждающиеся хоть в каком-то обосновании участи. Катька всегда догадывалась, что главный, Верховный Кракатук, в подчинении у которого находился и ее собственный, маленький, слабый бог – другого она не могла любить, а без любви какая же вера, – преследует одну цель: отобрать сильных, решительных и равных ему по части пренебрежения милосердием. Ее же собственное божество, подчиненный, зажатый бесчисленными проверками и идиотскими уставами эвакуатор, только и мог упрятать в безопасное место нескольких самых слабых, и тут критерий был ясен – Катька отлично знала, по какому принципу он их отбирал. Дело было не в несчастности, болезни или иной ущербности, а в том, с какой кроткой бодростью, с каким безыскусным весельем они всё переносили, даже, кажется, и не допуская самой мысли об иной участи; этот верховный эвакуатор оберегал и припрятывал только тех, кто, даже будучи выгнан отовсюду, заклепан во узы, сослан в адские области, умудрялся смеяться немудрящей шутке, подбадривать соседа и выдумывать утешительные истории для испуганного ребенка. Мир для таких людей был тем же, чем для Серой Шейки неуклонно сужающаяся полынья. Такой человек в ее биографии был один, и только его хотела она забрать: брянская бабушка, которая ее, по сути, и воспитывала.
Бабушкин дом стоял на окраине города, он был деревянный, двухэтажный и чрезвычайно загадочный. Загадочен был его чердак, хранивший множество тайн, загадочен погреб с его неисчерпаемыми запасами, не менее таинственны были ночные шорохи, поскрипывания, попискивания мебели и половиц; Катька в жизни не видела более одушевленного жилища. Все вещи были с историей, все соседи – с секретом, каждого хотелось расспросить, за каждым проследить, ибо казалось, что стоит им выйти за порог – они вернутся в свой истинный облик, превратятся в доброжелательных и смешных языческих божеств, в мелкую лесную нечисть. Бабушка ими командовала. Сосед справа был явно леший, соседка слева – несомненная кикимора или, быть может, шишига (Катька их путала). Вечерами они сходились к бабушке смотреть телевизор или играть в лото. Лото было древнее, с потемневшими круглыми бочонками, с желтыми карточками, похожими на старинные кредитные билеты, которые Катька видела на витрине краеведческого музея. Смысла игры Катька не понимала, ей казалось, что это только внешнее, маскировочное – на самом же деле в том, чтобы закрывать цифры на карточках медными монетами, был особенный смысл, чуть ли не поддержание порядка в здешних лесах и болотах, которыми владели собравшиеся. Одну карточку закрыли – и в безопасности березняк, другую – и ничего не сделается с рекой Десной.
Бабушка, в общем, ее и растила – если понимать под этим словом не повседневную заботу, принудительное кормление и нудное проверяние уроков, а то единственное, без чего все остальное теряет смысл: влияние. Несмотря на все несходства (бабушка была рослая и светловолосая, до сих пор не совсем поседевшая, а Катька маленькая и черная), характером и вкусами Катька пошла в нее. Обе предпочитали крыжовенное варенье всякому другому, любили картошку с маслом, редиску, суп из тушенки с лапшой – баранину же и копченую рыбу терпеть не могли. Была и другая бабушка, по материнской линии, но ее Катька видела только однажды и родственницей не считала. Она жила в Сибири и даже писала редко. После родительского отъезда (бабушку даже не уговаривали, зная ее упрямство и привязанность к дому) у Катьки в России почти не осталось родни. Все представление о родине свелось к дому на брянской окраине, и больше, по сути, жалеть тут было не о ком. Мысль о бабушке всегда успокаивала Катьку – успокоила и сейчас; конечно, она откажется ехать, конечно, до Брянска паника еще не докатилась, – но теперь уже от Катьки зависело найти слова, чтобы уговорить бабушку. Правда, не совсем понятно было, что случится с Брянском, но, судя по тому, что уже после их с Игорем поездки в Тарасовку вдруг ни с того ни с сего взорвались три дома на окраине Воронежа, враг не собирался ограничиваться Москвой.
А куда я ее везу, в лейке, с новым для нее и непонятным ей человеком? Где гарантия, что мы вообще долетим? Никакой гарантии, одна радость, что мы будем вместе. А как мы до этого жили врозь, обмениваясь редкими звонками и письмами? Последний раз я ездила к бабушке прошлым летом, и то ненадолго. Никаким эвакуатором еще и не пахло, да и никаким концом света тоже. Впрочем, пахло, только в Брянске этот запах, преследовавший меня в Москве, никогда не чувствовался. Его забивал запах антоновки в погребе, левкоев, маков и табака во дворе, сухих трав на кухне. Мой дом был тут с самого начала. Когда сюда приходили родители, они, казалось, были чужими, рушили то, что было между мной и бабушкой. Они вносили сюда веянье мира, в котором мне никогда не было хорошо. Меня у бабушки любили все – кот, дом, соседи, и не за то, что я внучка: прав эвакуатор, никакое родство ни к кому не располагает само по себе. Не в нем дело. Просто я была отсюда, из этого древнего полуязыческого мира, в котором все договаривались с кадкой, землей, забором, погодой – жили в непрерывном дружественном сговоре, а как этот сговор разрушился, так и появилось предчувствие беды. У бабушки мне всегда было спокойно, больше чем спокойно – с ее миром я могла договориться. Пошепчешь – и пройдет. Попросишь – и дастся. У русских была какая-то своя вера, но они ее предали, и брошенный ими маленький бог, не держащий на них зла, теперь страшно ограничен в возможностях: он может помочь только от сих до сих. Мы отдали себя во власть иных, чуждых божеств, с которыми договариваться бесполезно. Теперь они нас уничтожают, а тихие, малые боги наших лесов и болот следят за этим с беспомощным ужасом. Но по крайней мере бабушку, богиню брянской окраины, я отсюда вытащу.
Оставалось четыре дня. Мужа она решила предупредить в последний момент – свекровь, естественно, упрется, но тут уж как-нибудь. Оставалось два места, но о них Катька предпочитала не думать. Подруга Лида? – я здесь-то через два часа не знаю, о чем с ней говорить. Посмотрим. В крайнем случае схватим первых попавшихся. Она до такой степени была поглощена этим противоестественным отбором, что уже почти не думала о том, врет Игорь или нет, взлетит или не взлетит его лейка, – последний шанс есть последний шанс, и о нем лучше не задумываться. Недвижимость в Москве стремительно упала в цене, билеты за границу раскупили на полгода вперед, поезда брали штурмом, срок ультиматума истекал, а Шамиль ежедневно слал письма, нигде не публиковавшиеся, но вполне доступные в Сети: до гибели вавилонской блудницы осталось шесть… пять… четыре дня, и воинам великого джихада смешна самонадеянность беглецов: клеймо свое они уносят на себе.
Надо было ехать в Брянск. У Катьки не было надежды взять билет на поезд – с Киевского вокзала беспрерывно отходили автобусы: рейсовые отправляли междугородными маршрутами. Единственным городским транспортом остался троллейбус: метро закрылось во избежание массовой гибели пассажиров в час пик. Доехать до Брянска в автобусе киевского направления стоило порядка полутора тысяч – цена фантастическая, но и она росла с каждым днем. Мужу Катька ничего не объясняла.
– Переждите как-нибудь с Подушей. Я послезавтра вернусь совершенно точно. Бабушке надо помочь.
– Никуда ты не поедешь, – вяло сказал Сереженька.
– Сережа, я поеду. Я не знаю, как она там.
– Кать, сейчас не то время. Ты не можешь… ну что это такое, в конце концов! Мы должны думать, куда из города бежать…
– Сережа, – сказала Катька абсолютно спокойно. Она умела с ним быть спокойной, всегда чувствуя свою силу на фоне его слабости. – Я тебе говорю совершенно точно: через пять дней мы все уедем отсюда.
– Кто нас увезет?
– Работа моя увезет. «Офис» принадлежит «Дельте», она увозит всех сотрудников с семьями. Здесь у меня твердая гарантия, можешь не сомневаться.
– А мать мою кто возьмет?
– И мать я возьму.
– И куда?
– Понятия не имею. Нам ничего не говорят. Я знаю только, что мы уедем. Пойми, я не могу бросить бабушку просто так. Она меня вырастила, я ее, может, не увижу больше никогда…
– И что мне думать, если тебя не будет послезавтра?
– Я в любом случае буду все время звонить.
Надо было увидеться с Игорем – без этого она уже не могла, он один вселял в нее уверенность и надежду, да и надо же было рассказать ему насчет бабушки, чтобы хоть не сходил с ума, когда она уедет в Брянск. Мобильная связь работает все хуже, вдруг я оттуда не сумею с ним связаться… Игорь ждал ее возле ВДНХ. Выглядел он неважно, бледно, а главное – она никогда еще не видела его таким неуверенным.
– У тебя чего-нибудь не так?
– Нет, все так. Связи только давно не было, – сказал он, гладя Катьку по голове.
– Ну и что это может значить?
– Да все что угодно. Может, уже началась большая эвакуация, наши берут ваших, хлопоты, размещение… В Штатах – слыхала? Ждут, что воду отравят. В Чикаго вон отравили уже.
– Ваших там много?
– Да как везде. Я же всю сеть не знаю. Но что связи нет – это погано. Я все боюсь, что уругус…
– А с чего он вообще может быть, этот уругус? Что там у вас, в благополучном месте, могло случиться?
– Нет, у нас точно ничего не могло. Это как-то связано с нашей службой, с эвакуаторской… Ну не знаю я, Кать, честное слово. Меня просто тревожит, что почты давно нет. Я в некотором смысле вслепую работаю.
– И что ты сейчас должен делать?
– Ничего, обстановку изучать. Я донесения отправляю, а мне робот автоматически отписывает: ваше донесение принято, аккыртын.
– Что такое аккыртын?
– Форма служебной благодарности, типа спасибо за службу. Обычно хоть писали – обратите внимание на то и это. А теперь аккыртын, и будь здоров.
– Но мы летим? – тревожно спросила Катька. – Потому что иначе, сам понимаешь, мне и в Брянск незачем…
– А что ты собираешься делать в Брянске?
– Бабушку забирать.
– Ты уверена, что это нужно? Сколько ей лет?
– Семьдесят восемь, но она крепкая. Она выдержит, я тебя уверяю.
– Да нет, чего там не выдержать… Полет-то вполне комфортный. Просто – срываться с места…
– Что, лучше здесь погибнуть?
– Нет, конечно. Все ты правильно решила. Как ты ее довезешь?
– Доберемся. Триста километров, чего там. Ты меня не теряй, если я не буду звонить – значит, мобила не берет. Сейчас с этим проблемы, сам знаешь.
– Катька, Катька, – повторял он и все гладил ее по голове.
Катька испугалась: выходило, что не она в нем, а он в ней искал теперь опоры.
– Игорь, ты боишься чего-то?
– Конечно, боюсь. Боюсь, как ты поедешь. А мне с тобой нельзя – я должен быть на связи, мне за два дня до старта в Тарасовку надо. Расконсервация занимает семьдесят часов – без меня некому процесс начать. Я бы обязательно поехал с тобой, ты же знаешь. Но надо тут.
– Ой, хоть ты не будь такой кислый!
– Только, Катя, – сказал он уже обычным своим голосом, деловито и твердо. – Если вдруг, мало ли, сейчас всякое бывает… Задержалась ты там, паче чаяния, провела больше двух дней, не успеваешь… На день вполне можно опоздать, просто когда расконсервация начнется – процесс уже станет необратим. Стартовать мы должны седьмого ноября, в одиннадцать вечера ровно. Одиннадцать – оптимальное время, я проверял.
– Почему?
– Ракетчики отбиваются.
– Игорь! Я серьезно!
– А если серьезно, я все главные дела стараюсь делать в одиннадцать. Биоритм у меня такой, еще дома подсчитали. Одиннадцать у меня – пик интеллектуальной активности, стартовать очень трудно, мне вся воля понадобится. Я не летал давно, и так целыми днями тренируюсь сижу. Взлет должен сорок пять секунд занимать, а я за сорок пять едва успеваю двигатель разогреть.
– У вас что, программа тренировочная? – уважительно спросила Катька. – Типа авторалли?
– Да, только круче. Значит, самое позднее в половине двенадцатого, в красный день календаря, ты должна быть на месте – с мужем, бабушкой и кем тебе там еще хочется. Все поняла?
– Все, – кивнула Катька.
– Участок в Тарасовке найдешь?
– Игорь! Мы же вместе туда поедем!
– Вместе или не вместе, а ты учти: последние сутки я должен быть при лейке неотлучно. Там главные процессы в расконсервации пойдут. Так что из Москвы я уеду шестого. Если до шестого сюда не вернешься, сразу езжай в Тарасовку. Со всеми. Я там буду ждать. На всякий случай, если ты вдруг окажешься в Москве, а меня нет, я в своем газетном ящике, внизу, оставлю записку, как и что. Вот ключ, я тебе дубликат сделал. Мне мать всегда так оставляет, если я вернулся откуда-то, а ее дома нет.
– Где?
– Там, на Альфе.
– Хорошо. Но клянусь тебе, я послезавтра буду.
– Ладно. Только осторожней.
Он прижал ее к себе и зашептал в ухо:
– У второй двери, дитя, мне страшно, у второй двери пламя заговорило… У третьей двери, дитя, мне страшно…
– Слушай, – сказала Катька, высвобождаясь из его объятий. – Чего-то мне не нравится твое настроение.
– Оно мне самому не нравится.
– Может, ты чего-то недоговариваешь? Вдруг у тебя этот стартер не сработает, который был в чехле?
– Этот стартер всегда срабатывает, – грустно улыбнулся Игорь. – Он стопроцентный.
– Система защиты дубль пятнадцать?
– Система защиты пять и четыре. Не бери в голову, это я от любви грустный. Ведь несчастная любовь – это что? Это первый, в сущности, класс. Страдания для дураков. Настоящие страдания – это когда счастливая. Вот тогда все уже очень серьезно. Это как раз наш с тобой случай. Сразу начинаешь понимать, как все устроено…
– Купи мне мороженого, ладно?
– Сейчас. – То, что продавалось мороженое, было чудом: это, кажется, последнее, что осталось в Москве прежнего, мирного. – Фисташковых два дайте, пожалуйста…
– И чего ж будет? – испуганно спросила их добрая, широкая мороженщица. (Вот бы кого взять, но наверняка муж, дети, невестки, собаки…)
– Обойдется все, – сказал Игорь, и они, обнявшись, пошли в сторону троллейбусной остановки.
Подошел троллейбус, Игорь с трудом впихнул Катьку в средние двери – задние не открывались, машина была набита битком.
– Позвони! – крикнул он.
– Я скоро! – ответила она.
– Все мы тут скоро, – прокряхтел злобный старикан рядом.
Катька подмигнула и улыбнулась ему.
VII
– И-и, милая моя, – сказала бабушка, прихлебывая с блюдца липовый чай, пахнущий ровно так же, как и двадцать лет назад. – И в сорок первом никуда не поехала, и сейчас никуда не поеду.
Она ни на секунду не усомнилась в том, что все серьезно, и в том, что Катька действительно может ее забрать (версия была – к Катькиным родителям, в Германию); не последовало ни единого вопроса о том, чего, собственно, бояться и что вообще надвигается. Это было у них с внучкой общее – абсолютное доверие к своим: если бы Игорь сказал, что Земля сядет на Луну, Катька поверила бы безоговорочно и стала выстраивать свою стратегию, исходя из этого. Бабушка тоже отреагировала сразу, очень спокойно, и это была именно та реакция, которой следовало ожидать и бояться. Катька успела себе внушить: не упорствуй, отступи, потом начнешь сначала.
– Ладно, – легко согласилась она. – А почему?
– А потому что некуда. У меня знаешь как двоюродный брат говорил? С Колымы не убежишь.
– Ты тоже думаешь, что везде Колыма?
– А что такого особенного на Колыме? Холод только, а так – везде люди.
Катька осмотрелась, словно в поисках аргумента, – они сидели в кухне, у запотевших осенних окон, возле которых валялись сухие осы; с бельевой веревки, натянутой под самым потолком, свисали пучки трав. Бежать отсюда в самом деле было некуда и незачем. Тут царил полный, нерушимый уютный покой. Невозможно было подумать, что бабушка когда-нибудь умрет. Она не менялась, морщин не прибавлялось, речь не портилась, зубы не выпадали, она все так же легко управлялась с домом, находясь с ним в тайном союзе, и дом поддерживал ее, давал силы. Увези ее из дома – и он рухнет, и она зачахнет. Моросил дождичек, сад поник, дорожки в нем развезло. Народу на улице почти не было. Сразу за домом начинался лес – бурый, голый.
– А ты езжай, – сказала бабушка. – Хотя, если б ты меня послушала, я бы тут и мужа твоего приняла, и Польке было бы неплохо, – дом стоит, люди кругом свои, школа есть… Прижилась бы, ничего. Жила ты в Брянске, не жаловалась.
– Ты сама подумай, что будет. Если Москва погибнет, все остальное недолго протянет.
– А как это она погибнет? В сорок первом не погибла, а теперь погибнет?
– Господи, – вздохнула Катька. – Что ж такое было в сорок первом году, что вы до сих пор все им меряете? Неужели с тех пор не было ничего пострашней?
– Не было, моя сладкая, и не будет.
– Будет.
– Ну, а будет – так и нечего мне, без году восемьдесят, бегать куда-то.
– Без двух.
– Ох разница, ох разница! А чего мне сделается? Дом есть, картошка есть, яблок в этом году стока было, что и жарили, и парили, и до сих пор не съели. Новая власть будет – а какая власть? Что они с меня возьмут? Тут какая власть ни начнись – они через три года все то же самое делать будут. Мне мать рассказывала: отец все говорил – новый мир, новый мир! Трех лет не прошло, как все опять завернуло. Посади американца – он через год запьет, через два проворуется, а через три все сделает как было.
– Эти не американцы, бабушка. Эти просто всех под корень вырежут.
– Да что им старуху-то резать?
– А что им детей взрывать?
– Так ведь то еще, может, не они. То еще, может, само взрывается. Я слыхала, «Маяк» говорил: у нас к две тыщи третьему году все износится и само рушиться начнет. Ну, а оно покрепче оказалось, еще два годика поскрипело.
– И что ты будешь делать, когда все взорвется?
– А ничего не буду. Чай буду пить. Что ты приехала – это очень хорошо, спасибо тебе большое, я последнее время все скучаю, не знаю, как ты там. А ехать куда – это нет. Лучше ты давай сюда, вместе перезимуем, и не заметишь. И Сережу своего вези, он мне как раз забор подправит, а то из Михалыча теперь какой плотник? – Михалыч был сосед, завсегдатай вечерних посиделок.
– Сережа тебе так его поправит, что три Михалыча потом не разберутся.
– Мужика не ругай, – строго сказала бабушка. – Ты сама не ахти какая хозяйка, тоже мне нашлась мастерица. Я помню, как ты у меня яблоки на плите сушила.
– Бабушка! Мне было восемь лет!
– И что? Если руки не оттуда растут, то они на всю жизнь так. Твой отец в пять лет первую скамейку сколотил, она до сих пор у меня целая. И брат твой в отца, а ты не в отца. Я б тебе не то что дитя пеленать, я б тебе щи варить не дала.
– А я пеленала, и очень успешно, – обиделась Катька. – Мне и в поликлинике все говорили: какая умелая мамаша, идеально ухоженный ребенок.
– Ну, не знаю. Когда ты ее прошлый год привозила, она бледненькая была и кушала плохо.
– Мы все кушали плохо, я тоже в детстве не ела ничего. Вспомни, какой спирохетой Мишка был.
– Мишка был вылитый дед, а никакая не спирохета.
– Ну и у меня вполне сытый ребенок…
– Сытый, не сытый, а руки у тебя крюки, это я тебе точно говорю. Как ты ими рисуешь, не могу понять. Шить, вязать – все из рук валилось.
– Ну что ты хочешь, я не люблю шить.
– Люби не люби, а уметь надо.
Так они трепались за липовым чаем с пряниками, купленными в ближайшем магазине, и Катьку все сильней и глубже засасывала родная брянская жизнь, из которой, в общем, совсем необязательно было уезжать. А что, приехать сюда, захватить Игоря. Бабушка поймет. Нет Москвы – и хорошо, Москва, в конце концов, не всегда была столицей. Перенесут. Стране-то все равно ничего не сделается, Россию же нельзя захватить. Она слишком большая, ею всякий поперхнется. Но под всем этим билась мысль, что тут не захват, что тут сама Россия перестала себя выдерживать и принялась разваливаться, – поезд бегал-бегал по кругу и стал наконец терять вагоны, болты, гайки, а вот уже и топка отвалилась, и скоро на рельсах будет лежать бесформенная куча покореженного металла; нас никто не захватывает, мы сами исчерпали свой лимит, да и брянский дом скрипит, шуршит, колышется от любого ветра… Наши старики больше не спасут нас, никто и ничто не спасет; вся надежда на лейку.
– Бабушка, – сказала Катька. – Пожалуйста, поедем со мной.
– Сказала тебе, не поеду. Тебя приму, всех твоих приму, а сама никуда не поеду. У нас знаешь как: где родился, там пригодился. Деду скока раз предлагали после войны: в Выборг езжай, в Таллин езжай… Никуда не поехал, из армии уволился – майор! – и обратно в Брянск учительствовать. Что ж я теперь? Я уеду – ему и оградку никто не покрасит.
Катька отчаивалась: бабушку было не уговорить. Тут спокойно и тяжело стояла твердыня, с которой ничего не сделаешь – именно потому, что рациональных аргументов у бабушки не было. Дом, да возраст, да кот, да соседи… и наравне с домом дедова могила, которую тоже нельзя бросать, потому что и она такая же естественная часть этого дома, как кухня, чердак, погреб; чердак и погреб вместе… А если конец – то конец всему, старому человеку грех бояться конца; и Катька понимала, что здесь предел ее сил.
– Мы тут все погибнем.
– Ничего, не погибнем. В Ленинграде вон в блокаду жили, кошек ели, не погибли.
– Да пойми ты, что сейчас не то! Сейчас никто тебя не будет голодом морить, взорвут к чертовой матери – и поминай как звали!
– Ты не ругайся, не ругайся.
– Бабушка, я тебе серьезно говорю.
– Ну и я тебе серьезно говорю. Хватит, отъездилась. Мне на базар дойти трудно, а ты говоришь – за границу.
– Да от тебя ничего не потребуется! Сядем сейчас в автобус, и всех дел…
– Нет, и не говори. Что ты, Катька, как банный лист к одному месту? Ты и всегда такая была: тебе скажешь раз, скажешь два – нельзя! Нет, она канючит… Помнишь, как ты кролика просила? Каждые пять минут пищит: «Кролик! Кролик!» Мать не выдержала, купила кролика – ты через пять минут смотреть на него забыла.
– Ничего не забыла, я его кормила.
– Ты сыром его кормила, дура пустоголовая! – Бабушка засмеялась басом; голос у нее вообще был низкий, внушительный, сейчас еще и хрипловатый от недавней простуды. – Ой, прости, Господи! Сыром кролика кормила! И это еще… морковь из земли вырыла и тычет ему! На, кролик, морковь! Грязную, только с гряды, в нос прямо! Ой, Катька, не девка была, а тридцать три несчастья. А чайник на себя как вывернула?
– Я отпрыгнула, – хмуро сказала Катька.
– Отпрыгнула, а руку всю обварила! Дед скок в машину – не заводится, он пешком побежал с тобой на руках в больницу! Сколько повязок меняли, сколько потом к хирургу водили! Всё боялись, шрам будет у девочки во всю ручку, никто замуж не возьмет! Выскочила как милая. Ты зайди хоть потом к Милице Сергеевне, спасибо, скажи, Милица Сергеевна, и замужем, и удачно все! – Милицей Сергеевной звали врачиху, которая тогда в самом деле спасла Катьке руку – а впрочем, Катька ничего этого не помнила, ей было три года.
– Ну ладно, – сказала Катька. – Я пойду пройдусь.
– Чего пройдусь, гляди, дождь какой сыплет! Ложись поспи, ты же всю ночь в этом автобусе тряслась!
– Нет, нет. Погуляю, потом, может, лягу. Я в парк схожу.
– Ну иди, – бабушка встала из-за стола и принялась наводить порядок в кухне. – Дождевик надень.
Как все русские провинциальные города, Брянск отчетливо делился на две части. В центре, где жила Катька с родителями до переезда в Москву, все было похоже на московский спальный район конца шестидесятых: хрущобы, скверы, одинаковые пятиэтажные школы. Ближе к окраинам начинались старинные, деревянные купеческие улицы с двухэтажными домами, оставшимися еще от позапрошлого века, и длинными строениями времен индустриализации в стиле баракко. Катька дошла до улицы Генерала Трубникова, до пятиэтажки, в которой прожила первые семнадцать лет жизни, и не почувствовала почти ничего. Ей казалось, что она тут непременно разревется, но слез не было, и никаких чувств к этому дому тоже не было. В их квартире на втором этаже давно жили другие люди. На балконе висело и мокло под дождем чужое белье, и никто его не убирал – в Брянске царил дух кроткого упадка: трескались дороги, осыпались дома, и сопротивляться было бессмысленно. Около дома толстая некрасивая женщина в очках кричала на маленькую старуху, тоже очкастую; старуха яростно и мелко стучала палкой об асфальт, а рядом исходила визгом старая, облысевшая собака: это были соседи сверху, здравствуйте, соседи сверху. Так и выгуливаете своего пса, несмотря на дождик. Взять вас отсюда? Может быть, в дивном новом мире, на другой планете, вы полюбите друг друга наконец, мои несчастные, мои жалкие, мои прежде всего противные? Как я брезгую миром, Господи! Не моя ли брезгливость, дойдя до критической массы, погубила его наконец?!
Здесь я ходила одна, много читала, много рисовала, мучилась в школе и мечтала о большой любви, которая настигла меня наконец и теперь увозит на Альфу Козерога, как и положено большой любви. Прощайте все, мне никогда тут толком не нравилось. Я определенно родилась для того, чтобы улететь на Альфу Козерога. Прощайте, потомки каторжников, племена, приговоренные к бессрочной ссылке, – я выхожу по амнистии, мне встретился добрый эвакуатор. Я забрала бы вас всех, если бы не была столь безнадежно уверена, что вы и там себе устроите ад.
Школы Катька не любила и ничего ей не простила – потому, вероятно, что ни одна из ее школьных проблем до сих пор не исчезла, и поди теперь пойми: это в школьные годы чудесные ее научили ненавидеть себя, ждать от людей только худшего, прятать свое лучшее – или сама она с детсада, а то и с рождения была такой. Во всяком случае, школа испортила положение до полной неисправимости. Катьке сильно не повезло с классом – не во всякой роте так изобретательно и неотступно мучают человека, как мучили у них; и если взрослому коллективу довольно быстро надоедает изводить кого-то – мало ли других дел, всевозможных отвлечений, ребенок еще не в силах противиться главному соблазну: затравливанию живого существа. Если существо реагирует разнообразно – пытается хорохориться, или гордо не замечает, или отчаянно бросается на обидчика, или, наконец, жалобно рыдает, осознав свое полное бессилие, – игра приобретает дополнительную привлекательность. Приобретенный опыт оказывается бесценен для обеих сторон: мучитель безмерно изощряет чутье на потенциальную жертву и в любом коллективе немедленно выделяет ее, повышая тем самым собственный рейтинг, а страдалец понимает что-то главное про жизнь. Катьке невыносимо было слушать советские песни про школьные годы чудесные, про журавлика, кружащего над нашей школой, или про девчонку со второго этажа, или про то, из чего же сделаны наши мальчишки: песни эти напоминали ей цветы, растущие в концлагере.
Погода была самая осенняя, моросящая, в школьных окнах желтели лампы дневного света, и чахла на подоконниках та же самая герань, что и десять лет назад. Пахло мокрыми листьями, ранними невыносимыми подъемами, нервной дрожью по дороге. Катька пошла обратно. Около стадиона, на который их водили бегать во время физры, и Катька никогда не укладывалась в норматив, ей встретился человек, которого она менее всего хотела увидеть и вместе с тем именно ради этой встречи, может быть, проделала весь путь до центра. Что-то без нее было бы неполным в Катькиной решимости покинуть Землю. Под дождем выгуливала своего ребенка в коляске Катькина бывшая одноклассница Таня Колпашева.
Таня Колпашева была существом уникальным, опрокидывающим все представления о детстве и зрелости, добре и зле, уме и глупости. Непроходимая тупица по части математических и иных абстракций, перетаскиваемая из класса в класс только благодаря пробивной силе, истерикам и взяткам ее матери, красной и совершенно квадратной анестезиологини пятой горбольницы, Таня отличалась поразительной прозорливостью во всем, что касалось человеческой природы, а точней – самых омерзительных ее сторон. Катька никогда, даже и среди взрослых, в институтские и послеинститутские годы, не встречала такого цинизма. Таня была самым взрослым человеком в школе – ее ничто не могло удивить, обо всех она знала худшее, только худшего и ждала, и Катьку это странным образом с ней роднило. Чувствуя это подспудное родство, Колпашева мучила Катьку особенно изобретательно – «сделай как себе», говорит официанту опытный клиент, и Колпашева «делала как себе», то есть с полным учетом всех страхов, слабостей и надежд. Колпашева обожала говорить гадости о чужих родителях. Она издевалась над болезнями. Высшим наслаждением для нее было наблюдать чужое поражение и добавлять проигравшему. Кажется, меру своей мерзости Колпашева понимала отлично – проверяя, как долго ее, такую, будут терпеть одноклассники, учителя и небеса. Все три категории наблюдателей, видимо, ее побаивались.
Теперь Колпашева переменилась – постройнела, стала прилично одеваться и умело краситься; злоба, жрущая ее изнутри, не дала ей разбабеть и стать похожей на миллионы провинциальных теток. Теточного в ней была только вязаная шапка, из-под которой выбивались жесткие рыжие пряди. Колпашева была бы даже красива, если бы не выражение усталой брезгливости, с которым она взирала на мир, понимая, что столкновения с ней он может и не выдержать: в нем давно уже нет никакой твердыни, ткни – и развалится.
– А, – сказала Колпашева, сразу узнав Катьку. – Здорово.
Голос у нее был ленивый, сытый, почти благодушный – если бы слова «благо» и «душа» не звучали применительно к ней таким диссонансом. Так кошка говорила бы с мышкой, с которой когда-то не без удовольствия играла и которую никогда не поздно доесть. Неприятнее всего выглядела уверенность кошки, что удовольствие было обоюдным.
– Здорово, – сказала Катька по возможности ровно.
– Чего приехала-то? – лениво спросила Колпашева. – Мало мы тебя воспитывали, что ль?
Естественно было бы ждать от бывшей одноклассницы – нет, не раскаяния, конечно, слово «раскаяние» подавно не сочеталось с Колпашевой, но хоть запоздалого дружелюбия, типа как ты там, что за жизнь, ведь мы так славно веселились в давние годы… Катьку тут до сих пор не простили за что-то. Она не знала, что отвечать.
– Ну, чего молчим-то? – спросила Колпашева с неожиданной яростью. – Москвачка. Приперлась тут. То все туда бежали, а как там прижало, так они обратно. Ну ничего, ничего. Приедете вы все, паразиты, мы вам тут покажем провинцию. Будете, бляди, говно жрать.
– Ты-то, я вижу, нажралась, – сказала Катька.
– Поговори, поговори, – сказала Колпашева. – Всех наших соберу, всё тебе вспомним. Мы недавно собирались тут с нашими, тебя вспоминали. Ни одной, говорят, больше не видели такой чаморы. Ни одной буквально. А где она? А в Москве она. Вот ты объясни мне, Денисова: почему как чамора, так обязательно в Москве? Город, что ли, такой чаморский? Вот у меня тетка есть, тетка Майя. Портниха она. Тоже в Москве, прикинь, Денисова. Это не тетка, а не знаю что. Вот я баба злая, это я тебе и так скажу. А нечего тут доброй быть, сама видишь, жизнь какая. – Катька слушала и не уходила, сама не зная почему; вероятно, потому, что инстинкт художника сильнее страха и отвращения. Когда встречаешь такой клинический, стопроцентно законченный тип – а прекрасное и есть цельность, – уйти нельзя, надо рассмотреть до конца, как рассматриваешь насекомое, хотя бы оно тебя в этот момент и кусало. – Я баба злая, но я своим не насру. Я за своих кому хошь глотку перерву, а на тебя, Денисова, и не плюну, как тебе глотку перервать. Я на тебя, Денисова, нассу и насру вместе с твоей Москвой, но своему не насру. А она всем срет, и матери моей всю жизнь срала, и мужу своему срала, пока в гроб не вогнала, и вот она теперь москвачка. Она теперь портниха, а моя мать в Турцию за дубленками ездиит. А она открытки присылает, с новым годом, с новым счастьем. Москвачка ёбаная. Хорош, пожировали. У меня муж ты знаешь кто? У меня муж всему тридцать пятому отделению начальник. Он тебя возьмет на семьдесят два часа, теперь без обвинения можно. Он для паспортной проверки тебя возьмет, по черезвычайному положению. Он тебя возьмет на семьдесят два часа, – она говорила: «семест», – и я над тобой натешусь. Ох, Денисова, я над тобой натешусь. Я изведусь вся, а над тобой я, Денисова, натешусь. Ногти себе обломаю, а над тобой натешусь. И всех позову, и все над тобой натешимся. А потом под все отделение тебя пустим, и над тобой натешатся.
Она заводилась, как все истерики, от самоповторов, и все сильнее качала коляску, и ребенок в недрах коляски проснулся и заорал.
– Что ж ты мне ребенка разбудила, Денисова? – спросила Колпашева тихим, сладким, угрозным голосом. – Это ребенка ты мне разбудила? Ты разбудила ребенка моего? Ты сглазить мне ребенка хочешь, Денисова, гадские твои глаза? Я тебе, Денисова, выцарапаю глаза твои гадские! Граждане! Милиция! На помощь! Ребенка моего хотела украсть! Хотела непрописанная украсть моего ребенка! Помогите, граждане! Ох ты моя цыпонька, ластонька, рыбонька! Граждане! Украсть хотели ребенка! Ох ты моя лапонька, моя кисонька, моя детонька родная! Родная моя, украсть хотели ребенка! Сука рваная, цыпонька, хотели украсть! Ребенка рваная цыпонька родная сука хотела украсть ласонька семест два по черезвычайному! Граждане!
Катька не стала дослушивать этот концерт. Она позорно бежала, слыша за собой топот погони, которой, разумеется, не было – весь район знал Колпашеву, и никто не стал бы сбегаться на ее крики. Колпашева хохотала Катьке вслед, а Катька бежала и бежала, пока не вскочила в первый попавшийся троллейбус. Ей было все равно, куда ехать. Ад был везде – в Москве, в Брянске, в Тарасовке. Всюду ждал куркуль Коля с ментом за плечами, с ребенком наперевес, с Колпашевой в обнимку. Игорь, увози меня куда хочешь. Черт меня дернул ехать сюда. Куда меня везут? Троллейбус заворачивал к вокзалу. Катька выскочила на остановке, поймала таксиста, сунула ему сотню при красной цене полтинник и через пять минут ввалилась в бабушкин дом.
– Что с тобой, сумасшедшая? Лица на тебе нету!
– Отстань, – сказала Катька, пошла в комнату, рухнула на тахту и до ночи пролежала, не шевелясь и не отвечая на расспросы. Ей все казалось, что за ней сейчас придут и возьмут на семест два часа, а там и на всю оставшуюся жизнь – за попытку украсть ребенка, за недостаточную почтительность к Колпашевой, за то, что в девятом классе Катька не могла выполнить норматив по бегу на 500 метров. Самое страшное, что Колпашева называла ее Денисовой. Это была ее фамилия по мужу, а значит, Колпашева за всем следила, читала «Офис», готовилась. Все было не просто так.
– Ой, извини, пожалуйста. Я правда не знал.
А какая у тебя девичья? Ты ведь говорила, я забыл.
– Неважно. Так даже лучше, страшней.
Между тем никакого дела до нее Колпашевой, конечно, не было. Она получила лишнее подтверждение своей власти над москвачкой и еще восемь лет могла жить в родном Брянске в полное свое удовольствие.
Но ужасней всего была догадка о том, что полная власть Колпашевой над Катькой и беспомощное Катькино изгойство были как-то связаны с эвакуатором, с изменой и беззаконной любовью – с той непобедимой внутренней неправотой, которая и делала Катьку такой уязвимой. Если б не Игорь, она, мужняя жена, конечно, нашлась бы что ответить. Теперь у нее не было никакой опоры и никаких прав, и всякий мог с ней сделать что угодно.
VIII
В шесть утра их с бабушкой разбудил стук в дверь.
– Кто? – сипло со сна крикнула бабушка.
– Милиция!