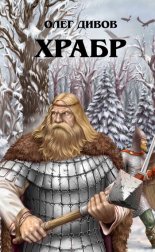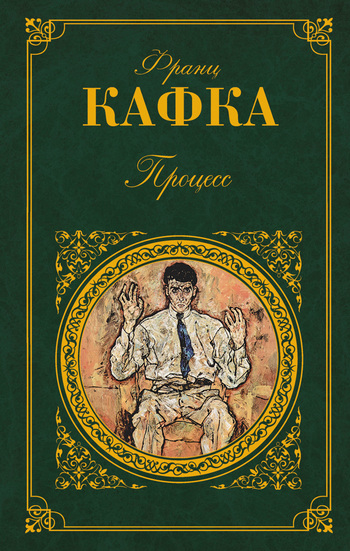«...Расстрелять!» Покровский Александр
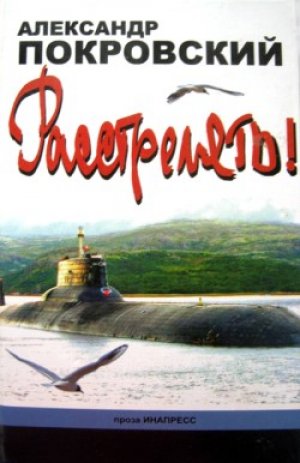
— Да! — заорал вдруг командир, чем заставил комбрига вздрогнуть и судорожно, до упора втянуть прямую кишку. — Да! Пьяная падла! Вы совершенно правы! Да, висит! Да, жопой! Да, «отличный корабль»! Да, слетится сейчас воронье, выгрызут темечко! Тяните! — крикнул он кому-то куда-то. — Не вылезет, я ему яйца откушу!
— И-и — раз! И-и — раз! — тянули механика. — И-и — раз! — А командир в это время, испытывая болезненное желание откусить у механика не будем повторять что, ёрзал стоя.
— И-и — раз!
— И на матрац! — сказал командир, заметив, что на пирс прибыл командующий флотом. Комбриг повис на своём скелете, как старое пальто на вешалке, потеряв интерес к продвижению по службе.
Командующий флотом, сразу поняв, что время упущено и нужно действовать быстро, а спрашивать будем потом, возглавил извлечение, сам отдавал приказания и даже полез в беседку. Комбриг полез за ним, при этом он всё старался то ли поддержать комфлота за локоток, то ли погладить или чего-нибудь там отряхнуть.
— Что вы об меня третесь!… тут!… — сказал ему командующий и выслал его из беседки.
— Разденьте его! — кричал командующий, и Толика раздели.
— И смажьте его салом! — И смазали, а он не пролез.
— Пихайте его! — кричал командующий.
Толика пихали так, что зад отбили.
— Дёргайте! — Дёргали. Никакого впечатления.
И тут командующего флотом осенило (на удивление быстро):
— А что если ему в жопу скипидар залить?! А?! Надо его взбодрить. Зальём, понимаешь, скипидар, он, понимаешь, взбодрится и вылетит!
(— И будет, каркая, летать по заливу, — прошептал командир).
— А у вас скипидар на корабле есть? Нет? У медика, по-моему, есть! Давайте сюда медика! А кстати, где он? Почему не участвует?
Дали ему медика, и начал он «участвовать»:
— Да что вы, товарищ адмирал? — сказал медик, и далее пошла историческая фраза, из-за которой он навсегда остался майором. — Это ж человек всё-таки!
— Всё-таки человек, говоришь? — сказал командующий флотом. — Человек в звании «капитан второго ранга» не полезет в окошко и не застрянет там задницей! Ну и как нам его теперь доставать прикажешь, этого человека?
Доктор развёл руками:
— Только распилить.
— А ты его потом сошьёшь? А? Ме-ди-ци-на хе-рова?! — Медик раздражал и был услан с глаз долой.
Командующий стоял и кусал локти и думал о том, что если нельзя вытащить этого дурня старого, то, может, корабль развернуть так, чтоб его видно не было, а? Главкома проводим и разберёмся. Ничего страшного, повисит. Да-а… время упущено. С минуты на минуту может появиться главком.
И главком появился. Толю подёргали при нём, наверное для того, чтобы продемонстрировать возможности человеческого организма.
Главком приказал вырезать мерзавца вместе с «куском», автогеном. Раскроили борт и вырезали Толю целым куском. Потом краном поставили на причальную стенку, и пятеро матросов до ночи вырезали его этими лобзиками — ножовками по металлу. Когда выпилили — всех наказали.
Катера
(микророман)
Глава первая, драматическая
На катерах у нас служат ради удовольствия. Удовольствие начинается прямо от пирса. Со скоростью двенадцать узлов. Вот это мотает! Но двенадцать узлов — обычная скорость, а в атаку мы ходим на бешеных тридцати двух. Вот это жизнь! Особенно хорошо, когда на волну падаешь. Катер падает на воду, как ящик на асфальт.
Взамен вытряхнутого мозга выдают бортпаёк: шоколадку — пятнадцать грамм, баночку мясных консервов размером со спичечный коробок, сгущёнку, махонькую как пятачок, и пачку печенья «Салют Октябрю».
В остальное время — блюём через перила, если конечно, с непривычки.
И вот приезжают к нам корреспонденты. Вокруг гласность, демократия, социальная справедливость, вот они и прикатили. Час, наверное, беседовали с командиром дивизиона. Говорили, говорили — ну, никак он не может понять, чего им надо. Всё вокруг да около. Три мужика и две бабы. Одна стара как смертный грех, а вторая — ничего, хороша, зараза.
Наконец эти писатели говорят комдиву в лоб, мол, вот как вы считаете, вот вам бортпаёк выдают, это как, справедливо?
— То есть?!
— Ну, то есть вся страна переживает определённый момент, испытывает трудности с продовольственной программой, а у вас тут пайки, шоколад, сгущёнка…
— Па-ёк… — не понимает комдив.
— Ах, бортпаёк! — дошло до него наконец. — Социальная, значит, справедливость в распределении, значит, материальных благ? Значит, много флот у нас жрёт, а, ребята? Значит, вы по этому поводу прикатили?
Комдив подмигнул.
— Ну ладно, — говорит он, — мы тут с вами заболтались совсем, а мне в море выходить через двадцать минут.
— А вы надолго выходите? — интересуются эти деятели.
— Да как получится, часа на три — на четыре. А то хотите с нами? Покатаемся. Увидите флот в динамике. Моряков, море, понимаешь. Интервью возьмёте, так сказать, на боевой вахте по защите святых рубежей. Поехали? Как там у вас: «А вот сейчас я стою на палубе рядом с торпедным аппаратом…».
Комдив подмигнул, корреспонденты заулыбались. Ну кто откажется, бесплатно же. Эти писатели окончательно загорелись: глаза горят, оживлены, бабы воркуют, как голубки над яйцекладкой.
Давно замечено, что самые мужественные люди — это те, кто ни черта не знает.
Комдив посадил их на катер и врубил тридцать два узла и катал часов восемь. И всё под волну норовил, мерзавец, попасть, чтоб ощутили. Качало так, что через пять минут после старта на катере все кормили ихтиандров, а комдив в это время стоял на мостике и орал в ветер:
— Па-е-д-е-м, к-ра-со-от-ка-а, ка-та-ааа-ца… Да-авно я те-бя-а па-д-жи-да-ал дал-дал-дал!
Писатели обделали всю кают-компанию. Из них вышло всё. Даже желание разобраться с распределением благ. Их перед отходом накормили флотским борщом и перловкой, а это такая отрава — к маме не ходи.
Бабы, как качнуло, сразу же легли и забылись, а мужики выползали поочередно и слюнявили борт. По трапу невозможно было спуститься, чтоб не «посклизнуться» на поручнях. Всюду пахло флотским борщом; свёкла, нарезанная кубиками, выходила через нос в нетронутом состоянии; всюду эта зараза — перловка.
Сначала у них вовсю отслаивалась слизистая желудка и кишечника, потом — прямой кишки, а затем уже и клоаки.
Бортпаёк в них впихнуть не удалось — в перекрестие не попадал. Фельдшер пришёл, посмотрел, покачал головой, перевернул баб, сдёрнул им штаны и вкатил каждой лошадиную дозу какого-то противозачаточного средства, которое вроде бы помогает при качке.
Их потом отскребли, как ошвартовались, и на носилках вынесли.
Х-хэ-хэ! Бортпаёк они мечтали у нас оттяпать. Губёшки раскатали. Примчались и слюнями изошли. Кататься сначала научитесь!
Пис-сатели.
Глава вторая, фантастическая
Служить хочется. А гальюнов нет! Сейчас, наверное, делают уже, а на старых катерах, извините, не наблюдается. Забыли-с. Не запрограммированы были наши катера на то, что народ наш может обгадиться на полном ходу за краткое время торпедной атаки.
Поэтому наш народ отправляется подумать по-крупному на корму в тридцать два узла, если уж очень приспичит и окончательно прижмёт.
Со спущенными штанишками это выглядит лучше, чем американское родео.
Их ковбои вонючие на своих ручных бычках — это ж дети малые и сынки безрукие. А вот наш брат в рассупоненном состоянии, напряжённо прогнувшись сидящий, бледно издали снизу блестящий, растаращенно чётко следящий, чтоб из него при соскальзывании паштет не получился — вот это да! Это кино. Картина. Её лучше смотреть со стороны.
Скорость дикая, катер летит, буруны взрываются, а он сидит, вцепившись, торжественный, а над ним за кормой вал воды нависает шестиметровый, в который он кладёт не переставая.
Вот вы видели, чтоб на водяных лыжах лыжнику приспичило подумать по-крупному? Ну, и как он всё это будет делать?
Все свободные от вахты выстраиваются посмотреть. Корма покатая, перелезаешь через леера, и кажется, что винты палубу у тебя рвут из-под ног. Штанишки осторожненько одной рукой спущаешь: сначала одну штанишку, потом перехват мгновенный и тут же другую. И главное, чтоб штанцы твои ниже коленок не рухнули, а то, если поворот, то придётся со спущенными штанишками через леера кидаться и бежать опрометью стремглав, а то вал-то нагонит с разинутой пастью и промокнет попку до самых подмышек гигантской промокашкой. А она и так, понимаешь, в точке росы вся в слезах.
Между булочек потом потер бумажечкой, если совсем, конечно, не намокла, и ныряй через леера.
Я вам всё это говорю, между прочим, для того, чтоб прониклись вы, почувствовали и представили, как на катерах служить здорово.
А однажды вот что было. Пошёл с нами море конопатить один пиджак придурочный из института. Погода чудная, мы уже часа четыре на скорости, и вдруг приспичило ему, понимаете? Видим, ищет он чего-то. Ходил-ходил, искал, наконец спрашивает, мол, а где тут у вас — экскюз ми — гадят по-крупному. Ну, мы ему и рассказали и показали, как это всё происходит: кто-то даже слазил, продемонстрировал. Посмотрел он и говорит:
— Да нет, я уж лучше потерплю.
Ну терпи. Ещё чуть-чуть немножко времени проходит — видим, тоскует человек, пропадает. Ну, мы его и подбодрили, мол, давай, не смущайся, все мы такие, бакланы немазаные, с каждым бывало.
Ну и полез он. Только перелез и за леер уцепился, как, на тебе, поскользнулся и, не выпуская леер, выпал в винты, но, что интересно было наблюдать, — чтоб ножки не откусило по самый локоток, он успел-таки изящно изогнуться и закинуть их на спину. Прямо не человек, а змея, святое дело! В клубок свернулся.
Вытащили мы его: дрожит, горит, глаза на затылке. Успокоился, наконец, штанишки снял аккуратненько одним пальцем, потому как нагадить-то он успел, положил их отдельной кучкой и стоит, отдыхает, а в штанцах — полный винегрет.
Боцман ему говорит:
— Ты, наука, не двигайся, а то поливитамином от тебя несёт. Стой на месте спокойно, обрез с водой принесём — помоешься, а штанцы твои мы сейчас ополоснём, рыбки тоже кушать хочут.
С этими словами подхватил их боцман через антапку за шкертик, и не успела «наука» удивиться, как он — швырь! — их за борт и держит за шкертик, полоскает.
Дал боцман конец шкерта этому дурню старому и проинструктировал:
— Считай, наука, до двадцати и выбирай потихоньку.
Я уж не знаю, то ли этот учёный выбирал не по-человечески, то ли он, наоборот, потравил слегка, но только штанцы под винцы затянуло. Учёного еле оторвали.
А обрез мы ему принесли. Ничего, помылся.
Может, мне сейчас скажут: вот это заливает, во даёт, вот это загибает салазки.
А я вам так скажу, граждане: не служили вы на катерах!
Циклоп
Ровно в три ночи, когда созвездие Овна вместе со всеми остальными созвездиями занималось на небе своими делами, Архимед Ашотович Папазян, по прозвищу Усохший Тарзан, сел на кровати с криком: «Только не бей!». «Только не бей», — повторил он значительно тише и затравленно оглядел свою холостяцкую комнату, ещё секунду назад спокойную, как общественная уборная. Мама больше не приходила к нему во сне. Мама не звала его больше «джана», и душа больше не наполнялась радостным, светлым детством, всё было отравлено и чесалось. Ему снился циклоп. Каждую ночь. Он бежал, выпучившись, в запутанных джунглях, подпрыгивая винторогим козлом, а ветви гоготали и цеплялись. И рука. Огромная рука, беззвучно вырастая, тянулась за ним. На многие километры. Он чувствовал её леденевшим затылком. Нет сил! Нет сил бежать! Остановился. Повернулся. Задранный ужас! Невозможно кричать! К горлу бросились растущие пальцы с грязными обломанными ногтями. Огромные складки потной кожи. «Только не бей!!!»
Свет зажёгся, и с носа закапало. Потом. Очки наделись, и глаза через них тут же пушисто захлопали. Архимед Ашотыч всклокоченно обернулся на одухотворенное лицо лорда Байрона, намертво приделанного к обоям, и, поискав в волосатых складках живота, зачарованно замер, как собака, принимающая сигналы блохи. В тишину ночную вплетались только торопливые курлыканья унитаза, да на кухне в одиночку веселилась радиоточка.
Архимед Ашотыч застонал переполненным страдальцем, запрокинул голову с уплывающими за горизонт зрачками, успел увидеть потолок с забитыми комарами и бережно уложил себя на подушки. Пружины заезженной койки вздохнули народным музыкальным инструментом, веки затяжелели, члены замягчели с каждым вздохом, и в бренное тело снова хлынули сновидения. Голубой пеньюар. Лампадная ночь. Тучи запахов. Фимиамы. Грациозные прыжки, перепархивания, улыбки-пожатья, персичный румянец от подглазников до подбородка, кофе, тонкие чувства, полные, гладкие колени, ощущение от которых остаётся в руках, караванные движения дивана, в короткой борьбе возня пружинная и сытая тишина.
Самый отвратительный звук для такой тишины — звук ключа в замочной скважине. Возникает обостренное чувство долгопоротого.
Звук возник, пеньюар, завизжав раздавленной торговкой, вспорхнул, оставив Архимеда одного оплакивать себя.
Архимед Ашотыч вскочил и заметался по комнате так, будто он затаптывает стадо неприятельских тараканов. В конце концов, ничего не придумав, он юркнул в шкаф, убеждая стартерно заработавший желудок помягче мяукать, и затих там платяной молью.
В дверях стоял циклоп! Пойманный за лацканы пеньюар перестал визжать уже в табурете. В комнате ходило только кадило. Маятника.
Глаз у циклопа было два, но они так близко росли и выглядывали друг от друга, что если посмотреть взволнованно, то сливались в один; череп пещерного медведя, чугунная нижняя челюсть, нос и общая физиономия викинга, получившего веслом по голове: тяжёлый, пышущий убийством квадрат.
Желудок Архимеда Ашотыча совсем уже собирался взять и чем-нибудь разрядить обстановку, когда долго колебавшаяся дверь шкафа решилась и, закатив задумчивую трель, верноподданнически открылась.
«А-а…» — сказал «квадрат», увидев в платьях живое, и шагнул всего один раз.
Архимед Ашотыч, выставив вперёд ручонку, заёрзал, совершая ею фехтовальные движения до тех пор, пока рука циклопа не протянулась медленно и не достала Архимеда не поймёшь за что. Архимед Ашотыч развевался в той руке ящерицей круглоголовкой всего одну секунду.
«Только не бей!» — взял он самую последнюю ноту самой последней октавы, с иканьем перебрав всю клавиатуру. Грянуло! Прямо в лоб, туда, где кость. Горный обвал. Сель. Архимед Ашотыч быстро улетел по воздуху и, погасив все вешалки в шкафу, оторвал внизу щёлкнувшими зубами кусок пурпурного платья. Все волосы на груди, собравшись в пучок, дружно болели.
«Только не бей!!!». Свет уличного фонаря отразился в страдальческом оскале, щетинистый кадык проглотил, наконец, душившие его слюни. В окно смотрела ночь, и Архимед Ашотыч, только теперь понявший, что как всё-таки хорошо, что он жив, жив! упал в подушки и мелко залился, закатился счастливым щебечущим смехом, вздрагивая плечами в волосатых эполетах.
В небесах горел Воз, однажды в шутку названный Медведицей, и лорд Байрон из другого века смотрел с обоев, возвышенный и одухотворенный.
Вот она, Турция!
Это случилось недалеко от Турции. Пехотный, уже немолодой капитан лежал, свернувшись калачиком, на грядке и по-детски улыбался во сне. Военнослужащий во сне сильно похож на ребёнка. Так его тепленького, калачиком, взяли с грядки, перенесли в комендатуру и положили в камеру.
Начальник караула и его помощник решили над ним подшутить. Они подождали, пока он проспится.
Сделав свой первый вздох и оторвав голову от сладких деревянных нар, капитан вдруг обнаружил себя в камере; мало того: рядом с ним сидели двое в белых чалмах, и разговаривали эти двое на иностранном, скорее всего турецком, языке.
У нашего капитана голова тут же перестала болеть; глаза стали, как два рубля, челюсть отвисла до нижней пуговицы, слюна непрерывно потекла.
Наконец «турки» заметили, что капитан проснулся, и оторвались от своей Турции.
Один из них был величественен, как утренний минарет.
«Турок» спросил через переводчика: как уважаемый капитан оказался на территории славной Турции; не хочет ли он попросить политического убежища, а если хочет, то что он может предложить турецкой разведке?
Когда капитан услышал о турецкой разведке, он, ни секунды не сомневаясь, вскочил на ноги. От хмеля ничего не осталось.
— Я, может быть, пьяница! — заорал он туркам. — Но не предатель!
После этого он так удачно стукнул стареньким армейским сапогом «турецкого» капитана, похожего на утренний минарет, туда, где у того кончался человек и начиналось размножение, что «турка» сразу не стало: отныне и навсегда он занимался только собой.
«Переводчик» обомлел; теперь у него отвисла челюсть до нижней пуговицы.
Наш капитан схватил его за кимоно и, шлёпнув изумлённой турецкой мордой об грязную стенку, с криком: «Русские не сдаются!», вылетел в коридор и там попал в часового.
— А-а-а-а, — закричал проворный капитан, — и форму нашу одели?! (Это возмутило его больше всего).
Возмущение придало ему титанические силы, и он тут же разоружил часового.
Если б он не забыл, как снимается с предохранителя, он положил бы полкараула насмерть: те выбегали из караулки, а капитан их просто укладывал прикладом вдоль стенки. Наконец его скрутили и побили. Это было в воскресенье. На следующее утро комендант, прибыв на службу, произвёл разбор этих полётов.
Нашего капитана, как человека надёжного и проверенного, выпустили сразу, а искалеченные «турки» сразу же сели.
Я всё ещё помню
Я всё ещё помню
Я всё ещё помню, что атомные лодки могут ходить под водой по сто двадцать суток, могут и больше — лишь бы еды хватило, а если рефрижераторы отказали, то сначала нужно есть одно только мясо — огромными кусками на первое, второе и третье, предварительно замочив его на сутки в горчице, а потом — консервы, из них можно долго продержаться, а затем в ход пойдут крупы и сухари — дотянуть до берега можно, а потом можно прийти — сутки-двое на погрузку — и опять уйти на столько же.
Я помню свой отсек и всё то оборудование, что в нём расположено; закрою глаза — вот оно передо мной стоит, и все остальные отсеки я тоже хорошо помню. Могу даже мысленно по ним путешествовать. Помню, где и какие идут трубопроводы, где расположены люки, лазы, выгородки, переборочные двери. Знаю, сколько до них шагов, если зажмурившись, затаив дыхание, в дыму, наощупь отправиться от одной переборочной двери до другой.
Я помню, как трещит корпус при срочном погружении и как он трещит, когда лодка проваливается на глубину; когда она идёт вниз камнем, тогда невозможно открыть дверь боевого поста, потому что корпус сдавило на глубине и дверь обжало по периметру. Такое может быть и при «заклинке больших кормовых рулей на погружение». Тогда лодка устремляется носом вниз, и на глубине может её раздавить, тогда почти никто ничего не успевает сделать, а в центральном кричат: «Пузырь в нос! Самый полный назад!» — и тот, кто не удержался на ногах, летит головой в переборку вперемешку с ящиками зипа.
Я помню, что максимальный дифферент — 30 и как лодка при этом зависает, и у всех глаза лезут на лоб и до аналов всё мокрое, а в лёгких нет воздуха, и тишина такая, что за бортом слышно, как переливается вода в лёгком корпусе, а потом лодка вздрагивает и «отходит», и ты «отходишь» вместе с лодкой, а внутри у тебя словно отпустила струна, и ноги уже не те — не держат, и садишься на что-нибудь и сидишь — рукой не шевельнуть, а потом на тебя нападает веселье, и ты смеёшься, смеёшься…
Я знаю, что через каждые полчаса вахтенный должен обойти отсек и доложить в центральный; знаю, что если что-то стряслось, то нельзя из отсека никуда бежать, надо остаться в нём, задраить переборочную дверь и бороться за живучесть, а если это «что-то» в отсеке у соседей и они выскакивают к тебе кто в чём, безумные, трясущиеся, то твоя святая обязанность — загнать всех их обратно пинками, задраить дверь на кремальеру и закрыть её на болт — пусть воюют.
И ещё я знаю, что лодки гибнут порой от копеечного возгорания, когда чуть только полыхнуло, замешкались — и уже всё горит, и из центрального дают в отсек огнегаситель, да перепутали и не в тот отсек, и люди там травятся, а в тот, где горит, дают воздух высокого давления, конечно же тоже по ошибке, и давятся почему-то топливные цистерны, и полыхает уже, как в мартене, и люди — надо же, живы ещё — бегут, их уже не сдержать; и падает вокруг что-то, падает, трещит, взрывается, рушится, сметается, и огненные вихри несутся по подволоку, и человек, как соломинка, вспыхивает с треском, и вот уже выгорели сальники какого-нибудь размагничивающего устройства, и отсек заполняется водой, и по трубопроводам вентиляции и ещё чёрт его знает по чему заполняется водой соседний отсек, а в центральном всё ещё дифферентуют лодку, всё дифферентуют и никак не могут отдифферентовать…
Воскресенье
Воскресенье. Сегодня воскресенье. А чем оно отличается от других дней недели? Всё равно с корабля схода нет. И сидят все по углам, а в кубрике идёт фильм, а завтра понедельник, и опять всё затянется на неделю. Вот так вот, лейтенант Петрухин. Стук в дверь.
— Да.
Входит рассыльный:
— Товарищ лейтенант, вас к старпому.
По дороге он думал: за что? Сосало под ложечкой.
Вроде бы не за что. Хотя кто его знает. Он уже год на корабле, а старпом только и делает, что дерёт его нещадно за всякую ерунду, а при встрече смотрит, как удав на кролика. Может, он опять в кубрике побывал и нашёл там что-нибудь?
— Разрешите?
Старпом сидел за столом, но, несмотря на массивный взгляд, лейтенант понял: драть не будут. Сразу отпустило.
Старпом пихнул через стол бумагу:
— На, лейтенант, читай и подписывай, ты у нас член комиссии.
Интересно, что это за комиссия? Акт на списание сорока литров спирта. За квартал. Из них три литра и ему, лейтенанту Петрухину, лично выдавали. Он их в глаза не видел. Ясно. Всё сожрано без нас.
Стараясь не смотреть на тяжкое лицо старпома, он подписал этот акт. После этого ему подсунули ещё один. О наличии продовольствия. Краем уха доходило: недостача девяноста килограммов масла, а здесь всё гладко, как в сказке; а на дежурстве в прошлый раз видел: интендант в несколько заходов выносил с корабля в вещмешках что-то до боли похожее на консервы. Выносил и укладывал в «уазик». Да чёрт с ними! Пусть подавятся. В конце концов, что творится в службе снабжения — не нашего ума дело. По акту всё сходится. Правда, матросы вторую неделю жрут только комбижир, а утренние порции масла тают, родимые; а вместо мяса давно в бачке какие-то волосатые лохмотья плавают, но на этом долбаном корабле есть, в конце концов, командир, зам и комсомольский работник (вот, кстати, и его подпись). Тебе что, больше всех надо? Да катись оно… закатись. Что там ещё? Акт о списании боезапаса. За полгода — сто пятьдесят сигнальных ракет! Вот это бабахнули! Куда ж столько? Друг в друга, что ли, стреляли?
Старпом проявляет нетерпение:
— Давай, лейтенант, подписывай быстрей. Чего читаешь по десять раз? Не боись, я сам проверил. Сам понимаешь, времени нет вас всех собирать. Время-то горячее.
Ладно. Оружие? Так его же каждый день считают. Куда оно денется? Боезапас? Так стрельбы же были. Любой подтвердит. А случись что — всегда можно сказать, что проверяли и тогда всё было на месте. Ладно.
Старпом кладёт бумаги в стол и достаёт оттуда ещё одну.
— На ещё.
Нужно списать один из двух новеньких морских биноклей, позавчера полученных. По этому поводу и составлен этот акт. А вот и административное расследование, приложенное к акту: матрос Кукин, вахтенный сигнальщик, уронил его за борт. Лопнул ремешок, и все усилия по спасению военного имущества оказались тщетны. Вахтенному офицеру — «строго указать», Кукину — воткнуть по самые уши, остальным — по выговору, а бинокль предлагается списать, так как условия были, прямо скажем, штормовые, приближенные к боевым, и вообще, спасибо, что никого при этом не смыло.
Старпом находит нужным объяснить:
— Нашему адмиралу исполняется пятьдесят лет. Сам понимаешь, нужен подарок. Нам эти бинокли и давались только с тем условием, что мы один спишем. Ну, ты лейтенант, службу уже понял. Вопросы есть? Нет? Вот и молодец, — бумаги в стол. — Ну, лейтенант, тащи свою бутылку.
Он вышел от старпома и подумал: при чём здесь бутылка? И тут до него дошло: он хочет мне спирт налить.
Бутылка нашлась в рундуке.
— Разрешите? Вот, товарищ капитан второго ранга.
Старпом берёт бутылку, и начинается священнодействие: он открывает дверь платяного шкафа и извлекает оттуда канистру. На двадцать литров. Потом появляются: воронка и тонкий шланг. Один конец шланга исчезает в канистре, другой — во рту у старпома. Сейчас будет сосать. Морда у старпома напрягается, краснеет, он зажмуривается от усердия — старпомовский засос, и — тьфу, зараза! — серебристая струйка чистейшего спирта побежала в бутылку.
Старпом морщится — ему не в то горло попало, — кашляет и хрипит сифилисно:
— Вот так и травимся… ежедневно… едри его… сука… в самый корень попало, — на глазах у старпома слёзы, он запивает приготовленной заранее водой и вздыхает с облегчением, — фу ты, блядь, подохнешь тут с вами. На, лейтенант, в следующий раз сам будешь сосать. А теперь давай, спрячь, чтоб никто не видел…
…Вечереет. «Звёзды небесные, звёзды далекие…» Город светится. Огоньки по воде. А люди сидят сейчас в теплых квартирах… От, сука…
Он вызвал рассыльного. Прислали молодого: низенький, взгляд бессмысленный, губы отвислые, руки грязнющие, сам — вонючий-вонючий, шинель прожжённая в десяти местах, брюки — заплата на заплате, прогары разбитые, дебил какой-то: вошёл и молчит.
— Чего молчишь, холера дохлая, где твоё представление?
— Матрос Кукин по вашему приказанию прибыл.
— А-а, старый знакомый. Ты старый знакомый? А? Понаберут на флот…
Этот и утопил бинокль, в соответствии с расследованием. А что, такой и голову свою может потерять совершенно свободно. Как нечего делать. А бинокль завтра подарят «великому флотоводцу». «От любящих подчиненных». И он примет и даже не спросит, откуда что взялось. Все всё знают. Курвы. Сидишь здесь, и рядом ни одного человека нет, все ублюдки. И это ещё, чмо, стоит. Уши оттопырены, рожа в прыщах. Чуча лаздренючая. А ресницы белёсые, как у свиньи. И бескозырка на два размера больше. Болтается на голове, как презерватив после употребления. Разве это человек?
— А ну, чмо болотное, подойти ближе. По сусалам хочешь?
Матрос подходит ближе, останавливается в нерешительности. Боится. Хоть кто-то тебя на этом корабле боится. Боится — значит уважает.
— В глаза надо смотреть при получении приказания! В глаза!
За подбородок вверх его.
— Может, ты чем-нибудь недоволен? А? Чем ты можешь быть недоволен, вирус гнойный. А ну, шнурок, пулей, разыскать мне комсомольца корабельного, и скажешь ему, чтоб оставил на мгновение свой комсомол и зашёл ко мне. Пять минут даю.
Через пятнадцать минут в каюте рядом уже сидел самый младший и самый несчастный из корабельных политработников — комсомолец — тот самый, которому доверяют все, кроме собственной жены.
Каюта заперта, иллюминатор задраен и занавешен; на столе — бутылка (та самая), хлеб, пара консервов, тяжёлый чугунный чайник с камбуза с тёмным горячим чаем (на камбузе тоже свои люди есть).
— Откуда? — комсомолец покосился на бутылку.
Небрежно:
— На протирку выдают. Положено.
— Хорошо живёшь, — комсомолец вздыхает, — а вот мне не выдают, протирать нечего.
— Ничего, ты у нас вырастешь, станешь замом, и тебе будут выдавать. На протирку. Протирать будешь… подчиненным…
После первых полстакана комсомолец расчувствовался и рассказал, как сегодня утром зам орал на него при матросах за незаполненные учётные карточки. Помолчали, поковыряли консервы. Потом пошло про службу, про службу…
А старпом сегодня какой ласковый. С актами. Бинокль им нужен был. Когда им нужно, они все сладкие…
Допили. Потом был чай, а потом комсомолец ушёл спать.
Он вызвал рассыльного. Подождал — не идёт. Где он, спрашивается, шляется? Он позвонил ещё раз, ему ответили: уже ушёл.
— Как это «ушёл»? А куда он ушёл? Да что вы мне там мозги пачкаете? Ушёл — давно бы был.
Вошёл рассыльный.
— Кукин, сука, ты где ходишь, скот? Как ты смеешь заходить к офицеру в таком виде зачуханном? Тобой что, заняться некому? Что ты там бормочешь? Ближе подойди. Где шлялся?
Матрос молчит. Подходит робко. Голову он держит так, чтоб легко можно было отшатнуться.
Его испуг бесит, просто бесит.
— Закрой дверь! Закрыл.
— И снимай ремень.
Снял. Штаны падают, и он их пытается подхватить.
— Дай сюда! — он сам сдёргивает с него бескозырку, нагибает за плечи, суёт его стриженую, дохлую голову себе между ног и с остервенением бьёт ремнем по оттопыренным ягодицам. Тот не сопротивляется. Скот потому что, скот!
— А теперь сделаешь здесь приборку!
Ползает, делает. Проходит минут десять.
— Сделал?
— Так точно.
— Пошёл вон отсюда…
Святее всех святых
После того как перестройка началась, у нас замов в единицу времени прибавилось.
Правда, они и до этого на экипажах особенно не задерживались — чехардились, как всадники на лошади, а с перестройкой ну просто как перчатки стали меняться: полтора года — новый зам, ещё полтора года — ещё один зам, так и замелькали. Не успеваешь к нему привыкнуть, а уже замена.
Как-то дают нам очередного зама из академии. Дали нам зама, и начал он у нас бороться. В основном, конечно, с пьянством на экипаже. До того он здорово боролся, что скоро всех нас подмял.
— Перестройка, — говорил он нам, — ну что не понятно?
И мы свою пайку вина, военно-морскую — пятьдесят граммов в море на человека, — пили и помнили о перестройке.
И вот выходим мы в море на задачу. Зам с нами в первый раз в море пошёл. Во всех отсеках, как в картинной галерее, развесил плакаты, лозунги, призывы, графики, экраны соревнования. А мы комдива вывозили, а комдива нашего, контр-адмирала Батракова, по кличке «Джон — вырви глаз», на флоте все знают. Народ его иногда Петровичем называет.
Петрович без вина в море не мог. Терять ему было нечего — адмирал, пенсия есть, и автономок штук двадцать, — так что употреблял.
Это у них в центре там перестройка, а у Петровича всё было строго — чтоб три раза в день по графину. Иначе он на выходе всех забодает.
Петрович росточка махонького, но влить в себя мог целое ведро. Как выпьет — душа-человек.
Сунулся интендант к командиру насчёт вина для Петровича, но тот только руками замахал — иди к заму. Явился интендант к заму и говорит:
— Разрешите комдиву графин вина налить?
— Как это, «графин»? — зам даже обалдел. — Это что, целый графин вина за один раз?
— Да, — говорит интендант и смотрит преданно. — Он всегда за один раз графин вина выдувает.
— Как это, «выдувает»? — говорит зам возмущенно. — У нас же перестройка! Ну что не понятно?
— Да всё понятно, — говорит интендант, а сам стоит перед замом и не думает уходить, — только лучше дайте, товарищ капитан третьего ранга, а то хуже будет.
У интенданта было тайное задание от командира: из зама вино для Петровича выбить. Иначе, сами понимаете, жизни не будет.
— Что значит «хуже будет»? Что значит «будет хуже»? — спрашивает зам интенданта.
— Ну-у, товарищ капитан третьего ранга, — заканючил интендант, — ну пусть он напьётся…
— Что значит… послушайте… что вы мне тут? — сказал зам и выгнал интенданта.
Но после третьего захода зам сдался — чёрт с ним, пусть напьётся.
Налили Петровичу — раз, налили — два, налили — три, а четыре — не налили.