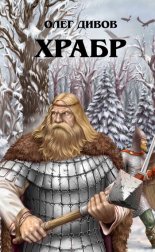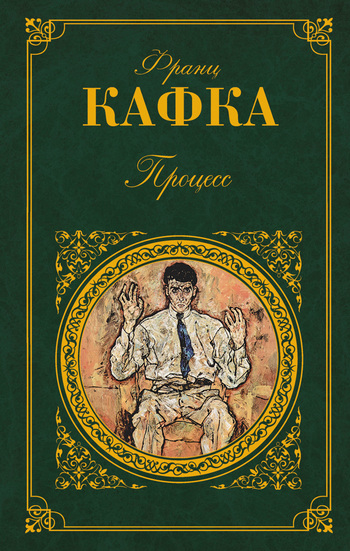«...Расстрелять!» Покровский Александр
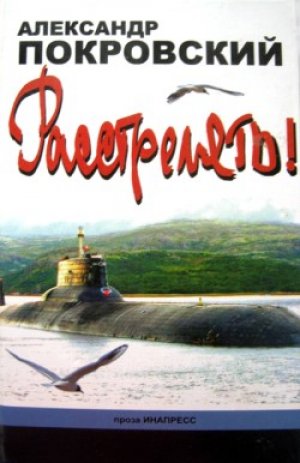
Офицера можно
Офицера можно
Офицера можно лишить очередного воинского звания или должности, или обещанной награды, чтоб он лучше служил.
Или можно не лишать его этого звания, а просто задержать его на время, на какой-то срок — лучше на неопределённый, — чтоб он всё время чувствовал.
Офицера можно не отпускать в академию или на офицерские курсы; или отпустить его, но в последний день, и он туда опоздает, — и всё это для того, чтобы он ощутил, чтоб он понял, чтоб дошло до него, что не всё так просто.
Можно запретить ему сход на берег, если, конечно, это корабельный офицер, или объявить ему лично оргпериод, чтоб он организовался; или спускать его такими порциями, чтоб понял он, наконец, что ему нужно лучше себя вести в повседневной жизни.
А можно отослать его в командировку или туда, где ему будут меньше платить, где он лишится северных надбавок; а ещё ему можно продлить на второй срок службу в плавсоставе или продлить её ему на третий срок, или на четвёртый; или можно всё время отправлять его в море, на полигон, на боевое дежурство, в тартарары — или ещё куда-нибудь, а квартиру ему не давать, — и жена его, в конце концов, уедет из гарнизона, потому что кто же ей продлит разрешение на въезд — муж-то очень далеко.
Или можно дать ему квартиру — «Берите, видите, как о вас заботятся», — но не сразу, а лет через пять — восемь, пятнадцать — восемнадцать, — пусть немного ещё послужит, проявит себя.
А ещё можно объявить ему, мерзавцу, взыскание — выговор, или строгий выговор, или там «предупреждение о неполном служебном соответствии» — объявить и посмотреть, как он реагирует. Можно сделать так, что он никуда не переведётся после своих десяти «безупречных лет» и будет вечно гнить, сдавая «на допуск к самостоятельному управлению».
Можно контролировать каждый его шаг: и на корабле, и в быту; можно устраивать ему внезапные «проверки» какого-нибудь «наличия» — или комиссии, учения, предъявления, тревоги.
Можно не дать ему какую-нибудь «характеристику» или «рекомендации» — или дать, но такую, что он очень долго будет отплевываться.
Можно лишить его премии, «четырнадцатого оклада» полностью или частично.
Можно не отпускать его в отпуск — или отпустить, но тогда, когда никто из нормальных в отпуск не ходит, или отпустить его по всем приказам, а отпускной билет его у него же за что-нибудь отобрать и положить его в сейф, а самому уехать куда-нибудь на неделю — пусть побегает.
Или заставить его во время отпуска ходить на службу и проверять его там ежедневно и докладывать о нём ежечасно.
И в конце-то концов, можно посадить его, сукина сына, на цепь! То есть я хотел сказать, на гауптвахту — и с неё отпускать только в море! только в море!
Или можно уволить его в запас, когда он этого не хочет, или, наоборот, не увольнять его, когда он сам того всеми силами души желает, пусть понервничает, пусть у него пена изо рта пойдёт.
Или можно нарезать ему пенсию меньше той, на которую он рассчитывал, или рассчитать ему при увольнении неправильно выслугу лет — пусть пострадает; или рассчитать его за день до полного месяца или до полного года, чтоб ему на полную выслугу не хватило одного дня.
И вообще, с офицером можно сделать столько! Столько с ним можно сделать! Столько с ним можно совершить! Что грудь моя от восторга переполняется, и от этого восторга я просто немею.
На флоте любое начинание всегда делится на четыре стадии:
первая — запугивание;
вторая — запутывание;
третья — наказание невиновных;
четвёртая — награждение неучаствовавших.
— Что вы видели на флоте?
— Грудь четвёртого человека.
— И чем вы всё время занимались?
— Устранял замечания.
Атомник Иванов
Умер офицер, подводник и атомник Иванов. Да и чёрт бы, как говорится, с ним, сдали бы по рублю и забыли, тем более что родственников и особой мебели у него не обнаружилось, и с женой, пожелавшей ему умереть вдоль забора, он давно разошёлся. Но умер он, во-первых, не оставив посмертной записки, мол, я — умер, вините этих, и, во-вторых, он умер накануне своей пятнадцатой автономки. Так бы он лежал бы и лежал и никому не был бы нужен, а тут подождали для приличия сутки и доложили по команде.
Вот тут-то всё и началось. В квартиру к нему постоянно кто-то стучал, а остальной экипаж в свой трёхдневный отдых искал его по сопкам и подвалам. Приятелей его расспросили — может, он застрял у какой-нибудь бабы. В общем, поискали, поискали, не нашли, выставили у его дверей постоянный пост и успокоились. И никому не приходило в голову, что он лежит в своей собственной квартире и давно не дышит.
Наклевывалось дезертирство, и политотдел затребовал на него характеристики; экипажная жизнь снова оживилась. В запарке характеристики ему дали как уголовнику; отметили в них, что он давно уже не отличник боевой и политической подготовки, что к изучению идейно-теоретического наследия относится отвратительно, а к последним текущим документам настолько прохладен, что вряд ли имеет хоть какой-нибудь конспект.
Долго думали, писать, что «политику он понимает правильно» и «делу» предан, или не писать, потом решили, что не стоит.
В копию его служебной карточки, для полноты его общественной физиономии, вписали пять снятых и двадцать неснятых дисциплинарных взысканий; срочно слепили две копии суда чести офицерского состава, а заместитель командира, заметив, что у него ещё есть в графе место, пропустил его по всем планам политико-воспитательной работы как участника бесед о правовом воспитании воина.
Сдали все собранные документы в отдел кадров и, срочно прикомандировав вместо него какого-то беднягу прямо из патруля, ушли, от всей души пожелав ему угодить в тюрьму.
Отдел кадров, перепроверив оставленные документы, установил, что последняя аттестация у него положительная.
Аттестацию переделали. Сделали такую, из которой было видно, что он, конечно, может быть подводником, не без этого, но всё-таки лучше уволить его в запас за дискредитацию высокого офицерского звания.
Прошло какое-то время, и кому-то пришло в голову вскрыть его квартиру. Вскрыли и обнаружили бренные останки атомника Иванова — вот он, родной.
Флагманскому врачу работы прибавилось. Нужно было оформить кучу бумаг, а тут ещё вскрытие показало, что на момент смерти он был совершенно здоров. В общем, списать умершего труднее, чем получить живого.
Медкнижку его так и не нашли, она хранилась на корабле и ушла с кораблем в автономку. Сдуру бросились её восстанавливать по записям в журналах, но так как журналы тоже не все отыскались, то все опомнились и решили, что обойдётся и так.
Флагманский врач пристегнул к этому делу двух молодых подающих большие надежды врачей, а сам в тот день, когда пристегнул, вздохнул с облегчением.
С помощью нашей удалой милиции удалось даже отыскать какую-то его двоюродную тётку Марию, которая жила, как выяснилось, в самой середине нашей необъятной карты, в селе Малые Махаловки.
— Только сейчас приехать не могу, — сразу же зателеграфировала тётка, — я одна, старая уже, у меня ещё корова, как её бросить, да и картошка подошла.
Из списанных с плавсостава подобрали надёжного офицера, капитан-лейтенанта, и возложили на него похоронные обязанности.
Такие офицеры, списанные с плавсостава, у нас есть. Они строят подсобные хозяйства, дачи, роют рвы, канавы, собирают картошку в Белоруссии, бывают на целине в Казахстане, назначаются старшими на сене, проводят обваловку, руководят очисткой, раскладкой дёрна, доводят всё это до ума, ремонтируют подъезды и вообще приносят много пользы.
А этого офицера списали даже дважды. В первый раз по какой-то одной статье — то ли с язвой, то ли с какими-то камнями, — а когда он оформил все документы на списание и, сдав их, каждый день ходил и столбился, то через месяц выяснилось, что документы он сдал не поймёшь где, и сдал он их не поймёшь кому, и в том месте, где он их сдал, его никто не узнал.
— Что же вы так? — сказали ему тогда. Вот тогда-то его и перекосило, и с ним случилось что-то сложное, то ли латинское, то ли латино-американское, и списался он тогда по совершенно другой статье. Словом, человек был надёжный.
«Надёжный» отправился на плавзавод добывать цинк. В этот цинк нужно было одеть гроб, который вместе с несвоевременно усопшим Ивановым именовался бы «ценный груз двести».
Завод насчёт цинка был в курсе, но на заводе его повернули: лимит по цинку был израсходован, а будущий цинк должны были подвезти в течение месяца.
— Вам же звонили! — вяло, как последний спартанец, отбивался «надёжный».
— Времена прошли, — сказали ему на заводе.
— Куда ж его сейчас девать? — не унимался «надёжный», потому что с самого детства привык никому и никогда не сдаваться.
— А где он у вас до сих пор лежал? — спросили увядшими голосами заводские лупоглазые хитрецы.
— Дома, — не понимал «надёжный».
— Вот пусть там и полежит, ничего страшного, сейчас уже холодно. Только окна, конечно, нужно будет открыть, — тут же приступили заводчане ко второму этапу сбережения усопшего, — а с батарей воду слить, и батареи заглушить. В этом поможем. На батареях у нас какое сечение? Ду-20? Ну вот…
— Что «вот», — не понимал «надёжно списанный», — в чём поможете?
— В этом, — удивились его сообразительности заводчане, — батареи заглушим, сварщика дадим.
— Ну нет, так дело не пойдёт, — начал было «списанный».
— Ну, мы тогда не знаем, — сразу закончили с ним заводчане и в ту же минуту про него забыли.
С тем, что «они не знают», списанный капитан тут же решил отправиться к начальству. По дороге он долго рубил воздух и говорил всякие выражения.
— А-а-а, чтоб они подохли! — пожелал он им в заключение.
Капитан впервые столкнулся с цинковой проблемой, и через десять минут ходьбы он окончательно решил идти к начальству, у которого, он был в этом совершенно уверен и неоднократно убеждён, череп толще, а нижняя челюсть увесистей.
— А я-то думал, что его давно похоронили, — оторвалось от бумаг начальство с черепом, за заботами успевшее забыть, что у него когда-то кто-то умер. — Деньги вам собранные отдали? Ну вот! Что же вы?
— А что вы сделали, чтоб этот цинк был? Почему не добились? Почему не настояли? — спрашивало начальство по нарастающей. — Расписываетесь тут, стоите, в собственном бессилии!
— Нужно добиваться! — заорало наконец начальство. — А не демонстрировать здесь свои неспособности и беспомощность полнейшую! Рыть нужно! Рыть! Доросли тут до капитан-лейтенанта! Бог ты мой, какая тупость, какая тупость! Цинк ему ищи! Рот раскрой, положи — он закроет и проглотит. Так, что ли? Я! Здесь! Поставлен! Не для цинка!!! Понимаешь? Не для цинка!… Идите. И не прикрывайте мелкой суетливостью своего безделья! Цинк чтоб был! Доложите! Всё!!!
Витамины на флот поступают в жестяных банках, а надо бы в ведрах, а может, и в бочках…
Капитан пошёл от начальства. По дороге он всё время говорил три слова, из которых только одно было очень похоже на слово «провались».
Пропадал он двое суток, потом появился мятый, виноватый и принялся с жаром отрабатывать.
А медики тем временем, тихой сапой, по своим каналам справились насчёт цинка, узнали, когда он будет, сказали: «Ладно, мы подождём», — и сразу же договорились насчёт деревянного.
— Деревянный? — ухватились на заводе. — А цинковый уже не надо?
— Надо, — сказали наши всегда спокойные медики, — и цинковый и деревянный. Он у нас пока в морге полежит.
И положили. Когда же наконец появился цинк и из него сделали то, что хотели, впихнуть в него бережно сохраненного Иванова не удалось — чуточку не влез; ни в цинковый, ни в деревянный.
— Он что у вас там, вырос, что ли? — злобно ворчали заводчане, уминая Иванова, который если где и влезал в одном месте, то тут же вылезал в другом. Не хватало всех размеров сантиметров по двадцать.
— А кто снимал мерку? — спросил начальник завода, когда эта неувязочка всем порядком поднадоела. Оказалось, что мерку снимал матрос, который уже уволился в запас.
Начальник завода очень изобретательно облегчил душу и сказал:
— Чтоб в следующий раз мерку снимал офицер, — подумал и добавил: — Капитан-лейтенант, а сейчас чтоб влез! Влез! Хоть всем заводом пихайте. Вы у меня пострадаете… за Отечество. Я вам сделаю соответствующее лицо…
После этого заводчане поделили силы: одни с чувством передали Иванову, чтоб он влез, и начали его запихивать с завидным вдохновением, другие принялись обхаживать медиков — ходили как очарованные и заглядывали им в глаза. Минут через пять они решили, что хватит облизывать, и приступили:
— А может, мы отпилим где-нибудь там у него кусочек, а? Маленький такой, а? — голос их непрерывно зацветал мольбой. — Незаметненький такой, как вы считаете? Мы потом сами похороним. А может, у вас есть что-нибудь такое? Может, можно будет его полить чем-нибудь, растворить там чуть-чуть, а? Ему же всё равно, как вы считаете?
— Не знаем, — сказали медики, покачали головами и уехали, оставив на заводе Иванова до вечера. Вечером он должен был быть отправлен. И билеты были, — в общем, тоска.
— Делай что хочешь, — сказал начальник завода начальнику цеха, — режь, ешь, но чтоб влез! Влез! Хочешь, сам ложись впереди и раздвигай! Хочешь — не ложись! Хочешь — мы тебя вместо него похороним. В общем, как хочешь!
Начальник цеха хотел, он очень хотел; он до того обессилел от того, что хотел, что был готов сам лечь и раздвигать. Но вдруг всё обошлось. На флоте в конце концов всё обходится, всё получается, делается само собой, не надо только суетиться…
В конце концов вышли пять решительных жлобов и, под массу бодрых выражений, в три минуты запихала атомника Иванова в дерево и в цинк, как тесто в банку. Попрыгали сверху и умяли. Заткнули аккуратно гвоздиком те места, которые повылезли, и запаяли. Делов-то…
А в это время в нашем тылу добывалась машина, Списанный капитан метался одинокий и слепой от горя. Он уже выяснил, что в эту минуту из восьмидесяти двух машин — тридцать два «газика», а остальные после целины не на ходу, а на ходу один самосвал, да и тот — мусорный.
Заболевший от такой невезухи капитан был готов везти запаянного в цинк Иванова на мусорном самосвале.
— Да вы что? — сказали в тылу и не дали самосвал. И всё-таки он его довез, на попутках, щедро посыпая дорогу поллитрами. На вокзал приехали за двадцать минут до отхода поезда.
— Куда?! — рявкнула проводница и загородила проход.
— У нас разрешение есть, — задуревшим с дороги голосом прошептал капитан: он всю дорогу, в минус двадцать, ехал сверху.
— Назад! — не унималась проводница. — Я тебе дам «разрешение», а людей я куда дену?!
Она вытолкнула капитана вместе с ящиком назад. Капитан, совершенно обессиленный белым безмолвием, вытащил собранные на Иванова деньги и, стыдно сказать, угостил проводницу четвертным.
— Ну ладно, — сжалилась она, — волоките, сейчас покажу куда.
Гроб заволокли, куда показали. Не успели тронуться с места, как появился бригадир.
— Где тут эти похоронщики? — бригадир смотрел так, будто заранее знал, кто где нагадил.
— Ты, что ли? — ткнул он пальцем в капитана, и у капитана сразу же забился пульс.
— Да?
— Документы давай.
Капитану нельзя было волноваться. Пальцы его наконец достали документы.
— Ну, так и знал, — вздохнул бригадир, — неправильно. На следующей слазь. Не забудь его прихватить. Проверю. Знаю я вас, был уже один такой прохвост, намаялись.
Достался ещё один четвертной. Всё-таки есть хорошие люди, есть; сейчас он на тебя наорал, набрызгал, а сейчас он уже хороший человек и ты его полюбил, испив до дна радость прощенья.
— Ты когда в следующий раз повезёшь кого-нибудь, ты обязательно всё правильно оформи, — обхватил капитана за плечи бригадир, — да, и смотри, он у нас, сам понимаешь, где едет, у нас иногда «Жигули» раздевают, не то что твоего родственника; цинк — это вещь; приедешь, его снимать — а цинка нет, и давно уже один покойник голый едет. Было такое, бесплатно дарю, — бригадир хохотнул. Капитан выбегал на каждой станции. И началась дорога. Многим мы ей обязаны, дороге. Ты едёшь, и едут мимо тебя: мясо, масло, «а как у вас», дети, тёщи, подарки, какие-то праздники, каникулы. О чём только люди не говорят, чем только они не живут; а ты как с другой планеты, будто и не жил никогда…
Через двое суток ему стало казаться, что он давно уже живет в вагоне, что он родился здесь, среди плача детского, мято лежащих тел, бесконечных закусываний, чая и торчащих в проходе ног. Он отдался безразличию и теперь почти всё время сидел у окна смотрящим вперёд. А навстречу ему неслась Россия… Россия… огромная страна…
Капитану предстояла пересадка. Не будем её описывать, а то всё увеличится втрое. Скажем только громко: «Хорошо!». Хорошо, что люди пьют. А может, и не люди, а отдельные граждане, но всё равно — хорошо. Сколько бы дел не было сделано, вот так, с лёту, в один присест, если б они не пили; и наш капитан никогда бы не попал вовремя с оцинкованным Ивановым с вокзала на вокзал. Пускай они пьют. А если б они не пили, то стоило бы, наверное, для пользы дела, её им привить — привычку пить. Наверное, стоило бы…
А вот и станция Малые Махаловки, похожая на тысячи наших пустынных беленьких станций. Не прошло и пяти суток.
Поезд встречали двое — тётка и бородач. Капитан каким-то внутренним чутьём почувствовал тётку Марию и конец своего путешествия и наполнился, в который раз за дорогу, счастьем, подпрыгивающим ликованием.
— Вот! — через каких-нибудь пять минут воскликнул капитан и, израсходовав на улыбку весь имеемый сахар, указал на гроб: — Сам!
Он чуть не добавил: «Красивый сам собой», но вовремя спохватился. Ему опять стало хорошо. Это «хорошо» накатывало на него волнами, и сейчас он был просто рад за себя, за Иванова, за окружающую среду, опять за себя, за тётку Марию, как будто привёз ей не гроб, а кусок золота. И вообще, чем дальше от флота, тем больше он испытывал за него гордость; гордость за нашу боеготовность, ощущал прочные узы родства…
— Что ещё… документы, фотографии — вот!
— Слышь, милок, — неуверенно засомневалась тётка Авария, — а вроде… это и не Мишка вовсе… Иванов-то… я его маленьким помню, после не видала… позабыла уже, а волосики у него вроде чёрные были, да и курносый он, а этот какой-то… лысый, что ли?
Дитя флота мгновенно приехало на землю. Капитана прошиб крупный пот, всё вокруг промокло и стало гнусным.
— Да ты что, мать! — земля уверенно поехала из-под ног. — КАК НЕ ТОТ?!
— МАТЬ!!! — заорал он, вложив в этот крик все свои раны, отчаянье, цинк, бригадира, дорогу, чёрт-те что. — Мать! Это ж… не мальчик кудрявый, это ж… мужчина, и потом он… эта… под водой, подводник он, мать, подводник, а там не то что на себя, на лошадь не будешь похож!
— Ну тогда ладно… конечно… чего уж там… это я так, — быстро согласилась, испугавшись его, тётка Мария и виновато уставилась под ноги. Бородатый с ходу понял, в чём затор.
— Вылитый Мишка, — он тоже испугался, что поминок не будет и этот сейчас подхватит гроб и поминай как звали, — вылитый. Я его, мерзавца, вот с такого возраста, — (он отмерил сантиметров двадцать), — знаю. Вылитый.
— Ну вот! — вырвалось у капитана. К нему сразу вернулась ушедшая было куча здоровья. — Да-а-а, ну ты, мать, даёшь! Мишку не узнать, а? Да-а-а! — теперь ему опять стало хорошо, даже как-то молодцевато стало, раскудрись оно провались!
— Ну ладно, граждане, — махнул рукой куда-то в сторону капитан, — вам — туда, а мне — обратно. Извините, если что…
— Ну нет, милый, ты чего эта? — бородач встал рядом. — Привез и давай мотаем? Вам, значить, туда, а нам отсюда, так, что ли? А поминки? А народ? Не пустим! — он вдруг взял капитана под локоток. Рука у деда была деревянная, и капитан понял — точно, не пустят.
— Так… флот же тоже ждёт… боевые корабли-и-и, — замямлил он.
— Подождёт, не обломится, — обрубил бородач, — народ тебя ждёт. А мы тебе справку заделаем… печать… вроде ты у нас приболел, что ли, — борода так захохотал, что какая-то впереди крадущаяся тётка с кошёлкой присела, дёрнула головой, заверещала: «Милиция!» — и мотанула куда-то совсем.
Действительно, всё было готово. С Ивановым разделались в момент. Никто так и не вспомнил, был ли он чёрным или, может, сразу лысым. Праздничный стол раздался в осеннем великолепии. Это был какой-то ведёрный край: в середине стола стояла такая ужасная бутыль самогона, такой величины и прозрачности, что сквозь неё была полностью видна высоко поднятая табуретка.
За столом сидели старики и старушки, празднично убранные. На стариках так горели ордена и медали, что стояло сплошное сияние. У одного векового деда, с серебряной в пояс бородой, кроме всего прочего было ещё четыре Георгиевских креста.
Через двадцать минут за столом все были свои. Старики с интересом рассматривали Мишкины медали за десять и пятнадцать лет безупречной службы. Они передавали их друг другу, и каждый обязательно переворачивал и читал вслух.
— Да-а-а. Нам такие не давали. Они теперь вон какие. Молодца, Мишка, молодца, не посрамил, да-а-а…
Вскоре капитан решил, что ему нужно что-то сказать, а то через пару минут, он так прикинул, сказать он уже ничего не сможет, через пару минут он уже сможет только закивать это дело. Он встал и сначала бессвязно, а потом всё лучше и лучше начал говорить про флот, про море, про Мишку, которого совсем не знал, и чем больше он говорил, тем больше ему казалось, что он говорит не про Мишку, а про себя, про свою жизнь, про службу, про флотское братство, которое, гори оно ясным пламенем, всё равно не сгорит, про Родину, про тех, кто её сейчас защищает и, в случае чего, не пожалеет жизни, про священные рубежи…
— …Пусть у них всё будет хорошо, — голос капитана звенел в наступившей тишине, — пусть они не горят, не тонут; пусть им всегда хватает воздуха; пусть они всегда всплывают; пусть их ждут на берегу дети, любят жёны, их нельзя не любить, товарищи, их нельзя не любить! — И так у него получалось складно и гладко, и, может быть, в первый раз в жизни его так слушали, может быть в первый раз в жизни он говорил то, что думал; и у людей блестели на глазах слёзы, может быть, в первый раз в жизни с ним такое происходило… У него вдруг перехватило горло, он запнулся, махнул рукой; все задвигались, а какая-то тётка, как и другие, наполовину не понявшая, но видевшая, что человек мается, схватилась ладонью за щёку и забормотала:
— Ох, мамочки, бедные вы мои, бедные…
Пир шёл горой. С капитаном все хотели поцеловаться. Особенно не удавалось вековому деду.
— Гришка! — прорывался он. — Язви тя, ты что, зараза, второй раз лезешь? А ну брысь!
Громадный Гришка, лет шестидесяти, смутился и пропустил старика.
— Ну вот, милай, ну… дай я тебя поцелую!
Потом пели морские песни: «Славное море — священный Байкал», «Варяг»; капитан тут же за столом обучил всех песне «Северный флот не подведёт»…
Вскоре его отнесли на воздух, надели шапку и усадили на лавочке. Он сидел и плакал. Слёзы текли по не бритому ещё с вагона лицу, собирались на подбородке и капали в жадный песок. Он говорил что-то и грозил в темноту — видно, что-то привиделось или вспомнилось, что-то своё, известное ему одному.
Горе сменилось, теперь он хрипло смеялся, мотал худой головой и бил себя по колену; потом повторил раз двадцать: «Помереть на флоте — ни в жисть», упал с лавки, улыбнулся и заснул.
Его подобрали и отнесли в дом, чтоб не застудился. Капитана отпустили через неделю. Он всучил-таки тётке Марии оставшиеся деньги, прибавив от себя. Тётка смущалась, махала руками, говорила, что не возьмёт, что бог её за это накажет.
Его долго вспоминали, желали ему через бога здоровья, счастья в личной жизни и много детей. А вскоре после этого случая в дом к тётке Марии ворвался кто-то в огромной, чёрной шинели, схватил её и затискал.
У тётки остановилось дыхание, она узнала Мишку, курносого, чёрноволосого, как в детстве…
Она вяло отпихнулась от него, села на случившийся табурет и замерла.
Она не слышала, что Мишка орал. Лицо её как-то заострилось, она впервые почувствовала, как бьётся её сердце — бисерной ниточкой. Губы её разжались, она вздохнула: «Бог наказал», — мягко упала с табурета на пол и умерла.
На деревне говорили: «Срок пришёл», а вскрытие показало, что на момент смерти она была совершенно здорова.
Были поминки. Мишка, которому рассказали, что он вроде бы помер, напился и пел в углу; остальные пели «Варяга», «Славное море — священный Байкал» и «Северный флот не подведёт».
Первая часть мерлезонского балета
Что отличает военного от остальных двуногих? Многое отличает! Но прежде всего, я думаю, — умение петь в любое время и в любом месте.
К примеру, двадцать четыре экипажа наших подводных лодок могут в мирное время, в полном уме и свежем разуме, в минус двадцать собраться на плацу, построиться в каре и морозными глотками спеть Гимн Советского Союза.
А в середине плаца будет стоять и прислушиваться, хорошо ли поют, проверяющий из штаба базы, капитан первого ранга.
И прислушивается он потому, что это зачётное происходит пение, то есть — пение на зачёт.
И проверяющий будет ходить вдоль строя и останавливаться, и, по всем законам физики, чем ближе он подходит, тем громче в том месте поют, и чем дальше — тем затухаистей.
Для некоторых будет божьим откровением, если я скажу, что подводники могут петь не только на плацу, но и в воскресенье в казарме, построившись в колонну по четыре, обозначая шаг на месте. Это дело у нас называется «мерлезонским балетом».
— На мес-те… ша-го-м… марш!
И пошли. Раз-два-три… Раз-два-три… Раз-два-три…
— Идти не в ногу…
Конечно, не в ногу. А то потолок рухнет. Обязательно рухнет. Это же наш потолок, в нашей казарме… всенепременнейше рухнет… Раз-два-три… Раз-два-три…
Так мы всегда к строевому смотру готовимся: к смотру с песней; маршируем на месте и песню орем. Отрабатываемся. Спрашиваем только:
— Офицеры спереди?
Нам говорят:
— Спереди, спереди, становитесь.
Становимся спереди и начинаем выть:
— Мы службу отслужим, пойдём по домам…
— Отставить петь! Петь только по команде! Раз-два-три…
Правофланговым у нас рыжий штурман. Он у нас ротный запевала. Он прослужил на флоте больше, чем я прожил, уцелел каким-то чудом, и на этом основании петь любил.
Как он поёт, это надо видеть. Я видел: лицо горит, — на нём, на лице, полно всякой мимики; эта мимика устремляется вверх и, дойдя до какой-то эпической точки, возвращается вниз — ать-два, ать-два! Глотка лужёная, в ней — тридцать два зуба, из которых только тринадцать — своих.
— За-пе-ва-й! — подаётся команда, и тут штурман как гаркнет:
— И тогда! Вода нам как земля!
А мы подхватываем:
— И тогда… нам экипаж семья… И тогда любой из нас не против… Хоть всю жизнь… служить в военном флоте…
Песню для смотра мы готовим не одну, а две. В те времена недалекие песни пелись флотом задорные и удивительные. Вот послушайте, что мы пели в полном уме и свежем разуме:
— Если решатся враги на войну… Мы им устроим прогулку по дну… Северный флот… Северный флот… Северный флот… не подведёт…
И ещё раз…
— Северный флот… плюнь ему в рот, Северный флот… не подведёт… Ну, конечно, «плюнь ему в рот» — это наша отсебятина, но насчёт всего остального — это, извините, к автору.
Правда, положа руку на сердце, надо сказать, что нам, на нашем экипаже, ещё хорошо живется. Грех жаловаться. Мы хоть и в воскресенье уродуемся, но всё же всё это происходит до обеда, и нас действительно домой отпускают, если мы поем прилично, а вот за стенкой у нас живет экипаж Чеботарева — «бешеного Чеботаря», вот там — да-а! Там — кино. Финиш! Перед каждым смотром, каждое воскресенье, они, независимо от качества пения, поют с утра и до 23-х часов. В 23.00 — доклад, и в 23.30 — по домам!
А дома у них в соседней губе. Туда пешком бежать — часа четыре. А в 8 часов утра, будьте любезны, — опять в ствол. Вот где песня была! Вот где жизнь! И койки у нас за стенкой дрожали и с места трогались, когда через переборку звенело:
— Северный флот… Северный флот… Северный флот… не подведёт…
Вторая часть мерлезонского балета
Плац. Воздух льдистый. На плацу — экипажи. Наш экипаж — третий на очереди. Петь сейчас будем. На зачёт.
Мороз с лицами творит что-то невообразимое: вместо лиц — застывшее мясо.
Но план есть план. По плану пение. Плану плевать, что мороз под тридцать.
Над строями стоит пар. Дышим вполгруди: иначе от кашля зайдёшься; как петь — неизвестно.
— Рав-няй-сь! Смир-но! Пря-мо… ша-го-м… ма-рш!
Ну, началось…
Через полчаса все экипажи каким-то чудом песню сдали и — бегом в казарму. А нас третий раз крутят. Не получается у нас. Не идёт песня. В казарме получалась, а здесь — ни в какую.
После третьего захода начштаба машет рукой и говорит командиру:
— Командир! Занимайтесь сами. Предъявите по готовности.
После этого начштаба исчезает.
— Старпом! — говорит командир. — Экипаж уйдёт с плаца тогда, когда споёт нормально! — сказал и тоже исчез.
Остаемся: мы и старпом. Старпом злой как собака. Нет, как сто собак. Лицо у него белое.
— Экипаж! Рав-няй-сь! Одновременный рывок голов! Петров! Я для кого говорю! Отставить. Рав-няй-сь! Смир-но! Ша-го-м! Марш!… Песню… Запе-вай!
— …Если решатся враги на войну…
От холода мы уже не соображаем. Ног не чувствуется: как на дровах идёшь.
— Отставить песню! Раз-два-три! Раз-два-три… Песню запевай!
И так десять раз. Старпом нас гоняет как проклятых. От мороза в глазах стоят слёзы.
— Песню!… Запе-вай!…
И тут — молчание. Строй молчит, как один человек. Не сговариваясь. Только злое дыхание и — всё.
— Песню!… Запе-вай!…
Молчание и топот ног.
— Эки-паж… стой!… Нале-во! Рав-няй-сь! Смир-но! Воль-но! Почему не поём? Учтите, не споёте как положено, не уйдём с плаца. Всем ясно?! Напра-во! Равня-сь! Смир-но! С места… ша-го-ом… марш! Песню… запе-вай!
И молчание. Теперь оно уже уверенное. Только стук ног — тук, тук, тук, — да дыхание. Какое-то время так и идем. Потом штурман густым голосом затягивает:
— Россия… берёзки… тополя… — он поёт только эти три слова, но зато на все лады.
За штурманом подтягиваемся и мы:
— Россия… берёзки… тополя…
Старпом молчит. Строй сам, без команды, поворачивает и идёт в казарму. Набыченный старпом идёт рядом. Тук-тук, тук-тук — тукают в землю деревянные ноги, и до самых дверей казармы несётся:
— Россия… берёзки… тополя…
На заборе
Ночь. Забор. Вы когда-нибудь сидели ночью на заборе? Нет, вы никогда не сидели ночью на заборе, и вам не узнать, не почувствовать, как хочется по ночам жить, когда рядом в кустах шуршит, стучит, стрекочет сверчок, цикада или кто-то ещё. У ночи густой, пряный запах, звёзды смотрят на вас с высоты, и луна выглядывает из облаков только для того, чтоб облить волшебным светом всю природу; и того, на заборе, — волшебным светом. А вдоль забора трава в пояс, вся в огоньках и искрах, и огромные копны перекати-поля, колючие, как зараза.
Командир роты, прозванный за свой нос, репообразность и общую деревянность Буратино, даже не подозревал, что ночью на заборе может быть так хорошо. Он сидел минут двадцать, переодетый в форму третьекурсника, в надежде поймать подчиненных, идущих в самоход.