No Logo. Люди против брэндов Кляйн Наоми
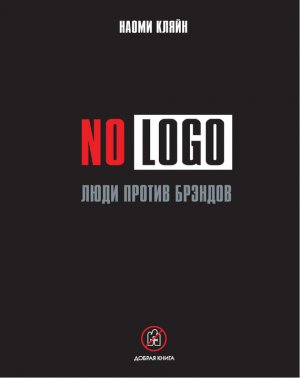
Наиболее изощренные методы «глушения культуры» — это не одиночные пародии на рекламные объявления, а попытки перехвата инициативы — контрпослания, внедрение в корпоративные коммуникации с тем, чтобы получилось послание, находящееся в разительном несогласии с тем, которое предназначалось публике. Этот процесс заставляет компанию оплачивать собственное ниспровержение: либо в буквальном смысле, поскольку платит за рекламный щит сама компания, либо в переносном — всякий раз, когда кто-нибудь хулиганит с брэндом, он пускает на ветер огромные Ресурсы, затраченные на придание этому брэнду смысла и значимости. Калле Ласн, редактор выходящего в Ванкувере журнала Adbusters («Рек-ламобойцы») использует образ восточной борьбы джиу-джитсу в качестве точной метафоры, объясняющей механизм «глушения»: «Одним простым и ловким движением ты толкаешь гиганта в спину. Чтобы одолеть противника, мы используем импульс его собственного движения, его собственную силу». Этот образ заимствован у Сола Алински, который в своей статье «Правила для радикалов» (Rules for Radicals), ставшей «евангелием» общественного активиста, определяет «массовое политическое джиу-джитсу» как «использование энергии одной части властной структуры против другой ее части… превосходящая сила имущих сама становится причиной их гибели» . И вот, повиснув на веревках на крупнейшем в Сан-Франциско рекламном щите — щите Levi's размером в 10x30 метров — и наклеивая поверх изображения портрет серийного убийцы Чарлза Мэнсона[2], группа «глушителей» пытается сделать сообщение, подрывающее авторитет фирмы, о том, какого рода трудовые отношения задействованы в производстве джинсов Levi's. В оставленном на щите заявлении организации «Фронт освобождения рекламных щитов» (Billboard Liberation Front) говорится, что Мэнсон выбран потому, что эти джинсы «сшиты заключенными в Китае и продаются в американские тюрьмы».
Практически бесполезно пытаться проследить корни «глушения культуры» — в большой мере потому, что сама эта деятельность есть не что иное, как мозаика и коллаж из граффити, современного искусства, доморощенной панковской философии и старого как мир шутовства. Использование рекламных щитов в качестве холста художника тоже не является новой революционной тактикой. Сан-францисский «Фронт освобождения рекламных щитов», ответственный за «глушение» Exxon и Levi's, занимается пародийной переделкой рекламы вот уже 20 лет, а австралийский «Союз граффитчиков, использующих рекламные щиты в борьбе против рекламы товаров, вредных для здоровья» (Billboard Utilizing Graffitists Against Unhealthy Promotions — BUG-UP) достиг пика своей активности еще в 1983 году, когда в Сиднее и его окрестностях нанес табачным рекламным щитам беспрецедентный ущерб в миллион долларов.
— Термин «глушение культуры» (culture jamming) был придуман в 1984 году группой музыкантов из Сан-Франциско Negativland, специализирующейся на создании акустических коллажей. «Умело переделанный рекламный щит… обращает внимание общества на исходную стратегию корпорации», — говорит с обложки альбома Jamcon'84 один из участников группы. Сравнение с джиу-джитсу «глушителей» устраивает меньше: они, по их утверждениям, не извращают содержание объявлений, а, скорее, совершенствуют, редактируют, корректируют и обнажают смысл. «Это — экстремальная степень правдивости рекламы»[3], — говорит мне один дизайнер, создающий рекламные плакаты. Хорошее «глушение», иными словами, — это рентген подсознания рекламной кампании, не вносящий в нее противоположный смысл, а раскрывающий более глубокую истину, зарытую под наслоениями рекламных эвфемизмов. Так, согласно этим принципам, Джо Кэмел, персонаж с рекламы сигарет Camel, превращается в Джо Химио, онкологического больного, лежащего под капельницей. Ведь это его будущее, разве нет? Или тот же Джо показан лет на пятнадцать моложе своего обычного «цветущего» возраста (как на плакате, с. 352). Как и Малышка Смерф[4], это «Раковое дитя» очень хорошенькое и аппетитное, а играет оно вместо спортивных автомобилей и бильярдных киев в кубики. А почему бы и нет? Ведь до того, как табачная компания R. J. Reynolds достигла соглашения с сорока шестью штатами о выплате им 206 миллиардов долларов[5], американское правительство обвиняло ее в том, что она использует «мультяшного» верблюда для того, чтобы соблазнять подростков на курение. Так почему бы, спрашивает «глушитель культуры», не пойти дальше и не обратиться к еще более юным потенциальным курильщикам? Рекламная кампания фирмы Apple computers с ее лозунгом «Думай иначе», в которой фигурировали знаменитые личности как из числа живущих, так и покойные, подверглась ряду крайне простых нападок: надпись под фотографией Сталина превратилась в «Думай совсем иначе», лозунг на плакате с изображением Далай-ламы — «Думай, разрушая иллюзии», товарный знак Apple — разноцветное яблоко — превращен в череп (см. фото на с. 428). Моя любимая кампания в поддержку правдивости рекламы — простая пародия на рекламный слоган нефтяной компании Exxon, появившаяся вскоре после возникновения гигантского нефтяного пятна в результате крушения танкера Valdez в 1989 году: «Обосрались. Новый Exxon» — сообщали миллионам едущих по шоссе людей два возвышающихся над ним щита.
Еще в мае 1968 года Ги Дебор и другие ситуационисты[6] — вдохновители и теоретики беспорядков среди парижского театрального студенчества — впервые озвучили мысль о силе простого detournement, определяемого как выхватывание образа, высказывания или любого артефакта из его контекста и придание ему нового смысла. Но хотя «глушители культуры» не стесняясь заимствуют у авангардистских художественных течений прошлого — от дадаизма и сюрреализма до концептуализма и ситуационизма, — те революционные художники нападали в принципе на мир искусства и его культуру пассивного созерцательства и, конечно же, на чуждый «радостям жизни» общий дух капиталистического общества. Для многих французских студентов конца 60-х годов врагом была закостенелость и конформизм «Служащего Компании»; сама же компания интересовала их в конечном итоге гораздо меньше. И тогда как си-туационист Асгер Йорн ляпал краской на пасторальные картинки, купленные на «блошином» рынке, нынешние «глушители культуры» предпочитают вмешиваться в корпоративную рекламу и другие средства корпоративных коммуникаций. Если их высказывания более политически направлены, чем у предшественников, то это, вероятно, потому, что лозунги, которые в 60-х годах казались действительно подрывными («Не работай!», «Запрещать запрещается!», «Прими свои мечты за действительность!»), нынче созвучны, скорее, лозунгам Sprite или Nike — возьми, мол, и почувствуй. А «ситуации» или хэппенинги, устраивавшиеся политическими хулиганами в 1968 году, в свое время действительно шокирующие и разрушительные, теперь выглядят точь-в-точь как рекламный плакат водки Absolut 1998 года: одетые в пурпур студенты художественного училища штурмуют бары и рестораны, размахивая бутылками.
В 1993 году Марк Дери написал «Глушение культуры»: хакеры, громилы и снайперы в империи символов" — брошюру, изданную в серии Open Magazine Pamphlet Series. «Глушение», считает Дери, включает в себя такие эклектические комбинации театра и общественной активности, как Guerrilla Girls («Партизанки»), которые, чтобы привлечь внимание общества к вытеснению женщин-художников из мира искусств, проводили демонстрации у входа в Музей американского искусства им. Уитни в масках горилл; Джойи Скэгг, устроивший бесчисленное количество мистификаций в средствах массовой информации; Артфакс, затеявший ритуальное сжигание чучела архиреспубликанца Джесси Хелмса на Капитолийском холме. «Глушение культуры», объясняет Дери, это, по сути дела, все, что совмещает искусство, средства информации, пародию и взгляд извне. Но внутри этих субкультур всегда имело место противостояние между веселыми хулиганами и закоренелыми революционерами. Тем не менее возникает неотступный вопрос: являются ли развлечение и удовольствие сами по себе действиями революционными, как станут утверждать ситуационисты? Является ли искажение потока культурной информации подрывным действием по самой своей природе, как стал бы доказывать Скэгг? Или, может быть, смесь искусства с политикой — это просто вопрос необходимости, и нужно, перефразируя Эмму Голдман[7], снабдить революцию хорошей звуковой системой?
«Глушение культуры» — подводное течение, которое никогда не умирает окончательно, а в последние пять лет оно, несомненно, переживает новое рождение, причем в такой ипостаси, которая больше занята политикой, чем веселым хулиганством. Для все большего числа молодых активистов «рекламо-борчество» представилось идеальным средством высказать осуждение в адрес транснациональных корпораций, которые так навязчиво преследуют их, этих активистов, как потребителей и столь бесцеремонно бросаются ими как работниками. Под влиянием таких теоретиков массовой информации, как Наум Хомски, Эдвард Херман, Марк Криспин Миллер, Роберт Макчесни и Бен Бегдикян, каждый из которых занимался проблемами корпоративного контроля над потоками информации, «рекламобойцы» пишут теорию на улицах, в буквальном смысле слова разрушая корпоративную культуру с помощью несмываемого маркера и ведра с клейстером.
«Глушители» ведут свое происхождение из самых разнообразных кругов — от правовернейших марксистов-анархистов, отказывающих в интервью представителям «корпоративной прессы», до тех, кто, подобно Родри-гесу де Джерада, работает днем в рекламной индустрии (как это ни смешно, он зарабатывает на жизнь установкой рекламных плакатов и монтажом витрин магазинов), но при этом изнывает от желания использовать свое мастерство, чтобы высказывать то, что считает конструктивным. Кроме всем заметной вражды между этими двумя лагерями единственная идеология, перекрывающая весь спектр «глушения культуры», — это вера в то, что свобода слова становится бессмысленным понятием, если за ревом коммерчес-ко-рекламной какофонии тебя никто не слышит. «Я считаю, что у каждого должен быть свой рекламный щит, но ведь его нет», — говорит Джек Нейпир (псевдоним) из «Фронта освобождения рекламных щитов».
На другом, более радикальном конце спектра располагается возникшая недавно сеть «медийных коллективов», децентрализованная и анархичная, сочетающая «рекламоборчество» с изданием журналов, частным радио, распространением видеоматериалов, использованием Интернета как медиа-среды и общественной деятельностью на местном уровне. Подразделения этой сети появились в Талахасси, Бостоне, Сиэтле, Монреале и Виннипеге; часто от них отпочковываются новые организации. В Лондоне, где «рекламоборчество» называют словом subvertising (возникшее из комбинации subversion — «подрыв» и advertising — «реклама»), сформировалась новая группа UK Subs в честь панк-группы 70-х годов с тем же названием. А в последние два года к «глушителям» из реального мира присоединилась глобальная сеть он-лайновых «хактивистов» с их буйными набегами в Интернете, главным образом взламывающих корпоративные сайты и оставляющих повсюду собственные сообщения.
Все больше групп, относящих себя к мейнстриму, начинают присоединяться к маргинальной деятельности. Американский профсоюз водителей грузовиков недавно воспылал страстью к «рекламоглушению» и стал использовать его для организации общественной поддержки бастующих рабочих в недавних трудовых конфликтах. Например, пивоваренный гигант Miller Brewing оказался мишенью после увольнения рабочих с завода в Сент-Луисе. Профсоюз взял в аренду рекламный щит, на котором изобразил пародию на проходившую тогда кампанию фирмы Miller. По описанию в журнале Business Week, вместо двух бутылок пива в сугробе с надписью «Два похолоднее» на плакате изображались двое замерзших рабочих в сугробе и надпись: «Куда уж холоднее: Miller законсервировала 88 сент-луисских рабочих». По словам профсоюзного деятеля Рона Карве-ра, «… такие действия представляют угрозу для рекламной кампании стоимостью в миллионы долларов».
Один заметный случай «глушения культуры» произошел осенью 1997 года, когда нью-йоркское противотабачное лобби заплатило за сотни рекламных установок на крышах такси с «рекламой» Virginia Slime и Cancer Country[8]. Во всех автомобильных пробках Манхэттена на крышах желтых такси «заглушённая» реклама соревновалась с реальной.
Новое рождение «глушения культуры» имеет прямое отношение к ставшим доступными технологиям, сделавшим несравненно более легкими и производство, и распространение рекламных пародий. Пусть Интернет и завален новыми смелыми формами брэндинга, но он также полон сайтов, предоставляющих ссылки к «глушителям культуры» по всем городам Северной Америки и Европы, рекламные пародии для мгновенного скачивания и электронные версии «неглушеных» рекламных объявлений, которые можно закачать на рабочий стол собственного компьютера или «заглушить» прямо на месте. С точки зрения Родригеса де Джерады, возможности, предоставляемые «рекламохакерам» издательскими программами и оборудованием для оперативной полиграфии, — это настоящая революция. На протяжении последнего десятилетия, говорит он, «глушение культуры» сдвинулось с «низкотехнологичного к среднетехнологичному и к высокотехнологичному», поскольку сканеры и такие программные пакеты, как Photoshop, теперь позволяют в точности воспроизводить цвета, шрифты и сами материалы. «Я знаю множество разных способов сделать так, чтобы они выглядели как напечатанные заново с новым содержанием, а не так, будто кто-то пришел к ним с баллоном аэрозольной краски».
Различие принципиальное. Тогда как граффити традиционно стремится оставить диссонирующее пятно на холеном лице рекламы (или, пользуясь образом Negativland, «прыщ на ретушированном лице Америки с журнальной обложки»), содержательные образы Родригеса де Джерады задуманы так, чтобы сливаться с образцом, заимствуя у него визуальную правомерность. Многие из его «редакций» слились с целью так удачно, что измененные щиты выглядели совершенно как настоящие, но только с новой идеей, захватывающей зрителя врасплох. Даже детское личико, что он выставил в Алфавит-сити, не являющееся традиционным пародийным «глушением», было отпечатано на той же самоклеющейся виниловой пленке, с помощью которой рекламисты без всяких швов покрывают корпоративными логотипами автобусы и целые здания. «Техника позволяет нам использовать эстетику Мэдисон-авеню против нее самой, — говорит он. — Это самый важный аспект в работе новой волны людей, использующих такую „партизанскую“ тактику, потому что это и есть то, к чему привыкло поколение MTV: все должно быть кричащим, ярким и чистым. Если потратишь время и сделаешь качественно, твою работу не проигнорируют».
Другие считают, что «глушению» незачем быть таким высокотехнологичным. Торонтский художник-перформансист Джубал Браун создал новый визуальный вирус для крупнейшего в Канаде «щитобойного» блицкрига с помощью одного-единственного маркера. Он научил своих друзей, как исказить и без того уже исхудавшие лица моделей, — зачерни маркером глаза, нарисуй поверх рта замок-молнию и — айн-цвай-драй — череп готов! Особенно плавно вписывалась подобная «пластическая хирургия» в теорию «правдивости рекламы» для «глушителей» женского пола: раз крайняя худоба есть идеал красоты, почему бы не пойти до конца, до эстетики зомби, и не представить рекламистам несколько моделей оттуда, непосредственно из могилы? Для Брауна же, скорее нигилиста, чем феминиста, «черепование» было лишь способом подчеркнуть культурную нищету спонсированной жизни. (Плакат Брауна, выставленный в одной из частных художественных галерей Торонто, гласит: «Купи Купи Купи! Умри Умри Умри!».) Первого апреля 1997 года десятки людей отправились на «череповальную» миссию и подпортили сотни щитов на оживленных торонтских улицах (см. фото на с. 428). Их рукоделие перепечатал журнал Adbusters, посодействовав этим распространению идеи Брауна в городах по всей Северной Америке.
Никто не гонит эту волну с такой силой, как Adbusters, журнал, называющий себя печатным органом «глушителей культуры». Его редактор Калле Ласн, выражающийся исключительно на эко-жаргоне своего журнала, любит повторять, что мы являемся культурой «с наркотическим пристрастием к токсинам», отравляем свой организм, свою «ментальную окружающую среду» и свою планету. Он считает, что из искры «рекламоборчества» когда-нибудь разгорится «сдвиг парадигмы» в общественном сознании. Журнал издает расположенный в Ванкувере фонд Media Foundation, начав в 1989 году с 5-тысячного тиража. Сегодня он расходится в 35 тысячах экземпляров, из них 20 тысяч — в США. Фонд также продюсирует «не-рекламные объявления» для телевидения, в которых звучат обвинения в адрес «индустрии красоты» (ее обвиняют в том, что она провоцирует расстройства питания), нападки на чрезмерное потребительство североамериканцев и призывы сменить автомобили на велосипеды. Большинство телестудий Канады и США отказываются пускать эти ролики в эфир, что дает фонду прекрасный повод подавать на них в суд и использовать судебные слушания для привлечения внимания прессы к своим представлениям о более демократичных, доступных для широкой публики средствах массовой информации.
«Глушение культуры» переживает новое рождение не только благодаря техническому прогрессу, но еще и в силу старого доброго закона спроса и предложения. Что-то в общественной психике, не слишком удаленное от ее поверхности, наслаждается видом подорванной и осмеянной корпоративной власти. Короче говоря, все это имеет рынок сбыта. В условиях, когда меркантилизм способен ниспровергнуть традиционный авторитет религии, политики и школы, корпорации стали выступать естественной мишенью для всякого рода проявлений несдерживаемого гнева и бунтарства. Новый нравственный идеал, который вдалбливает «глушение культуры», это — «Врежь корпорациям в слабое место». «Государства отступили, а корпорации стали новым общественным институтом», — говорит антикорпоративный активист Джагги Синг, живущий в Монреале. «Люди просто отзываются на иконографию нашего времени», — идет дальше американский профсоюзный лидер Трим Бисселл, объясняя, что почву для антикорпоративных атак подготовили ненасытная экспансия таких сетей, как Starbucks, и агрессивный брэндинг таких компаний, как Nike. «Существуют корпорации, которые осуществляют свой маркетинг с такой агрессивностью, так сильно нацелены проштамповать своим образом каждого из нас и каждую без исключения улицу, что переполнили чашу терпения мыслящих людей, — говорит он. — Нас возмущает уничтожение культуры и ее замещение этими корпоративными логотипами и лозунгами массового производства. Это своего рода культурный фашизм».
Большинство супербрэндов, конечно, прекрасно осознают, что та самая система идей и образов, которая принесла им миллиардные доходы, вполне способна поднять внутри культуры совсем другие, не предусмотренные ими волны. Еще задолго до начала серьезной антинайковской кампании CEO Nike Фил Найт прозорливо заметил, что «существует обратная сторона возбуждаемых нами чувств и того колоссального источника эмоций, который нас кормит. Так или иначе, но эмоции подразумевают наличие своей противоположности, и на том уровне, на котором мы действуем, реакция — нечто гораздо большее, чем преходящая мысль». Реакция — это также и нечто гораздо большее, чем каприз моды, из-за которого некий конкретный образец «хипповых» кроссовок вдруг начинает выглядеть идиотски, а заигранная до смерти популярная песенка в течение одного дня становится невыносимой для слуха. В своих лучших проявлениях «глушение культуры» обитает на обратной стороне вышеупомянутых брэндовых эмоций и переориентирует их: не так, чтобы заменить их жаждой новых сенсаций из области моды или массовой культуры, а чтобы постепенно направить на сам процесс брэндинга.
Трудно сказать, насколько сильно рекламодатели боятся погромов. Хотя Американская ассоциация национальных рекламодателей (U. S. Association of National Advertisers) отнюдь не стесняется от лица своих членов давить на полицию с целью принятия мер против «рекламоборцев», она, как правило, неохотно доводит обвинения против них до суда. И это, пожалуй, мудро. Хотя компании пытаются изображать «глушителей» как «самодеятельных цензоров» общественных коммуникаций и средств массовой информации, они знают: публике не потребуется много времени, чтобы решить, что именно рекламодатели подвергают цензуре творческое самовыражение «глушителей».
Крупнейшие мировые брэнды спешат подавать иски о нарушении своих прав на торговые марки и охотно тащат друг друга в суд за пародирование своих лозунгов и товаров (как сделала Nike, когда обувная фирма Candies взяла на вооружение слоган «Возьми и уделай» —Just Screw It), но они гораздо менее настроены вступать в судебные баталии, которые окажутся битвами скорее на политической, чем на юридической почве. «Никому не хочется попадать в центр внимания и становиться мишенью общественного протеста и бойкота», — сказал журналу Advertising Age один босс рекламного бизнеса. И даже больше — корпорации справедливо видят в «глушителях» неистовых искателей внимания и научились избегать всего, что могло бы вызвать освещение прессой их собственных грехов. Так вышло, например, когда в 1992 году производители водки Absolut пригрозили подать в суд на Adbusters за пародию Absolut Nonsense («Абсолютный вздор»), но немедленно замолчали, когда публикация журнала вызвала широкую дискуссию в прессе и начались открытые дебаты о вреде алкоголя.
Точно так же и юристы Pepsi, к немалому удивлению группы Negativland, никак не откликнулись на ее антипоп-альбом 1997 года Dispepsi, состоящий из искромсанных, «глушеных», исковерканных и изуродованных рекламных песенок Pepsi. Одна песня издевается над рекламой тем, что название напитка в ней перемешано с самыми различного рода неприятными образами: «Меня избили на мосту. Пепси/ Я Христа прибил к кресту. Пепси/…» и так далее. Когда журнал Entertainment Weekly спросил об отношении Pepsi к этому альбому, корпорация ответила, что это «вполне приятно для слуха».
Существует связь между выражаемой «глушителями» усталостью от рекламы и яростными нападками на царящие в СМИ сексизм, расизм и гомофобию, бывшими в моде в конце 80-х и начале 90-х годов, когда я училась в университете. Пожалуй, эта связь лучше всего прослеживается в развивающихся взаимоотношениях между феминизмом и миром рекламы, особенно в связи с тем, что это движение заслуживает признания как подготовившее почву для многих направлений современной критики практики брэндинга. Как замечает Сюзан Даглас в своей книге «С чего начинаются девушки» (Where the Girls Are), "ни одно из общественных движений 60-х и 70-х годов не было столь однозначно антипотребительским, как женское движение. Феминистки подвергали нападкам рекламные кампании таких товаров, как Pristeen и Silva Thins[9], и, отвергая косметику, модную одежду и безукоризненно чистые полы, отрицали необходимость вообще покупать некоторые товары". Дальше — больше: когда в 1990 году вновь стал выходить журнал Ms., издатели приняли вмешательство рекламодателей в редакционный процесс настолько всерьез, что сделали беспрецедентный шаг, вообще запретив на своих страницах рекламу ради прибыли. А заключительный раздел журнала «Без комментариев» (No Comment) — галерея сексист-ских рекламных объявлений, перепечатанных из других изданий, — остается одним из авторитетнейших «рекламоборческих» форумов.
Многие «глушительницы культуры» говорят, что впервые заинтересовались происками маркетинга благодаря критическим выступлениям против индустрии красоты, которые послужили им как бы «введением в феминизм». Может быть, они начали с того, что писали слова «покорми меня» поверх изображений тощих моделей рекламы Calvin Klein на автобусных остановках, как это делали члены состоящей из постоянно разъезжающих на скейтбордах старшеклассников Bitch Brigade («Сучьей бригады»). А может, им попался в руки экземпляр журнала Номи Лэмм I'm So Fucking Beautiful («Зашибись, как я прекрасна»), или они наткнулись на интерактивную игру Feed the Super Model («Накорми супермодель») на официальном Интернет-сайте RiotGirl. Или, быть может, они, как торонтская Карли Стаско, начали с девчоночьего «самиздата». Стаско, девушка двадцати одного года от роду, — человек-фабрика альтернативного имиджа: ее карманы и сумки переполнены наклейками с «глушеной» рекламой, экземплярами ее последних журналистских экзерсисов и рукописными листовками о достоинствах «партизанского садоводства». А когда Стаско не изучает семиотику в Торонтском университете, не сеет семена подсолнуха на заброшенных городских участках и не выпускает собственные журналы, она преподает в местных альтернативных школах, уча четырнадцатилетних тому, как они тоже могут вырезать и наклеивать свои собственные «культуроглушилки».
Интерес к маркетингу появился у Стаско тогда, когда она осознала, до какой степени современные понятия о женской красоте, которые в значительной степени отражаются в СМИ и в рекламе, заставляют ее саму и ее сверстниц чувствовать себя неуверенными и неадекватными. Но в отличие от моего поколения феминисток, которые на подобные же открытия отвечали призывами к введению цензуры и просветительских программ, Стаско попала в вихрь помешательства на самиздате, бушевавший в середине 90-х. Еще будучи тинейджером, она начала издавать Uncool («Неклево»), тиражируемый на копировальных аппаратах журнал, пестрящий коллажами из накромсанных анкет женских журналов, «глушеной» рекламы тампонов, манифестов о «глушении культуры» и — в одном из номеров — рекламой «Философской Барби» на всю страницу. «Что было раньше, — вопрошает у нее Барби, — красота или миф?» или «Если я сломаю ноготь, но при этом сплю, — это все равно перелом?». Стаско говорит, что процесс выпуска собственного средства информации, возложение на себя миссии и голоса пропагандиста и проникновение за фасад рекламной культуры помогли ей избавиться от гнетущего воздействия рекламы. «Я поняла, что могу использовать те же средства, что и СМИ, но для пропаганды собственных идей. Это и вырвало из СМИ разящее меня жало, потому что я поняла, как легко это делается».
Хотя Родригес де Джерада на десять лет старше Стаско, на его пути к «глушению культуры» встречались столь же крутые повороты. Член группы основоположников отряда политического искусства Artfux, он начал свою деятельность «рекламобойца» одновременно с поднявшейся в негритянских и латиноамериканских общинах США волной против рекламы алкоголя и табака. В 1990 году, через тридцать лет после того, как National Association for the Advancement of Colored People (Национальная ассоциация за выдвижение цветных) начала давить на сигаретные компании, чтобы они использовали в своей рекламе больше чернокожих моделей, в нескольких американских городах началось инициированное церковью движение, обвинившее эти же самые компании в эксплуатации негритянской нищеты: они, мол, сделали обитателей городских трущоб основной целевой аудиторией в маркетинге своих смертоносных товаров. Как и полагается в наше время, внимание переместилось с тех, кто изображается на рекламных плакатах, на сами рекламируемые товары. Преподобный Калвин О. Баттс из Абиссинской баптистской церкви в Гарлеме выводил своих прихожан на войну против рекламных щитов — они закрашивали расположенные вокруг своей церкви плакаты с рекламой сигарет и алкоголя. Другие священники поддержали эту борьбу в Чикаго, Детройте и Далласе.
«Рекламоборчество» преподобного Баттса состояло в том, что до провинившихся щитов дотягивались малярными роликами на длинных шестах и забеливали изображение. Это было вполне эффективно, но Родригес де Джерада решил применить более творческий подход — заменять рекламные послания компаний собственными, более убедительными — и политическими — идеями. Искусный художник, он тщательно ретушировал лица моделей в рекламе сигарет так, что они начинали выглядеть осунувшимися и больными. Он заменял стандартные предупреждения Министерства здравоохранения собственными посланиями: «Министерство здравомыслия предупреждает: черные и латинос — главные козлы отпущения за распространение нелегальных наркотиков и основные мишени для наркотиков легальных».
Подобно многим другим ранним «глушителям культуры», Родригес де Джерада скоро распространил свою критику дальше, не ограничиваясь рекламой табака и алкоголя, и включил в ее сферу массированные рекламные бомбардировки и критику меркантилизма в целом; во многом он может поблагодарить за свою политическую эволюцию амбициозность самого брэндинга. По мере того как дети трущоб стали резать друг другу глотки за шмотки от Nike, Polo, Hilfiger и Nautica, становилось ясно, что табачные и алкогольные компании — не единственные на рынке, кто паразитирует на стремлении бедных детей вырваться на волю. Как мы уже видели, авторы этих модных наклеек так успешно поймали обездоленную детвору на своих демонстрациях красивой жизни — загородных клубов, яхт, знаменитых суперзвезд, — что одежда с логотипами в некоторых частях «глобальной деревни» стала и талисманом, и оружием. Тем временем молодые феминистки поколения Карли Стаско, чье чувство несправедливости было разбужено «Мифом о красоте» Наоми Вульф и документальным фильмом «Убивая нас втихую» Джин Килбурн, тоже проходили через приступы обжорства вокруг культуры «поколения X», альтернативной, хип-хоповой и прочих субкультур. Постепенно многие из них живо осознали, что маркетинг поражает кварталы и сообщества не только тем, что опошляет их, но и тем, что — с не меньшей силой — будоражит, преследует и давит. Это был заметный сдвиг между предыдущим поколением феминисток и следующим. Так, когда в 1990 году журнал Ms. стал выходить без рекламы, считалось, что ее тлетворное влияние, от которого Глория Стайнем и Робин Моргаджи решили избавить свое издание, было специфически женской проблемой. Но по мере того как общественные движения за права меньшинств смешиваются с нарастающей критикой корпоративной власти, требования реформировать сомнительные рекламные кампании сменились вопросом о том, имеют ли рекламодатели право вообще влезать во все углы и закоулки нашей физической окружающей среды и вторгаться в нашу душевную и культурную жизнь: речь пошла об исчезновении свободного пространства и невозможности осмысленного выбора. Рекламная культура продемонстрировала свою замечательную способность впитывать, приспосабливать к своим нуждам и даже прибыльно использовать критику своего содержания. В таких обстоятельствах стало предельно ясно, что единственный удар, который может сотрясти эту весьма гибкую отрасль, — это удар, направленный не на симпатичных людей с картинок, а на корпорации, которые их оплачивают.
Так маркетинг стал для Карли Стаско скорее вопросом защиты окружающей среды, чем пола или самооценки, а ее окружающая среда — это улица, университетский кампус и медиа-культура, в которых протекает ее, горожанки, жизнь. «Это мое окружение, — говорит она, — и их реклама обращена ко мне. Если эти образы могут оказывать влияние на меня, я тоже имею право влиять на них в ответ».
Для многих студентов, взрослевших в конце 90-х годов, поворотный момент от сосредоточенности на содержании рекламы к практическим занятиям ее формой случился в самом укромном месте — в их университетском туалете, при созерцании рекламы автомобилей. «Сортирная» реклама впервые появилась на североамериканских кампусах в 1997 году и с тех пор непрерывно распространяется. Как мы уже видели в пятой главе, администраторы, позволившие рекламе прокрасться на кампусы, утешали себя тем, что молодежь и так бомбардируют меркантилистскими внушениями, так что парочка лишних их не убьет, а зато выручка поможет финансировать ценные учебные программы. Но всегда находится соломинка, которая способна переломить спину верблюду, и для многих студентов ею оказалась реклама в туалете.
Ирония, разумеется, состоит в том, что, с точки зрения рекламистов, данная область рекламного бизнеса давно пребывала в состоянии нирваны. Ну, круче этого могла бы быть только имплантация рекламы прямо под веки, а так чем еще на свете можно столь зачаровать молодежный рынок, как не рекламой в студенческих туалетах! Но вот, с точки зрения студентов, не было более буквальной метафоры сворачивающегося в «кокон» рекламного пространства, чем плакат компании Pizza Pizza или автомобиля Chrysler Neon, уставившийся на них со стены над писсуаром или с двери туалетной кабинки. И это именно то обстоятельство, благодаря которому порочная практика брэндинга сама создала условия для того, чтобы сотни североамериканских студентов сделали первый неуверенный шаг на пути к прямой а нтикорпоративной общественной деятельности.
Теперь, оглядываясь назад, университетские власти должны понять, каким уморительным заблуждением было решение размещать рекламу в туалетных кабинках. Именно там, как известно испокон века, учащиеся достают из сумочек карандаши для подведения глаз, царапают отчаянные любовные признания, распространяют необоснованные слухи, проводят дебаты об абортах и делятся глубокими философскими откровениями. Когда явились эти мини-щиты, туалет стал первым по-настоящему безопасным местом, где можно было свести свои счеты с рекламой. В один миг направление изучающего взгляда маркетологов на представителей «целевой группы» сквозь односторонне-прозрачное стекло изменилось на противоположное и представители целевой аудитории сами взяли на мушку людей по ту сторону стекла. Самый яркий творческий отклик пришел от студентов Торонтского университета. Несколько старшекурсников устроились на неполный день в компанию, занимающуюся размещением рекламных щитов в туалетах, и все время очень удачно «теряли» специальные отвертки, с помощью которых легко открывались пластмассовые рамы — около четырехсот, — в которых помещались рекламные плакаты. Довольно скоро группа, называвшая себя «Обществом почитателей Эшера», стала вскрывать «защищенные от взлома» «невскрываемые» рамы и заменять рекламу гравюрами Мориса Корнелиуса Эшера[10]. Вместо того чтобы обновлять в памяти последние достижения Chrysler или новые сорта пива от Molson, студенты могли учиться ценить творчество голландского графика — выбранного, по признанию «эшеритов», потому, что его геометрические образы хорошо копируются.
«Сортирная реклама» сделала безошибочно ясным для целого поколения студенческих активистов, что им не нужна еще более крутая, прогрессивная или многообразная реклама, а больше всего им надо, чтобы она время от времени затыкалась. Дебаты на кампусе стали перемещаться с оценки содержания рекламы на то обстоятельство, что от ее всепроницающего взора стало уже негде спрятаться.
Конечно, среди «глушителей культуры» есть и такие, чей интерес к рекламе не столько органичен этому новому духу антибрэндовых начинаний, сколько сродни поборникам нравственности времен политической корректности. Временами журнал Adbusters воспринимается как всего лишь чуть более крутой вариант социальной рекламы о том, как противостоять нажиму со стороны сверстников, или о том, что надо учиться Беречь, Экономить и Утилизировать (Reduce, Reuse and Recycle). Журнал способен быть язвительно-остроумным, но его нападки на никотин, алкоголь и рестораны быстрого питания бывают банальными и повторяющимися. «Глушилки», в которых Absolut Vodka заменена на Absolut Hangover («Абсолютное похмелье»), а сигареты Ultra Kool на Utter Fool («Полный дурак»), вполне способны оттолкнуть потенциальных сторонников, которые сочтут, что журнал переходит тонкую грань между гражданским неповиновением информационного века и пуританским перстом, указующим и грозящим. Марк Дери, автор оригинального манифеста «глушителей культуры», раньше писавший для этого журнала, говорит, что ударение на антипьянстве, антикурении и антифаст-фуде воспринимается теперь как чтение нотаций детишкам, будто бы «массам» нельзя доверять «контроль над своими желаниями».
В опубликованной журналом New Yorker статье «Большая распродажа» Джон Сибрук рассуждает о феномене «маркетолога в себе». Он убедительно показывает, что нарождающееся поколение художников уже не будет озабочено старыми нравственными дилеммами типа «продавать себя или не продавать»: они изначально служат ходячими описаниями собственных «товарных» достоинств, интуитивно понимая, как производить заранее расфасованное искусство и как быть собственным брэндом. «Художники следующего поколения будут творить, имея в себе встроенный маркетинговый барометр. Автор как маркетолог и художник в комплекте; вершина вертикальной интеграции».
Сибрук прав в своем наблюдении, что размах такой демонстрации собственных достоинств непосредственно впаян в мозг многих молодых художников, но ошибается, полагая, будто встроенный маркетинговый барометр будет использован только для стяжания славы и богатства в индустрии массовой культуры. Как указывает Карли Стаско, многие из тех, что росли уже в «проданном» мире, настолько приучены к агрессивному давлению маркетинга, что стоит им услышать или прочесть новый лозунг, как они начинают в уме играть с ним. Так делает и сама Стаско. Она считает, что у каждого внутри сидит «рекламобоец» и новая рекламная кампания для него — задачка, ждущая для своего решения нужной «глушилки». И то умение, о котором говорит Сибрук, позволяющее художнику самому написать «пресс-прилиз» к собственному вернисажу, а музыканту выдавать наполненные метафорами биографические заметки о самом себе, — это и есть то самое качество, которое отличает ловкого «глушителя культуры». «Глушитель культуры» — это художник, действующий как аияшмаркегголог, который мобилизует опыт детства, наполненного рекламой Trix, и отрочества, проведенного в наблюдениях за тем, какие брэнды постоянно светятся в телешоу Seinfeld, чтобы теперь вмешиваться в систему, когда-то считавшую себя особой прикладной наукой. Джейми Бэтси, «хактивист» из Торонто, формулирует это так: «Рекламодатели и прочие законодатели моды должны теперь столкнуться с новым поколением активистов, которые начали смотреть телевизор, еще не научившись ходить. Это поколение хочет получить свои мозги обратно, а средства массовой информации для них — родная стихия».
«Глушители культуры» тянутся к миру маркетинга, как мотыльки к пламени, и глянцем, которого они достигают в своей работе, обязаны именно тому, что по-прежнему чувствуют влечение — пусть и глубоко неоднозначное — к зрелищности СМИ и к магии искусства убеждать. «Я думаю, что многие из тех, кто занимается подрывной деятельностью против рекламы, в свое время сами хотели быть рекламистами», — говорит Керри Макларен, редактор нью-йоркского журнала Stay Free!. Это проглядывает в ее собственных «заглушках», которые отличаются безукоризненной формой и дикостью содержания. В одном из номеров журнала антиреклама на полный разворот показывает избитого ребенка, лежащего ничком на цементном полу, босого. В углу изображен человек, убегающий с его кроссовками Nike. Надпись гласит: Just do it («Просто сделай это»).
Нигде чуткое к рекламным лозунгам ухо «рекламоборцев» не используется так эффективно, как в пропаганде самого «рекламоборчества», чем можно объяснить то обстоятельство, что вернейшие адепты «глушения культуры» часто звучат как странная помесь продавца подержанных автомобилей с заслуженным профессором семиотики. Уступая в этом разве что интернетовским барышникам и рэпперам, «рекламобойцы» склонны к такой неуемной браваде и самопропаганде, что порой это граничит с обыкновенной глупостью. Излюбленный прием — провозглашать себя сыном, или дочерью, или внуком, или хотя бы незаконнорожденным потомком Маршалла Маклюэна[11]. Очень модно преувеличивать могущество клейстера и хорошего анекдота. И собственное могущество тоже: например, один «культуроглушительный» манифест объясняет, что «задача дизайнера рекламы — точно прицелившись, забросить гаечный ключ в шестеренки механизма средств массовой информации, чтобы вся эта фабрика образов дрогнула и остановилась».
Журнал Adbusters довел это самовосхваление до таких крайних степеней, что соперничающие «глушители культуры» возмутились. Особенно тошнотворна для критиков продажа через этот журнал серии товаров для так называемой антипотребительской деятельности, из-за которой он стал не столько центром обмена информацией между активистами «глушения культуры», сколько «магазином на диване» по продаже «рекламобойных» аксессуаров. Список выставленных на продажу «инструментариев» включает в себя плакаты, видеокассеты, наклейки, открытки; самое забавное, что раньше журнал продавал календари и футболки ко «Дню без покупок», но здравый смысл все же возобладал. «То, что из всего этого получается, нельзя назвать альтернативой нашей потребительской культуре, — пишет Керри Макларен. — Это просто еще один брэнд». Ее ванкуверские соратники по «глушению» из Guerrilla Media (GM) в своем информационном буклете делают по Adbusters более ехидный выстрел: «Мы обещаем, что не будем предлагать вам календари, брелоки и чашки с логотипом GM. Впрочем, мы пока еще работаем над проблемой производства тех футболок, что нам заказали некоторые из вас: подыскиваем подходящий потогонный конвейер для их выпуска».
Эти атаки во многом похожи на те, которым подвергается каждая панк-группа, подписавшая контракт на запись, и каждый журнал, становящийся глянцевым: Adbusters просто стал слишком популярным, чтобы сохранять к себе лояльное отношение со стороны радикалов, которые когда-то в своих букинистических подвальчиках сдували с него пыль, как с драгоценного камня.
Но если посмотреть дальше сермяжного чистоплюйства, вопрос о том, как «позиционировать» антимаркетинговое движение, представляет своеобразную и весьма сложную дилемму. Среди некоторых «рекламоборцев» существует мнение, что «глушение культуры», как и вообще все, что принадлежит стилю панк, должно оставаться чем-то вроде ежа: чтобы сопротивляться неизбежному превращению в товар, оно должно держать свои иглы острыми. После великой коммерциализации «Альтернативы» и «Силы девушек» сам процесс называния тренда неким именем или придумывания броского афоризма или слогана воспринимается некоторыми с глубоким подозрением." Adbusters воспользовался моментом и поспешил провозгласить это движение еще до того, как оно реально существовало, — говорит Макларен, которая в своих статьях горько сетует на «MTV-зацию» и «USA-Today-зацию»[12] журнала Adbusters. Это стало рекламой антирекламы".
В подоплеке этих дебатов лежит и другое опасение, еще более смущающее, чем перспектива того, что «глушение массовой культуры» «продастся» диктату маркетинга. Что если, несмотря на всю риторическую шумиху, какую только сумеют поднять его адепты, «глушение культуры» на самом деле ни на что реально не влияет? Что если никакого «джиу-джитсу» нет, а есть только бой с тенью? Калле Ласн настойчиво твердит, что его журнал в силах «выдернуть постмодернистское общество из медийного транса» и что его некоммерческая реклама грозит потрясти основы телевещания. «Интеллектуальный ландшафт телевидения за последние 30-40 лет стал более плоским. Это совершенно безопасное для рекламных и коммерческих посланий пространство. Значит, если вдруг взять и внести диссонанс, отражающий расхождение во взглядах, с помощью рекламного ролика „Не покупай машину“ или посреди показа модной одежды вдруг спросить: „А как справиться с анорексией?“ — это будет грандиозным моментом истины». Но настоящая истина в том, что мы, как цивилизация, похоже, в состоянии впитать с телевизионных экранов любые противоречия и расхождения во взглядах. Мы вручную «глушим» массовую культуру всякий раз, когда отчаянно переключаем телеканалы, стрелой перелетая от чьих-то отчаянных усилий собрать пожертвования на «Программу усыновления сирот» к призывам записываться в спецназ; от скандалиста Джерри Спрингера к проповеднику Джерри Фолуэллу; от музыки в стиле нью-кантри к Мерилину Мэнсону. В наше время, очумев от информации, мы уже не встрепенемся от какого-нибудь поразительного образа, острого противопоставления или баснословно изощренного выверта.
Джагги Синг — еще один активист, разочаровавшийся в «теории джиу-джитсу». «Когда ты „глушишь“ рекламу, ты вроде как играешь по их правилам… Но я думаю, что на этом игровом поле все подстроено против нас: они могут просто задавить нас своими ресурсами… ведь у нас нет средств на все эти рекламные щиты или на то, чтобы скупить все эфирное время, и возникает в каком-то смысле чуть ли не научный вопрос — кому это, собственно, по карману?»
Как бы в дополнительное доказательство того, что «глушение культуры» лучше сравнить с каплей в море, чем с гаечным ключом в шестеренках работающего механизма, маркетологи все чаще решают присоединиться к игре. Когда Калле Ласн говорит, что от «глушения культуры» остается ощущение «какой-то причуды», он не преувеличивает. Оказывается, «глушение культуры» с его комбинацией хип-хопового подхода, панковского протеста против авторитаризма и морем визуальных трюков обладает огромным коммерческим потенциалом.
Yahoo! даже раскручивает официальный «культуроглушительный» сайт в Интернете в рубрике «Альтернативная культура». В магазине Soho Down&Under на Вест-Бродвее в Нью-Йорке, на Камден-маркет в Лондоне и в любом другом фешенебельном месте, где продают аксессуары альтернативной культуры, вы можете нагрузиться футболками, наклейками и нагрудными знаками с пародиями на крупнейшие брэнды. Среди наиболее популярных вывертов — Kraft переделанный в Кгар (искаженное crap, «хлам»), Tide — в Jive («чушь», «треп»), Ford — в Fucked (слово, относящееся к ненормативной лексике) и Goodyear — в Goodbeer («хорошее пиво»). Социальной сатирой это не назовешь, особенно если учесть, что пародированные логотипы имеют хождение наряду с реальным корпоративным китчем — неизменной рекламой жевательной резинки Dubble Bubble и футболками I ide. Передразнивание брэндов популярно также и в среде рейверов — в их экзотической одежде, в наклеиваемых татуировках, в раскраске тела и даже в таблетках «Экстази». Наркоторговцы, предлагающие «Экстази», взяли в моду маркировать свои таблетки знаменитыми логотипами: покупателям предлагаются Big Mac E, Purple Nike Swirl E, X-Files E и смесь стимуляторов с релаксантами под названием Happy Meal. Музыкант Джефф Рентой объясняет заимствование наркокультурой корпоративных логотипов бунтом против навязчивого маркетинга. «По-моему, вопрос стоит так: вы приходите в нашу жизнь со своими стоящими миллионны долларов рекламными кампаниями и повсюду размещаете свои логотипы, от чего нам становится неуютно. Поэтому теперь мы отбираем ваши логотипы и используем их самым неожиданным образом, от чего станет неуютно вам», — говорит он.
Но через какое-то время то, что являлось способом огрызаться в ответ на рекламу, начинает ощущаться как свидетельство нашей полной по-рабощенности ею. Тем более что рекламная индустрия, оказывается, в состоянии использовать себе на пользу даже идеи «глушителей культуры». Примерами заранее «глушеной» рекламы могут служить рекламная кампания Nike 1997 года с использованием лозунга «Я не представитель целевой аудитории, я — спортсмен» и кампания Sprite «Имидж — ничто», в которой темнокожий юноша говорит, что СМИ всю жизнь врали ему, будто безалкогольные напитки сделают его более привлекательным или более спортивным, пока он не осознал, что «имидж — ничто». Но дальше всех пошла компания Diesel, подключив к своим джинсам политический контекст «рекламоборческого» и антикорпоративного движения. Один из самых популярных среди художников и общественных активистов способов подчеркнуть проявления неравенства при свободно-рыночной глобализации — это наложение символов «первого мира» на сцены из «третьего»: контуры Marlboro Country посреди разрушенного войной Бейрута (см. фото на с. 34); истощенная от недоедания гаитянская девочка в очках, сделанных в форме Микки Мауса; сцена из сериала Dynasty на экране телевизора в африканской хижине; индонезийские студенты, устраивающие беспорядки перед вывеской McDonald's. Так вот, привлекательность этой визуальной критики безмятежного «единого мира» и есть то, что пытается использовать в своей рекламной акции «Брэнд 0» компания Diesel. В ней использована реклама внутри рекламы — серия щитов, рекламирующих несуществующую линию товаров «Брэнда 0» в безымянном северокорейском городе. На одном из них изображен переполненный исхудавшими рабочими автобус; на нем сияет фотография тощей блондинки, а рекламирует щит «диету брэнда 0»: «Вы можете стать еще стройнее!». На другом — скрючившийся под куском картона азиат, над которым возвышается рекламный щит «Брэнда 0» с Кеном и Барби в кукольном домике.
Возможно, критический момент наступил в 1997 году, когда Марку Хосиеру из Negativland позвонили из ультрамодного рекламного агентства Wieden&Kennedy и спросили, не согласится ли группа, придумавшая термин «глушение культуры», записать саундтрек для нового рекламного ролика пива Miller Genuine Draft. Отказаться от предложения и денег было решением очевидным, но удар пришелся по больному. «Они решительно не понимают, что вся наша деятельность находится по самому существу в оппозиции ко всему, с чем связаны они, и это меня действительно угнетает: я-то полагал, что включить нашу эстетику в маркетинг невозможно», — говорит Хосиер. Еще один шок Хосиер пережил, когда впервые увидел кампанию Sprite «Верь жажде своей». «Эта реклама буквально на волосок отстоит от одной из песен нашего диска Dispepsi. Это сюр какой-то! Теперь уже используются не просто какие-то мелкие детали — это случалось и раньше, и всегда. Теперь муссируется сама идея о том, что оппозиция вообще невозможна и всякое сопротивление бесполезно».
Не знаю, не уверена. Да, кое-кто из маркетологов нашел способы перегонки «глушения культуры» в особо резвый тип нелинейной рекламы, и не приходится сомневаться, что применение акулами Мэдисон-авеню приемов «рекламоборчества» немало поспособствовало движению товара с полок супермагазинов. С начала агрессивно-иронических кампаний «Есть для чего жить» и «Брэнд 0» в США торговая выручка Diesel выросла с двух до 23 миллионов долларов всего за 4 года, а рекламная кампания Sprite «Имидж — ничто» привела к 35-процентному увеличению продаж за три года . Тем не менее успех этих отдельных кампаний ни в коей мере не угасил антимаркетингового возмущения, которое и питает «рекламобор-чество». Не исключено даже, что эффект был прямо противоположным.
Перспектива того, что молодежь отвернется от лицемерия рекламы и станет осознавать себя противницей глобальных брэндов, — это постоянная Угроза, о которой предупреждают охотящиеся за крутизной агентства вроде Sputnik, этой бесславной артели профессиональных читателей чужих дневников и соглядатаев юношества. «Интеллектуальные команды», как называет Sputnik мыслящих молодых людей, осознают, насколько они полезны маркетологам, и весьма этим недовольны:
Они понимают, что крупнейшие корпорации ныне ждут от них одобрения культа непрерывного потребления, который в конечном итоге оборачивается для компаний суперприбылями. Сам факт, что они — интеллектуалы, говорит и им самим, и, самое главное, маркетологам, тратящим несчетные доллары на рекламу в стиле «на, получи, тебе нужно именно это», что таким лицемерием их больше не купить и не обмануть. Когда ты — голова, это означает: тебя нельзя купить, тебе никто не прикажет, что носить, что покупать, чем питаться и как говорить — никто (и ничто), кроме тебя самого.
Но хотя те, кто пишет для Sputnik и информируют своих корпоративных читателей о том, какие радикальные идеи нынче в моде, они, вероятно, рассуждают так: пусть эти идеи и повлияют самым решительным образом на то, как молодежь будет развлекаться, одеваться и разговаривать, но на то, как молодые люди будут вести себя в социуме, это никакого воздействия каким-то магическим образом не окажет.
Протрубив тревогу, «охотники за крутизной» всегда успокаивают своих читателей, что все эти антикорпоративные трюки на самом деле лишь ничего не значащая поза и все можно обойти с помощью еще более крутой, еще более агрессивной рекламной кампании. Иными словами, антикорпоративное возмущение — это уличная мода, не более значимая, чем легкое предпочтение, отдаваемое, скажем, оранжевому цвету. За донесениями «охотников за крутизной» стоит безмятежная уверенность в том, что во всех этих панк-рок-разговорах нет веры, которая была бы истинной верой, и нет таких бунтарей, которых нельзя было бы усмирить хорошей рекламной кампанией или уличным коммивояжером, если он по-настоящему поговорит с ними. Исходная посылка — что у этого цикла нет конца — не подвергается сомнению. Всегда найдутся новые пространства для колонизации — физические или ментальные, — и всегда найдется реклама, способная пробить новейшую броню цинизма потребителей. Ничего нового не происходит, говорят друг другу «охотники за крутизной»: маркетологи всегда умели использовать символы движений сопротивления своего времени.
О чем они умалчивают, так это о том, что предыдущие всплески молодежного сопротивления были направлены в первую очередь против таких врагов, как истеблишмент, правительство, патриархальный уклад, военно-промышленный комплекс. Иначе обстоит дело с «глушителями культуры»: в зону их недовольства входит сама модель маркетинга, которым занимаются «охотники за крутизной», и их клиенты, пытающиеся использовать антимаркетинговое возмущение для проталкивания своих товаров. Современная реклама крупнейших брэндов теперь должна включать в себя не только циничное отношение молодежи к товарам как к символам общественного положения и к идее массовой уравниловки, но и к самим транснациональным брэндам как к неуемным культурным стервятникам.
Профессионалы рекламного бизнеса приняли этот вызов, никак не изменив своего основного курса. Они кропотливо отлавливают и перепродают все, что стоит на переднем крае, чем занимались всегда, почему и не было для Wieden&Kennedy ничего странного в том, чтобы предложить маргиналам из Negativland быть зазывалами для Miller. Ведь, в конце концов, не кто иной, как Wieden&Kennedy, модное рекламное агентство из Портленда, штат Орегон, сделало кроссовки Nike символом феминизма. Это именно W&K придумало постиндустриальный маркетинговый план для рекламной кампании О К Cola; это W&K дало миру бессмертное утверждение, что автомобиль Subaru Impreza — «подобен панк-року»; это W&K ввело пиво Miller Beer в век иронии. Мастер сталкивать человека с самыми разными воплощениями чудовищ массового рынка, Wieden&Kennedy ухитрялось продавать машины людям, ненавидящим рекламу автомобилей, обувь — людям, сторонящимся имиджа, безалкогольные напитки тем, кто принимает прозак[13] и, самое главное, рекламу тем, кто «не является представителем целевой аудитории».
Основали агентство два доморощенных художника-битника — Дэн Уиден и Дэвид Кеннеди; похоже, что собственный неотступный страх перед тем, что они «продаются», эти люди старались умерить тем, что тащили с собой в рекламный мир идеи и символы контркультуры. Порыться в портфеле произведений агентства — как поучаствовать в традиционном сборище представителей контркультуры — Вудсток рядом с биг-битом и «Фабрикой» Энди Уорхола. Поместив в середине 80-х Лу Рида в рекламу автомобиля Honda, W&K после этого использовало гимн битлов Revolution в одном ролике для Nike, а потом еще и Instant Karma Джона Леннона — в другом. Оно заплатило звезде рок-н-ролла Бо Диддли за ролики «Бо знает» для Nike и кинорежиссеру и сценаристу Спайку Ли за целую серию роликов для Air Jordan. W&K даже ангажировало Жана-Люка Годара на постановку ролика для European Nike. И это еще не все контркультурные артефакты: они вставили лицо Уильяма Берроуза в миниатюрный телевизор в еще одном ролике для Nike и разработали кампанию, от которой фирма Subaru отказалась еще до выхода в эфир, — рекламу автомобиля SVX, в которой звучала песня Джека Керуака On the Road.
Если учесть, что W&K сделало себе имя на желании авангарда выставить себе цену за точное смешение иронии и долларов, можно понять его заблуждение, будто «глушители культуры» тоже будут счастливы принять участие в постмодернистских играх, сознательно участвуя в создании рекламных кампаний. Но взрыв возмущения против брэндов, в котором «глушение культуры» составляет лишь один аспект, имеет под собой не расплывчатые понятия об альтернативности, воюющей с основным течением. Речь идет о конкретных вопросах, которые до сих пор составляли предмет этой книги: о потере общественного пространства, о корпоративной цензуре, о неэтичных трудовых отношениях — о вопросах, переварить которые не так легко, как лакомые кусочки вроде «Силы девушек» и гранджа[14].
Вот почему Wieden&Kennedy уперлись в стену, когда попросили Negativland спеть для Miller, и это было лишь первым в цепи поражений, испытанных агентством. Британская политизированная поп-группа Chumbawamba отвергла предложенный ей контракт на 1,5 миллиона долларов, который позволил бы Nike использовать ее хит Tub-thumping в ролике, посвященном розыгрышу Кубка мира. И дело было вовсе не в абстрактных понятиях абсолютной независимости (группа дала согласие на использование этой песни в фильме «Один дома — 3»); главной причиной отказа было наличие потогонной системы труда на фабриках Nike. "Никто из присутствовавших не колебался дольше 30 секунд, прежде чем ответить «нет», — сказала участница группы Алиса Наттер. Политический поэт Мартин Эспада тоже получил от одного из менее крупных агентств Nike приглашение поучаствовать в «Найковской поэтической буче». В случае согласия он получит 2500 долларов, а его стихотворение будет прочитано в трид-цатисекундном рекламном блоке во время зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано. Эспада категорически отверг предложение агентства, выставив множество причин и закончив следующей: «Но самая главная причина моего отказа — это протест против бесчеловечного отношения компании к своим работникам на фабриках в странах „третьего мира“. Я не стану связывать свое имя с компанией, занимающейся, как было доказано, эксплуатацией рабочих в цехах с потогонной системой труда». Особенно отрезвляющей явилась для антикорпоративного движения самая хитроумная из затей Wieden&Kennedy: в мае 1999 года, когда над найковской загогулиной еще вовсю витали скандалы, связанные с условиями труда, агентство обратилось к Ралфу Нейдеру — самому влиятельному лидеру движения за права потребителей, завоевавшему народную любовь своими атаками на транснациональные корпорации, — с просьбой сняться в рекламе Nike. Идея была проста. Нейдер получит 25 000 долларов за то, что будет держать в руке кроссовки модели Air 120 и произнесет, глядя в камеру: «Очередная бессовестная попытка Nike продать обувь». В письме, посланном в офис Нейдера из штаб-квартиры Nike, говорилось: «Мы просим Ралфа, как самого известного в стране защитника прав потребителей, дать нам добродушный пинок. Для рекламы это было бы очень по-найковски». Нейдер, особым добродушием не отличающийся, только и сумел сказать, что «Ну ребята, вы и наглецы!».
Воистину, это было очень по-найковски. Реклама рефлекторно вбирает в себя все — ведь потребление и есть то, чем занимается потребительская культура. Мэдисон-авеню обычно не слишком привередлива в том, что заглатывает; она даже не гнушается ядом, направленным на нее саму: нет, она, как показал пример Wieden&Kennedy, поглотит все, что ни попадется на ее пути к новым «достижениям». Вот только один сценарий она никак не желает предусмотреть: что в результате ее профессионалы рекламного бизнеса, эти неустанные последователи тинейджеров, может быть, следуют за своей целевой аудиторией прямо в пропасть.
Конечно, рекламной индустрии приходилось и прежде разоружать атакующих — женщин, недовольных сексизмом, «голубых», заявляющих о своей «незаметности», представителей национальных меньшинств, уставших от грубых карикатур. Но это еще не все. В 1950-х и потом снова в 70-х годах западные потребители оказались подвержены идее, что рекламодатели их дурят, украдкой воздействуя на подсознание. В 1957 году Вэнс Паккард опубликовал книгу «Тайные увещеватели» (The Hidden Persuaders), мгновенно ставшую бестселлером и потрясшую американцев своими обвинениями в адрес социологов, которые нашпиговывают рекламу невидимыми человеческому глазу внушениями. Вопрос снова всплыл в 1973 году, когда Уилсон Брайен Ки издал «Обольщение на бессознательном уровне» (Subliminal Seduction), исследование о сладострастных посланиях, вплавленных в кубики льда. Эти открытия привели Ки прямо-таки в экстаз, и он дошел до таких смелых утверждений, как «внушаемое на подсознательном уровне обещание всякому купившему бутылку джина Gilbey's — это обещание старой доброй сексуальной оргии».
У всех этих антимаркетинговых спазмов было нечто общее: они были сосредоточены исключительно на содержании и технологиях рекламы. Критики не желали, чтобы ими манипулировали на подсознательном уровне, и поэтому требовали афро-американцев в рекламе сигарет и геев с лесбиянками, рекламирующими джинсы. Поскольку эти желания — очень конкретные, миру рекламы было сравнительно легко вобрать их в себя или вообще хоть как-то с ними обходиться. Например, обвинение в тайных посланиях, скрытых в кубиках льда и в других расчетливо расставленных тенетах, породили нагруженный иронией субжанр рекламы, который историки дизайна Эллен Лютон и Дж. Эббот Миллер назвали «метаподсознательным» — реклама, которая пародирует обвинение в том, что реклама содержит скрытые внушения. В 1990 году производители водки Absolut провели кампанию «Абсолютно подсознательно», в которой в центре внимания был стаканчик водки со льдом, в кубиках которого ясно проецировалось слово absolut. С собственными домашними шутками по части влияния на подсознание выступили компании Seagram's и Tanqueray, а также телешоу Saturday Night Live, в котором появился постоянный персонаж — Подсознательный Человек.
Критика в адрес рекламы, исходящая из научной среды, столь же беззуба, хотя и по другим причинам. Большинство предъявляемых претензий направлено не против отрицательного воздействия маркетинга на общественное пространство, культурную свободу и демократию, а, скорее, против власти рекламы убеждать как бы ни о чем не подозревающую публику. Их теория маркетинга по большей части сосредоточена на способах, с помощью которых реклама внушает потребителям ложные желания и потребности, заставляя нас покупать то, что вредит нашему здоровью, засоряет нашу планету или обедняет наши души. «Реклама, — сказал когда-то Джордж Оруэлл, — это бренчание палки в помойном ведре». Когда у теоретиков такое мнение о народе, то каких, собственно, конструктивных результатов можно ожидать от критики — ведь у этого жалкого народонаселения никогда не будет достаточно мощных критических инструментов, необходимых для политического противостояния потребительской мании и совместным усилиям СМИ.
Еще более безрадостным представляется будущее тем ученым, которые используют критику рекламы в качестве слегка завуалированной атаки на «потребительскую культуру». Как пишет Джеймс Туитчелл в Adcult USA, большая часть критики в адрес рекламы отдает презрением к людям, которые «чего-то — вы же понимаете! — хотят». У такого рода теорий нет ни малейшей надежды когда-нибудь сформировать интеллектуальную основу действенного движения сопротивления против брэндированной жизни, потому что невозможно совместить искреннее желание политически вооружить народ с верой в то, что этот самый народ — просто стадо откармливаемого рекламой скота, загипнотизированного рекламно-коммер-ческой культурой. Что толку утруждать себя попытками разобрать ограду? Ведь всем известно, что обработанные рекламой коровы так и останутся стоять на месте, тупо жуя свою жвачку.
Занятно, что последняя успешная атака на практику рекламы — в отличие от ее содержания или методов воздействия — была предпринята во времена Великой депрессии. В 1930-х годах сама идея счастливого, стабильного общества потребления, изображаемого в рекламе, вызвала волну негодования миллионов американцев, для которых мечта о процветании оказалась вне пределов досягаемости. Тогда появилось антирекламное движение, которое критиковало рекламу не как систему порочных образов, а как наиболее общественно заметное проявление глубоко порочной экономической системы. Людей возмущали не картинки на рекламных плакатах, а, скорее, бессердечие представляемых ими ложных обещаний — фальшь американской мечты, байки о том, что счастливый потребительский стиль Жизни доступен всем. В конце 20-х и на протяжении всех 30-х годов легкомысленные посулы со стороны мира рекламы входили в жуткое противоречие с реальностями экономического спада, подготавливая почву для беспрецедентной общественной активности.
Тогда в Нью-Йорке недолгое время издавался журнал под названием Ballyhoo («Шумиха»), нечто вроде аналога Adbusters эпохи Великой депрессии. На волне биржевого краха 1929 года Ballyhoo явился как новый циничный голос, злобно пародирующий «творческую психиатрию» рекламы сигарет и зубного эликсира, равно как и прямое шарлатанство, используемое для проталкивания всевозможных снадобий и лосьонов. Успех журнала был мгновенным — к 1931 году его тираж превысил 1,5 миллиона. Джеймс Рорти, работавший в 20-х годах в одном из рекламных агентств на Мэдисон-авеню, а затем ставший революционером-социалистом, так объяснял привлекательность журнала: «В то время как обычный потребительский журнал, рассчитанный на массы или на классы, исходит из доверия читателя к рекламе, Ballyhoo использует отвращение читателя к рекламе и к агрессивному навязыванию товаров вообще… Ballyhoo паразитирует на гротескном, раздутом теле рекламы».
Среди примеров «глушения культуры» в Ballyhoo — сигареты Scramel[15] и линия 69 различных кремов Zilch («пшик»)": то, что употребляют хорошо смазанные девушки". Редакторы подстрекали читателей вылезти из домашних туфель, пойти и самим шарахнуть по тошнотворным щитам. Поддельная реклама «Школы ретушеров Твитча» изображает человека, только что пририсовавшего усы очаровательной модели на рекламе сигарет. Надпись гласит: «Стань ретушером!» — и продолжает: «Если вы страстно желаете испортить рекламу, если ваше сердце зовет вас нарисовать трубку, торчащую из уст этих прекрасных женщин, — попробуйте наш 10-секундный тест ПРЯМО СЕЙЧАС! Наши выпускники оставляют свои следы по всему миру. Хорошие ретушеры всегда пользуются большим спросом» (см. фото на с. 385). Журнал также предлагал на продажу вымышленные товары, призванные пригвоздить лицемерие администрации Гувера, такие, как «простыня-люкс» — особо длинная, чтобы хватило укрыть скамейку в парке, когда станешь бездомным. Или «улыбетта» — две клипсы, прикрепляемые к уголкам рта и насильственно вызывающие счастливую гримасу. «Разулыбайте прочь депрессию! Заулыбайте нас в процветание!».
Впрочем, самыми завзятыми пародистами той эпохи были не юмористы из Ballyhoo, а фотографы — Уолкер Эванс, Доротея Лэндж, Маргарет Берке-Уайт. Эти политические документалисты специализировались на лицемерии таких рекламных кампаний, как кампания Национальной ассоциации промышленников «Американское — значит лучшее!», подчеркивая резкий визуальный контраст между рекламой и окружающим ландшафтом. Популярностью пользовался метод фотографирования щитов с лозунгами типа «Самый высокий в мире уровень жизни» на фоне их естественной среды обитания — щиты, сюрреалистично висящие над хлебными очередями и обшарпанными жилищными комплексами. Маниакального вида улыбающиеся модели, набивающиеся в семейный автомобиль, явно не имели представления об убогих жизненных условиях разоряющихся людей. Фотографы той эпохи также скрупулезно документировали хрупкость капиталистической системы, изображая павших бизнесменов с плакатами «Готов работать за пропитание» в тени возвышающихся рекламных щитов Соке и облупившихся афишных тумб.
В 1934 году рекламодатели, в ответ на резкую критику в свой адрес, начали использовать самопародии, в чем некоторые увидели признак того, что отрасль находится в отчаянном положении. "Среди работников радиовещания, а также, несомненно, кинопродюсеров бытует мнение, что эти пародийные акции по стимулированию сбыта смягчают гнев по отношению к рекламе, и это, может быть, до известной степени правда, — пишет Рорти о самопародировании. — Но сила этой тенденции вызывает довольно неприятные подозрения… Когда комик-пародист взбирается на амвон Церкви Рекламы, мы вправе подозревать, что «дом сей обречен есть», что его скоро либо разрушат, либо отдадут под склад".
Конечно же, дом остался цел, хотя и не невредим. Политики Нового курса под напором широкого спектра популистских движений навязали отрасли ряд реформ. «Рекламобойцы» и фотографы-документалисты были только частью массового социального возмущения против большого бизнеса, в которое входили также протесты фермеров против распространения сетей супермаркетов, создание потребительских кооперативов, быстрое распространение профсоюзного движения и наступление на потогонную систему труда в швейной промышленности. (Ряды двух американских профсоюзов швейников выросли с 40 000 членов в 1931 году до 300 000 в 1933 году.) Более же всего ранние критики рекламы были связаны с бурно растущим движением, вызванным к жизни двумя книгами: «Сто миллионов подопытных кроликов: опасности, скрытые в повседневном питании, лекарствах и косметике» (1933) Ф. Дж. Шлинка и Артура Калле и «Чего стоят ваши деньги: исследование разбазаривания потребительского доллара» (1927) Стюарта Чейза и Ф. Дж. Шлинка. В этих книгах был представлен исчерпывающий каталог способов, которыми рядового обывателя подвергают лжи, надувательству, травят и грабят лидеры американского бизнеса. Авторы основали организацию Consumer Research (из которой впоследствии выделился Consumers Union), которая служила одновременно и тестирующей товары лабораторией, и политической группой, требующей от правительства более тщательной сертификации качества и маркировки товаров. Организация считала, что объективное тестирование и правдивая информация на этикетках сделают маркетинг настолько неактуальным, что он просто выйдет из употребления. По логике Чейза и Шлинка, если у потребителей будет свободный доступ к результатам тщательных научных исследований, в которых бы сравнивались достоинства поступающих на рынок товаров, то они просто принимали бы взвешенные, рациональные решения, что именно покупать. Рекламодатели, естественно, были вне себя от страха перед той армией последователей, которую завоевал себе Ф. Дж. Шлинк на университетских кампусах и в среде нью-йоркской интеллигенции. Как заметил в 1934 году рекламист К. Б. Ларраби: «Примерно от сорока до пятидесяти тысяч человек не купят даже такой дряни, как собачьи галеты, пока Ф. Дж. не даст на это добро… они явно считают, что большинство рекламодателей — это бесчестные, двурушные, темные личности».
Шлинко-чейзовская рационалистическая потребительская утопия не воплотилась в жизнь, но их лоббистские усилия заставили правительства но всему миру предпринимать меры по запрету использования в рекламе заведомо ложных сведений, по выработке стандартов качества потребительских товаров, по активизации собственного участия в их сертификации и маркировке. А журнал Consumers Union Reports доныне остается «библией» американского покупателя, хотя он давно уже разорвал связи с другими социальными движениями.
Стоит отметить, что самые серьезные из сегодняшних попыток мира рекламы вобрать в себя антикорпоративное возмущение непосредственно питаются образами, которые впервые внедрили фотографы-документалисты эпохи Великой депрессии. Дизелевский «Брэнд 0» — почти точная копия серии плакатов Маргарет Берке-Уайт American Way как по стилю, так и по композиции. А когда Bank of Montreal проводил рекламную кампанию в Канаде в конце 90-х, в самый разгар народного возмущения против взлетающих к небесам прибылей банков, он использовал образы, напоминающие бизнесменов с фотографий Уолкера Эванса 30-х годов, держащих плакаты «Готов работать за пропитание». Кампания банка состояла из серии черно-белых крупнозернистых фотографий людей в поношенной одежде с плакатами в руках, которые вопрошали: «У меня когда-нибудь будет собственный Дом?» — и: «У нас все выправится?» Один плакат просто гласил: «Маленький человек предоставлен самому себе». В телевизионных роликах на фоне мелодий эпохи Великой депрессии в стиле хоспэл и рэгтайм проплывали образы заброшенных товарных составов и занесенных пылью городов.
Иными словами, как только пришло время держать удар, рекламисты бросились назад, к эпохе, когда их сильнее всего ненавидели и когда спасти их могла только мировая война. Создается впечатление, что психологический шок такого рода — когда производитель одежды использует те самые образы, что навели панику в швейной промышленности, а банк спекулирует на антибанковских настроениях — это единственная оставшаяся методика, еще способная привлечь внимание этих невосприимчивых к рекламе тараканов, то есть нас с вами. Вполне возможно, что так оно и есть с точки зрения маркетинга; но существует и более широкий контекст, простирающийся за систему визуальных образов: Diesel производит немалую часть своей одежды в Индонезии и других регионах Юго-Восточной Азии, наживаясь на том самом неравенстве, которое сам иллюстрирует в своей хитроумной рекламе «Брэнд 0». Собственно говоря, кампания эта и получилась такой острой отчасти в силу отчетливого ощущения, что Diesel играет с огнем и что ей грозит общественный скандал, подобный найковскому. На настоящий момент у брэнда Diesel рынок пока еще не настолько широк, чтобы он мог почувствовать в полную силу, как его собственные образы эхом отдаются по его же корпоративному телу, но, чем крупнее становится компания — а она становится с каждым годом все крупнее, — тем уязвимее она оказывается.
Такой урок содержался в реакции на кампанию Bank of Montreal «Знамение времени». Использование банком сильнодействующих образов экономического краха в то самое время, когда он объявил о своей рекордной прибыли в 986 миллионов долларов (а в 1998 году — 1,3 миллиарда) вызвало спонтанную волну «рекламоборчества». Простой образный ряд, использованный кампанией — люди, держащие в руках гневные плакаты, — дал возможность критикам легко создавать пародии, клеймившие непомерно высокую плату за услуги, труднодоступность чиновников, принимающих решения о выдаче займов, и закрытие отделений в небогатых кварталах. (В конце концов, эту рекламную технологию банк украл, прежде всего, у самих активистов.) Кто только не присоединился к акции — и одиночные «глушители», и сатирическое шоу на СВС «В этом часе 22 минуты», и журнал Globe and Mail's Report on Business, и независимые видеопродюсеры, и творческие коллективы.
Ясно, что такие рекламные кампании вызывают сильные эмоции. Но, играя на настроениях, уже направленных против них, например, на общественном возмущении сверхприбылями банков или углубляющимся экономическим неравенством, процесс включения их в собственную маркетинговую стратегию чреват вполне реальным риском эти выступления приумножить, а не разоружить. Самое главное, заимствование системы образов, похоже, ожесточает «глушителей культуры» и других антикорпоративных активистов: у них появляются настроения, мол, «получи, буржуй, рекламу!», справиться с которыми еще труднее. Например, когда Chrysler проводил кампанию заранее «глу-шеной» неоновой рекламы, в которой к слову Hi («привет») была пририсована в стиле граффити буква "р" (получалось Hip — «крутой», «модный»), она вдохновила «Фронт освобождения рекламных щитов» на крупнейшую за много лет акцию. На десятках неоновых щитов слово Hip было изменено еще дальше — на слово Нуре («лицемерие»), и впридачу рядом был нарисован череп со скрещенными костями. «Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как эти фирмы присваивают наши средства коммуникации, — сказал Джек Нейпир. — Кроме того, это так пошло…»
Самый, может быть, серьезный просчет со стороны и маркетологов, и СМИ — это нежелание видеть в «глушении культуры» что-либо кроме безвредной сатиры, игры, существующей в изоляции от реального политического движения или идеологии. Да, некоторыми «глушителями» пародия воспринимается как самоцель. Но для многих других, как мы увидим в последующих главах, она — просто новое орудие для стрельбы по корпорациям, способное более эффективно, чем большинство других, пробить броню средств информации и корпоративной коммуникации. Мы также увидим, что «рекламобойцы» действуют сейчас одновременно на нескольких фронтах: люди, карабкающиеся на рекламные щиты, часто те же самые, что организуют движение против Многостороннего соглашения по инвестициям, устраивают митинги протеста на улицах Женевы против Всемирной торговой организации и оккупируют банки, протестуя против прибылей, получаемых ими на студенческих ссудах и займах[16]. «Рекламоборчество» не является самоцелью. Это просто инструмент — один из многих, — используемый и заимствуемый в гораздо более широком общественном движении против жизни среди брэндов.
Глава тринадцатая. Вернуть себе улицы
Реальность, в которой мы живем, похожа на оккупацию. Нас оккупировали, как нацисты оккупировали Норвегию и Францию во время Второй мировой войны, но наши оккупанты — коммерсанты. Мы должны вернуть себе свою страну, забрав у тех, кто оккупирует ее по поручению своих глобальных хозяев.
Урсула Франклин, почетный профессор Торонтского университета, 1998 г.
Это не акция протеста. Повторяю. Это не акция протеста. Это какая-то акция художников. Прием.
Разговор по радиосвязи между полицейскими в Большом Торонто 16 мая 1998 г., в день первой Глобальной уличной гулянки.
Одна из насмешек нашего века: теперь, когда уличное пространство стало самым ходовым товаром в рекламном бизнесе, сама уличная культура оказалась в осаде. От Нью-Йорка до Ванкувера и Лондона полиция наступает на граффити, на самодельные плакаты, на уличных попрошаек, на тротуарных художников, на моющих ветровые стекла детишек, на стихийное «садоводство» и на уличных торговцев, ведя к криминализации всего, что относится к самобытной уличной жизни большого города.
Это противоречие между коммерциализацией и криминализацией уличной культуры особенно драматично проявлялось в Англии. С начала до середины 90-х годов, когда мир рекламы ринулся на укрощение звукового и визуального ряда рейверских тусовок и начал использовать его для рекламы автомобилей, авиалиний, безалкогольных напитков и газет, британские законодатели практически объявили рейв вне закона, приняв в 1994 году против него Закон об уголовной ответственности (Criminal Justice Act).
Толпа пошла за нами, и дорога из транспортной пробки превратилась в уличный рейв-слет с сотнями людей, кричащих и требующих чистого воздуха, общественного транспорта и велосипедных дорожек.
Распространяемый по электронной почте репортаж RTS из Тель-Авива, Израиль, 16 мая 1998 г.
Закон дал полиции далеко идущее право конфисковывать аудиоаппаратуру и сурово обращаться с рейверами во время любых публичных столкновений.
Чтобы противостоять этому закону, «клубная тусовка» (до тех пор занятая лишь поисками очередного места, где бы потанцевать до утра) объединилась в единый фронт с другими политизированными субкультурами, которых тоже встревожила эта новообретенная полицией власть. Так рейверы объединились со сквоттерами, ожидающими насильственного выселения, с так называемыми «странниками Нового века», гонимыми за свой бродячий образ жизни, с радикальными «эковоинами», борющимися против вырубки британских лесных районов, строя шалаши на деревьях и прорывая траншеи на пути бульдозеров. У всех этих субкультур, выступающих каждая за свое, появились общие интересы: борьба за право на неколонизированное пространство — для жилья, для деревьев, для тусовок, для танцев. Из этого многообразия культурных противоречий и самых неожиданных коллизий между диджеями, активистами антикорпоративного движения, радикальными экологами, политизированными художниками и представителями New Age выросло нечто такое, что можно назвать самым энергичным и быстроразвивающимся политическим движением со времен «Парижа-68»: движение «Вернуть себе улицы», Reclaim the Streets (RTS).
Начиная с 1995 года RTS захватывает для своих спонтанных акций оживленные улицы, большие перекрестки и даже отрезки скоростных шоссе. В мгновение ока на первый взгляд разрозненные группы гуляющих прохожих превращают транспортную артерию в сюрреалистическую детскую площадку. Делается это просто. Как водится и у настоящих рейверов, место акции RTS держится в тайне до самого последнего дня. Тысячи людей собираются в заранее назначенном месте, откуда всей толпой отправляются в пункт назначения, известный только организаторам. Перед прибытием толпы на улице, которую сейчас будут «возвращать себе», тихонько припарковывается микроавтобус, оборудованный мощной аудиосистемой. Затем изобретается какой-нибудь театральный способ заблокировать движение, например, инсценируется столкновение двух старых машин и драка их водителей между собой. Или, например, посреди проезжей части устанавливают шестиметровую треногу, а на самом верху к ней подвешивают смельчака-активиста. Машинам тренога проезжать мешает, а пешеходы могут легко лавировать между ее подпорками. Поскольку опрокинуть треногу — означает уронить висящего на ней человека на асфальт, то полиции ничего другого не остается, как только стоять и смотреть, как разворачиваются события. Теперь, когда движение транспорта благополучно заблокировано, проезжую часть объявляют «открытой улицей». Появляются дорожные знаки: «Дышать разрешено», «Зона, свободная от автомобилей» и «Вернем себе пространство». Взмывает ввысь знамя RTS — молния на разноцветном фоне, — и аудиосистема начинает реветь чем попало — от последних электронных подношений до What a Wonderful World Луи Армстронга.
Затем как бы ниоткуда является бродячий карнавал эртээсовцев — тут и байкеры, и клоуны на ходулях, и рейверы, и барабанщики. Бывали случаи, когда посреди перекрестка появлялись гигантские песочницы и качели, надувные бассейны, диваны, ковры и волейбольные сетки. В воздухе проплывают сотни дисков-фрисби; раздают бесплатное угощение; начинаются танцы — на машинах, на автобусных остановках, на крышах домов, вокруг столбов с дорожными указателями. Организаторы называют такие «похищения улиц» по-всякому — от «воплощения коллективной мечты» до «случайного стечения обстоятельств, случившегося в большом масштабе». Как и «рекламобойцы», эртээсовцы перенесли язык и методы радикального экологического движения в городские джунгли, требуя некоммерциализованного пространства в большом городе в такой же мере, как и естественной нетронутости природы вне города или на море. В том же духе происходило самое театральное из всех выступлений RTS, когда 10 000 человек захватили шестиполосную лондонскую автомагистраль М41. Два человека, одетые в карнавальные костюмы, сидели на вершине шатровых сооружений, покрытых огромными кринолинами (см. фото на с. 390). Стоявшие рядом полицейские не подозревали, что под этими «юбками» скрывались «садовники-партизаны» с отбойными молотками, проделывающие отверстия в асфальте шоссе, чтобы посадить в них молодые деревца. Эртээсовцы, эти неизменные последователи ситуационистов, высказали свою точку зрения: «Под асфальтом… лес» — напоминание о лозунге «Парижа-68» «Под булыжником… пляж».
Эти мероприятия переводят характерную для «глушения культуры» философию возврата себе общественного пространства на новый уровень. Вместо заполнения пока еще не тронутого коммерцией пространства рекламными пародиями, эртээсовцы пытаются заполнить его альтернативным видением того, как может выглядеть общество в отсутствие коммерческого контроля и давления.
Семена эртээсовского урбанистического экологизма были посеяны в 1993 году на Клермонт-роуд, тихой лондонской улочке, которой предназначено было исчезнуть под новым скоростным шоссе, «Соединительное шоссе М11, — объясняет эртээсовец Джон Джордан, — протянется из Уэнстеда до Хэкни в Ист-Лондоне. Чтобы его построить, департаменту транспорта пришлось снести 350 домов, выселить тысячи людей, вырубить часть одного из последних оставшихся в Лондоне участков древних лесов и разорить общину — и все из-за шестиполосного куска асфальта стоимостью в 240 миллионов фунтов, призванного сэкономить шесть минут езды на машине». Когда городские власти проигнорировали яростные протесты местных жителей, группа художников-активистов возложила на себя миссию попытаться заблокировать дорогу бульдозерам, превратив Клермонт-роуд в бастион из живых скульптур. Они вытащили на улицу диваны, развесили на ветках телевизоры, раскрасили асфальт под гигантскую шахматную доску и выставили перед назначенными на слом домами щиты с якобы социальной рекламой развития пригородов: «Добро пожаловать на Клермонт-роуд: идеальное место для жизни». Активисты влезли на деревья, заняли строительные краны, запустили оглушительную музыку и стали посылать воздушные поцелуи глядевшим на них снизу полицейским и разбиравшим дома рабочим. Уже опустевшие дома преобразовались — их соединили друг с другом подземными ходами и устроили в них художественные инсталляции. Стоявшие на улице старые машины украсили лозунгами, разрисовали под зебру и превратили в клумбы. Машины при этом не просто стали красивыми, но и служили баррикадами, как и тридцатиметровые леса, выстроенные сквозь крышу одного из домов. Это, как объясняет Джордан, было не тактикой использования искусства в политических целях, а превращения искусства в прагматическое политическое орудие, «одновременно прекрасное и функциональное».
Когда в ноябре 1994 года Клермонт-роуд окончательно ровняли с землей, она была самой творчески активной, праздничной и жизнерадостной улицей в Лондоне. Она была, как говорит Джордан, чем-то «вроде временного микрокосма по-настоящему освобожденной, экологически чистой культуры». К тому времени, когда активистов вытащили из шалашей на деревьях и крепостей, смысл заключенного в акции послания, что высокоскоростные дороги высасывают жизнь из больших городов, не мог бы быть выражен более наглядно и красноречиво.
Несколькими годами раньше название RTS использовала другая группа. Но в своем нынешнем воплощении RTS сформировалась в мае 1995 года, причем с отчетливо выраженной целью превратить случившееся на Клермонт-роуд в летучий вирус, готовый в любой момент распространиться на любое место в городе: в блуждающую «временную автономную зону» (выражение, придуманное американским гуру анархизма Хакимом Беем). Согласно объяснению Джордана, мысль была проста: «Если нам не удалось вернуть Клермонт-роуд, мы начнем возвращать себе другие улицы Лондона». В мае 1995 года 500 человек пришли на «слет» RTS на Кемдэн-стрит — танцы под барабаны, свистки и звуковую аппаратуру, питание для которой обеспечивали велосипедные генераторы. Это сборище привлекло к себе внимание рейверов, к тому времени уже политизированных благодаря вовсю действовавшему против них Закону об уголовной ответственности, и ключевой альянс был сформирован. На следующее мероприятие RTS, проведенное на Аппер-стрит в Айлингтоне, собралось уже 3000 человек; на сей раз они танцевали под электронную музыку, ревущую с двух грузовиков, оборудованных мощными клубными аудиосистемами.
Присутствовавшие в толпе анархисты воспользовались случаем излить свой гнев на банки, ювелирные магазины и местные рестораны McDonald's. Они били витрины, бросали бомбы с краской и малевали антиглобалистские лозунги в виде граффити.
Распространяемый по электронной почте репортаж об акции RTS в Женеве, Швейцария, 16 мая 19981 г.
Союз рейва с политикой оказался заразительной идеей, которая распространилась по всей Британии — в Манчестер, Йорк, Оксфорд и Брайтон. Крупнейшее на сегодняшний день мероприятие RTS в апреле 1997 года привлекло на Трафальгарскую площадь 20 000 человек. К тому времени «слеты» на тему «Вернуть себе улицы» стали международными — их устраивали в таких далеких друг от друга городах, как Сидней, Хельсинки и Тель-Авив. Каждая акция организуется на местном уровне, но при помощи электронной почты и веб-сайтов активисты из разных городов имеют возможность читать репортажи о событиях во всем мире, обмениваться методами ухода от полицейских, делиться приемами эффективного блокирования дорог, видеть плакаты, читать пресс-релизы и листовки со всего мира. С тех пор как видео— и цифровые камеры стали излюбленным аксессуаром уличных акций, эртээсовцы черпают вдохновение еще и в просмотре материалов, заснятых на дальних тусовках и распространяемых в видеосетях активистов, например, расположенной в Оксфорде Undercurrents, а также на нескольких Интернет-сайтах RTS.
Во многих городах уличные мероприятия составили хорошую пару другому «взрывному» международному движению — «Критической массе». Идея возникла в 1992 году в Сан-Франциско и стала распространяться по городам Северной Америки, Европы и Австралии примерно в одно время с RTS. Велосипедисты «Критической массы» тоже любят пользоваться риторикой «случайных и масштабных совпадений»: в десятках городов одновременно, в последнюю пятницу каждого месяца, на заранее назначенном перекрестке собираются велосипедисты, от семнадцати до семи тысяч человек, и отправляются в путь. Одним своим количеством они формируют «критическую массу», и автомобили вынуждены уступать им дорогу. «Мы не блокируем движение транспорта, — говорят велосипедисты „Критической массы“, — мы сами и есть движение транспорта». А поскольку немало активистов RTS одновременно являются и велосипедистами «Критической массы», то большую популярность приобрела тактика очистки от транспорта назначенных для «возвращения» улиц с помощью «спонтанного наезда» велосипедистов непосредственно перед блокадой на дороге и появлением участников мероприятия.
Может быть, как раз в свете этих связей официальные СМИ почти неизменно описывают мероприятия RTS как «протест против засилья автомобилей». Большинство эртээсовцев, однако, утверждают, что это грубое и невежественное упрощение их целей. Автомобиль, говорят они, — это символ, наиболее осязаемое проявление потери общественного пространства, улиц, где можно ходить пешком, и мест, где можно свободно самовыражаться. Вместо простого протеста против использования автомобилей, говорит Джордан, «RTS всегда старается перевести частную проблему транспорта и автомобилей на уровень более широкой критики общества… и мечтает о возврате улиц в коллективное пользование». Чтобы особо подчеркнуть эти более широкие связи, RTS организовало уличный слет солидарности с бастующими рабочими лондонской подземки. Еще одна тусовка стала совместным мероприятием с уволенными ливерпульскими докерами, этими любимчиками британских рок-звезд, футболистов и анархистов. Другие акции были направлены против нарушений прав человека и угрозы экологии со стороны Shell, BP и Mobil.
Из-за этих самых разнообразных коалиций RTS крайне трудно отнести к той или иной категории общественных течений. «Является ли уличная тусовка политической демонстрацией? — риторически вопрошает Джордан. — Или фестивалем? Или рейв-слетом? Или просто чертовски удачной вечеринкой?» Эти мероприятия нелегко квалифицировать по многим причинам: они маскируют своих лидеров, у них нет ни центра, ни даже постоянных мест сбора. Уличные акции RTS, как говорит Джордан, «крутятся водоворотом».
Эта неясность не просто намеренная; именно отсутствие жесткой определенности и помогло RTS пленить воображение тысяч молодых людей по всему миру. С тех пор как Эбби Хоффман и «йиппи» внесли в свои «хэппенинги» осознанную абсурдность, политический протест пал до уровня ритуализованного действа, вписывающегося в не очень богатую схему повторяющихся декламаций и отрежиссированных столкновений с полицией. Поп-культура тем временем стала столь же стереотипна в своем отказе впустить осознанную серьезность политических убеждений в свое ироническое игровое пространство. Вот тут-то и появляется RTS. Рассчитанные культурные столкновения уличных акций смешивают в себе серьезную предсказуемость политического выступления со свойственной поп-культуре веселой иронией. Для многих тинейджеров и молодых людей это предоставляет первую возможность примирить их наполненное воскресными мультфильмами детство с искренней политической озабоченностью судьбой своих родных мест и своего окружения. RTS игриво и иронично ровно настолько, чтобы сделать возможной серьезность.
Во многих отношениях движение «Вернуть себе улицы» — урбанистический центр тяжести процветающей в Англии DIY-культуры (см. сноску на с. 238). Изгнанная на экономические задворки десятилетиями правления тори и не получившая от правоцентристской политики Новой лейбористской партии Тони Блэра повода к возвращению, по всей стране разрослась полагающаяся только на собственные силы инфраструктура продовольственных кооперативов, нелегальных жилищ сквоттеров, независимых средств информации и бесплатных музыкальных фестивалей. Спонтанные уличные акции — это продолжение самодеятельного стиля жизни; они — утверждение того, что люди могут сами устраивать себе развлечения, не испрашивая разрешения государства и не полагаясь на корпоративные пожертвования. Просто прийти на уличную тусовку — значит стать и участником, и устроителем развлечения.
Мы навестили Пресвятую Деву у собора, но она нас явно не ждала и потому танцевать не пошла. Но мы все равно устроили миленькое солнечное шоу и часов на пять, до семи вечера, вернули себе улицу.
Распространяемый по электронной почте репортаж об акции RTS в Валенсии, Испания, 16 мая 1998 г.
Уличная акция, кроме того, совсем не в ладу с тем, как наша культура склонна понимать свободу. Будь то хиппи, бросающие все, чтобы жить в загородных коммунах, или яппи, бегущие из урбанистических джунглей на внедорожниках, свобода обычно понимается как бегство от клаустрофобии большого города. Свобода — это «Трасса 66», это «В дороге» (On the Road). Это — экологический туризм. Это — где угодно, но только не здесь. RTS же не сбрасывает со счетов ни города, ни настоящего. Оно взнуздывает страсть людей к развлечениям и веселью (включая и темную ее сторону — желание буйствовать и бунтовать) и направляет так, что все это воплощается в акт гражданского неповиновения — в уличный фестиваль. На один день тоска по свободному пространству выливается не в бегство от действительности, но в преобразование ее «здесь и сейчас».
Конечно, если хочешь быть по-настоящему циничным, RTS можно назвать также и экопоэзией, прикрывающей вандализм. Это возвышенные разговоры о том, как перекрывают движение транспорта. Это дико одетые и разрисованные подростки, орущие о тирании «автомобильной культуры» находящимся в полном замешательстве и, возможно, сочувствующим им полицейским. Когда в эртээсовских мероприятиях что-нибудь не складывается — приходит всего лишь горстка людей или анархисты-организаторы, не приемлющие иерархии, не могут или не хотят общаться с толпой, — уличная гулянка оказывается именно этим: какой-то хмырь считает себя вправе сидеть посреди улицы в силу идиотской, ведомой ему одному причины. Но в своих лучших проявлениях акции RTS слишком радостны и человечны, чтобы от них можно было просто отмахнуться, и они пробиваются сквозь корку цинизма зевак и наблюдателей: от британской хипповской музыкальной прессы, объявившей тусовку на Трафальгарской площади «лучшей из незаконных рейв-слетов и вечеринок танцевальной музыки за всю историю человечества», до одного из бастующих ливерпульских докеров, заметившего, что «все другие только говорят, мол, надо что-то сделать, а эти ребята делают».
И, как и со всеми успешными радикальными движениями, кое-кто выражает озабоченность тем, что притягательность RTS для масс сделала его слишком модным и что утонченная теория «приложения радикальной поэзии к радикальной политике» заглушается громыхающими ритмами и ревом неуправляемой толпы. В октябре 1997 года Джордан сказал мне, что RTS радикально пересматривает свои принципы. Он заявил, что 20-тысячная акция на Трафальгарской площади — не та вершина, к которой стремится RTS. Когда полиция попыталась арестовать микроавтобус с музыкальной аппаратурой, протестующие не стали, как ожидалось, посылать ей издевательские воздушные поцелуи, а начали швыряться бутылками и камнями, и четверым было предъявлено обвинение в покушении на убийство (позже это обвинение сняли). Несмотря на все усилия организаторов, ситуация опустилась до уровня стадионного хулиганства, и, как рассказал газете Daily Telegraph один из представителей RTS, когда лидеры движения попытались снова взять события под контроль, это обернулось против них самих. «Я видел, как несколько наших пытались остановить этих молокососов, которые накачались пивом и бессмысленно швыряли камни и бутылки. Несколько наших товарищей попытались заслонить от них людей, и одного из них избили». Но подобные нюансы ускользнули от внимания британских СМИ, которые освещали события на Трафальгарской площади под такими, например, заголовками: «Безумие бунта — головорезы-анархисты терроризируют Лондон».
После Трафальгарской площади, говорит Джордан, стало ясно, что «в уличных тусовках слишком легко увидеть всего лишь развлечение, всего лишь коллективную вечеринку с оттенком политической акции… Если люди считают, что появиться раз в год на уличном мероприятии, забыть все на свете и танцевать до упаду на захваченном участке общественной земли — достаточно, то мы никогда не реализуем своих возможностей». Очередная задача, говорит он, представить себе захват чего-то более крупного, чем одна улица. "Уличная акция — это только начало, проба будущих возможностей. На сегодняшний день по всей стране прошло 30 таких мероприятий. А представить себе 100, и что все они происходят одновременно, и каждое продолжается несколько дней и больше… Представить себе, что уличное сборище укореняется… la fete permanente…"
Признаюсь, разговаривая с Джорданом, я не верила, что это движение сможет достичь такого высокого уровня координированности. Даже в свои лучшие времена «Вернуть себе улицы» балансирует на тонкой грани, открыто заигрывая со страстью к бунтарству и пытаясь перекроить ее в более конструктивный протест. Лондонские члены RTS говорят, что одна из целей уличных акций — это «визуализировать промышленный крах», и потому задача участников — вдохновлять друг друга на то, чтобы танцевать и сажать деревья, а не поджигать их, облив бензином. Но уже очень скоро после нашего разговора по спискам адресатов электронной почты нескольких активистов была разослана заметка, в которой обсуждалась идея устроить день одновременных уличных мероприятий по всему миру. Семь месяцев спустя прошла первая в истории Глобальная уличная гулянка. Чтобы совершенно исключить возможность того, что политический подтекст мероприятия ускользнет от внимания, ее назначили на 16 мая 1998 года — день, когда лидеры стран Большой восьмерки собрались на саммит в Бирмингеме, Англия, и за два дня до того, как им предстояло отправиться в Женеву на празднование 15-й годовщины Всемирной торговой организации. Наряду с индийскими фермерами, безземельными бразильскими крестьянами, французскими, итальянскими и немецкими безработными и международными группами по борьбе за права человека, планирующими одновременные выступления, приуроченные к двум саммитам, RTS заняло свое место в рядах неоперившегося пока международного движения против транснациональных корпораций и их планов экономической глобализации. Здесь уже речь точно шла не просто об автомобилях.
Наступление полиции было настолько мощным и жестоким, что даже видавшая виды чешская публика была шокирована… 64 человека были задержаны, в том числе 22 в возрасте до 18 лет и 13 женщин. Во время полицейской акции пострадали невинные люди — просто стоявшие рядом. Всех задержанных избивали и подвергали оскорблениям до самого утра.
Распространяемый по электронной почте репортаж об акции RTS в Праге.
В следующий раз будет круче.
Распространяемый по электронной почте репортаж об акции RTS в Берлине, Германия, 16 мая 1998 г.
Хотя о них редко писали как о чем-то более значительном, чем отдельные помехи движению транспорта, 30 мероприятий RTS с успехом прошли в двадцати странах мира. 16 мая 800 человек заблокировали шестиполосное шоссе в Утрехте, Нидерланды, и танцевали там пять часов кряду. В Турку, Финляндия, две тысячи человек мирно оккупировали один из главных городских мостов. Почти тысяча берлинцев устроили рейв-тусовку на перекрестке в деловом центре города, а в Беркли, Калифорния, семьсот человек веселились на Телеграф-авеню. Самая успешная Глобальная уличная гулянка состоялась в Сиднее, Австралия, где несанкционированная политическая демонстрация вкупе с музыкальным фестивалем прошла без сучка без задоринки. Три-четыре тысячи человек «захватили» дорогу, установили три помоста, где выступали музыкальные группы при участии полудюжины диджеев. Никакого спонсорства со стороны Levi's, Borders, Pepsi или Revlon не было (а ведь именно такого рода поддержка делает возможным проведение дорогостоящих фестивалей, например, Iilith Fair), но сиднеевское RTS как-то умудрилось «организовать сбор пожертвований, бесплатное питание, площадку для скейтбординга, установить на тротуаре пять терминалов для выхода в Интернет, найти двух скульпторов, работающих по песчанику, поэтов, факиров, „садовников-партизан“… и еще множество всяких веселых и легкомысленных развлечений». Реакция полиции на Глобальную уличную гулянку очень различалась от города к городу. В Сиднее полицейские просто стояли в почтительном изумлении и лишь просили приглушить музыку по мере наступления вечера. В Утрехте полиция была настроена настолько дружелюбно, что «в какой-то момент, по сообщению одного из местных организаторов, полицейские смешались с толпой и уселись на мостовой, ожидая прибытия аудиоаппаратуры. Когда ее наконец привезли, они фактически помогли запустить генератор». Не обошлось, конечно, без исключений. На акции в Торонто, на которую ходила я, полицейские ничего не делали в течение часа, а потом с ножами в руках вошли в толпу из четырехсот участников и начали (абсурд!) прокалывать ярко расцвеченные воздушные шары и энергичными движениями разрезать плакаты. В результате мероприятие скатилась на уровень бестолковых стычек, которые и стали главной темой шестичасового выпуска новостей. Но столкновение в Торонто было сущим пустяком по сравнению с тем, что происходило в других городах. Пять тысяч человек танцевали на улицах Женевы, но к полуночи веселье «переросло в полномасштабные беспорядки. Подожгли одну машину, и тут же тысячи полицейских атаковали толпу, бросая гранаты со слезоточивым газом. До пяти часов утра демонстранты разбили сотни окон в зданиях, принадлежащих банкам и корпоративным офисам, причинив им серьезный ущерб — более полумиллиона фунтов». В ожидании прибытия лидеров крупнейших держав мира и известных бизнесменов на празднование юбилея ВТО беспорядки продолжались несколько дней.
Просим прощения за накладку, но поскольку явилось всего лишь десять человек, мы решили, походив под барабан по городу с плакатами, смыться на остаток дня на пляж.
Распространяемый по электронной почте репортаж об акции RTS в Дарвине, Австралия, 16 мая 1998 г.
В Праге на уличную акцию на Венцеславской площади собралось три тысячи человек. Там были установлены четыре аудиосистемы, и двадцать диджеев готовились начать концерт. Очень скоро в толпу на полной скорости врезалась полицейская машина; ее окружили и опрокинули, а рейверская тусовка, как и в Женеве, превратилась в бесчинство. После того как организаторы официально закрыли мероприятие, триста человек, по большей части подростков, прошли маршем по улицам Праги, причем некоторые останавливались и бросали бутылки и камни в витрины ресторанов McDonald's и Kentucky Fried Chicken. На гулянке в Беркли, Калифорния, тоже происходило швыряние бутылками и камнями, равно как и ряд других бессмысленных действий: например, бросание в огонь пенопластовых матрацев на Телеграф-авеню (отравлять воздух ядовитыми продуктами горения в качестве протеста против загрязнения окружающей среды — гениально!) и разбивание витрин местного книжного магазина, не входящего ни в одну из книготорговых сетей («шарахнем по этим корпоративным негодяям!»). Мероприятие рекламировалось как праздник «искусства, любви и протеста», но полиция назвала его «беспорядками» — «самыми крупными за последние 8 лет». Было произведено по меньшей мере 27 арестов в Кембридже, четыре — в Торонто, четыре — в Беркли, три — в Берлине, 64 — в Праге, десятки в Брисбене и более двухсот за несколько дней беспорядков в Женеве.
Да, в нескольких крупных городах Глобальная уличная гулянка никоим образом не стала «fete permanente», как мечталось Джону Джордану. И тем не менее мгновенная международная реакция, спровоцированная не более чем несколькими сообщениями по электронной почте, доказывает, что есть и возможности, и желание для действительно глобального протеста против потери общественного пространства. Стремление вернуть пространство, свободное от брэндов, так близко столь многим молодым людям разных стран, что ответственность активистов за эмоции, вдохновляемые этим протестом, необычайно велика.
Эти эмоции в полную силу проявились 16 мая в Бирмингеме, штаб-квартире Глобальной уличной гулянки. Восемь самых могущественных в мире политиков занимались тем, что обменивались шерстяными футболками, подписывали торговые соглашения и — даже сказать противно — хором пели собственную интернациональную версию известной песни Битлз: «Все, что тебе нужно, — это любовь». А в это время восемь тысяч активистов, собравшихся со всей Великобритании, взяли под свой контроль транспортную развязку, подключили звуковую аппаратуру, играли в уличный волейбол и вызывали к жизни праздничный дух RTS. Как и в других городах, здесь происходили столкновения с полицией, окружившей толпу собравшихся кольцом в три ряда полицейских. На сей раз, однако, творческая абсурдность взяла верх, и вместо бутылок и камней излюбленным орудием стали обретающие все большую популярность балаганные боеприпасы: торты с заварным кремом. А среди треножников, плакатов и флагов возвышался новый транспарант — огромный красный воздушный змей, на котором были написаны названия всех городов в двадцати странах по всему миру, где одновременно проходили уличные акции. «Сопротивление, — вещал один из плакатов, — будет таким же транснациональным, как и сам капитализм».
Приватизация общественного пространства, одним из символов которой стали автомобили, углубляет разрушение жилых кварталов и местных сообществ, из которыхи состоит наги город. Расположение дорог, бизнес-парки, торговые комплексы — все это приводит к распаду местных сообществ и уничтожает нормальный городской уклад. Все становится одинаковым. Жилой район превращается в товар — деревню, созданную для шопинга, усыпленную и находящуюся под постоянным наблюдением. Стремление людей к общности восполняется в других местах, через зрелища, которые создаются искусственно, чтобы затем продать их нам. Те «улицы» и «площади», которые мы видим по телевизору в сериалах, — это всего лишь пародии на общественное пространство, уничтожаемое бетоном и капитализмом. Настоящая улица при таком сценарии развития становится пустой и бесплодной. Это место, через которое можно проходить, но в котором нельзя жить. Улица существует лишь как придаток чего-либо еще — витрины магазина, рекламного щита или автозаправочной станции.
RTS Лондон.
Я заметил, что у всех этих событий есть нечто общее: ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕБЕ ТОГО, ЧТО ОДНАЖДЫ БЫЛО ОТНЯТО. Возвращаем ли мы себе улицу, прежде заполненную автомобилями; дома для сквоттеров или излишки продовольствия для нищих; превращаем ли снова студенческие кампусы в места протеста или в театральные сцены; заставляем ли прислушаться к нашим голосам, отделяя их от всего того, что доносится из глубоких и темных недр корпоративных СМИ, или очищаем нашу визуальную среду от рекламных щитов, — мы всегда забираем обратно. Забираем обратно то, что всегда было нашим. «Нашим» не как «наш клуб» или «наша компания», но как то, что принадлежит человечеству. Всему человечеству. «Наше» как «неправительственное» и «некорпоративное»… Мы хотим, чтобы власть перешла к людям как к единому сообществу. Мы хотим Вернуть Себе Улицы.
RTS Торонто.
Глава четырнадцатая. Недовольство растет
Земля не умирает, ее убивают. И у тех, кто ее убивает, есть имена, фамилии и адреса.
Юта Филлипс
Как сказать Стиву, что его отец — хозяин потогонного цеха?!
Тори Спеллинг в роли Донны в сериале «Беверли-Хиллз 90210», узнавшей, что ее модная дизайнерская одежда сшита иммигрантками в лос-анжелесской потогонной мастерской, 15 октября 1997 г.
Вторая половина 90-х была временем неслыханного роста вездесущности брэндов, но на периферии параллельно возникали иные феномены социальной жизни: общественные движения в защиту прав трудящихся, окружающей среды и прав человека, активисты которых были полны решимости сделать достоянием гласности те опасности, которые кроются за показным глянцем. Десятки новых организаций и изданий создавались с единственной целью — вывести на чистую воду корпорации, наживающиеся на репрессивной политике правительств разных стран мира. Общественные группы, раньше осуществлявшие наблюдение за деятельностью правительственных организаций, теперь переориентировались на мониторинг нарушений со стороны транснациональных корпораций. По выражению Джона Видала, редактора отдела экологии журнала The Guardian, «многие общественные активисты присасываются, как пиявки, к телу корпораций».
Это «присасывание» принимает многообразные формы — от общественно-респектабельных до почти террористических. Например, базирующаяся в Массачусетсе «Программа по наблюдению за корпорациями, соблюдению законности и демократических прав» (Program on Corporations, Law&Democracy) разрабатывает альтернативные подходы в политике, «оспаривающие право корпораций на управление обществом». В то же самое время расположенная в Оксфорде Corporate Watch (Группа наблюдения за корпорациями) специализируется на расследовании корпоративных злоупотреблений и оказывает помощь в проведении таких расследований другим группам. (Не путать с Corporate Watch, расположенной в Сан-Франциско, образовавшейся примерно в то же время и имеющей аналогичную миссию в США.) JUSTICE. DO IT NIKE![17] — это группа орегонских активистов, обличающих Nike в неприемлемой практике трудовых отношений. С другой стороны, Yellow Pages — международная подпольная группа хакеров, объявивших войну компьютерным сетям тех корпораций, которые успешно пролоббировали отмену закона об увязывании нового торгового соглашения с Китаем с вопросом о соблюдении в этой стране гражданских прав. «Бизнесмены фактически уже начали диктовать странам внешнюю политику, — говорит Блонди Вонг, директор Hong Kong Blondes, группы китайских хакеров — борцов за демократию, ныне живущих в изгнании. — Встав на сторону прибыли, а не на сторону совести, деловой мир отбросил нашу борьбу так далеко назад, что тоже сделался нашим угнетателем».
Нарочито низкотехнологичный (кто-то даже называет его примитивным) подход применяет бельгиец Ноэль Годин и его всемирный отряд политических «тортометателей». С «летающими» тортами встречались лицом к лицу многие политики и кинозвезды, но главной их мишенью являются лидеры крупного бизнеса: досталось и CEO Microsoft Биллу Гейтсу, и СЕО Monsanto Роберту Шапиро, и CEO Chevron Кену Дерру, и директору Всемирной торговой организации Ренато Руджиеро, и творцу «глобальной свободной торговли» Милтону Фридману. «На любую их ложь мы ответим нашим тортом», — говорит член «Бригады биотических кондитеров», скрывающийся под псевдонимом «Агент Черника» (см. фото на с. 330).
Это увлечение зашло так далеко, что в мае 1999 года Tesco, одна из крупнейших в Англии сетей супермаркетов, протестировала собственную выпечку для выявления наиболее пригодных для метания тортов. «Мы стараемся идти в ногу с нашими покупателями, потому и проводим эти тесты», — сказала пресс-представитель компании Мелодик Шустер. И вот ее рекомендации: «Торт с заварным кремом обладает наибольшей укрывающей способностью, равномерно растекаясь по всему лицу при столкновении с ним». И еще потребителей заверили: ни один из тортов Tesco не содержит генетически модифицированных ингредиентов. Сеть запретила использование в своих продуктах подобных веществ месяцем раньше в ответ на взрыв антикорпоративного общественного возмущения, направленный против корпорации Monsanto и других гигантов агробизнеса.
Как мы увидим в одной из последующих глав, Tesco приняла решение откреститься от генетически модифицированных продуктов питания после того, как у самого ее порога прошла серия манифестаций протеста против «франкенпродуктов»[18] — такая стратегия пользуется все большей популярностью среди общественно-активных группировок. Политические демонстрации, раньше очерчивавшие предсказуемые траектории вокруг правительственных зданий и консульств, теперь с таким же успехом могут появиться перед корпоративными гигантами — Nike Town (см. фото на с. 406), Foot Locker, Disney Store, у автозаправочных станций Shell, на крыше корпоративной штаб-квартиры Monsanto или ВР, в моллах, у магазинов Gap и даже в супермаркетах.
Короче говоря, триумф экономической глобализации вдохновил целое движение пытливых и технически грамотных активистов, мыслящих столь же глобально, как и преследуемые ими корпорации. Эта мощная форма общественной деятельности идет гораздо дальше традиционных профсоюзных методов борьбы. Участвуют в ней молодые и старые; это представители утомленных брэндингом начальных школ и университетских кампусов; это церковные группировки, владеющие крупными пакетами ценных бумаг, озабоченные тем, что корпорации ведут себя «греховно». Это родители, встревоженные раболепной преданностью своих детей кланам, поклоняющимся тому или иному брэнду, а также политически грамотная интеллигенция и социально-сознательные специалисты по маркетингу, которым качество жизни общества дороже повышения уровня продаж. К октябрю 1997 года во всем мире происходило столько самых разных антикорпоративных выступлений против Nike, Shell, Disney, McDonald's и Monsanto, что организация Earth First! («Главное — Земля!») наскоро выпустила календарь со всеми ключевыми датами и провозгласила октябрь своим первым «Месяцем борьбы за окончание корпоративного господства». Месяц спустя газета The Wall Street Journal опубликовала статью под заголовком «Спешите! До Рождества осталось только 27 дней протеста».
В Северной Америке многое из этой активистской деятельности восходит к 1995-1996 годам, периоду, который Эндрю Росс, директор программы американских исследований Нью-Йоркского университета, назвал «годом потогонной системы». В течение этого периода бывали моменты, когда люди не могли включить телевизор без того, чтобы не услышать позорных историй о примерах жестокого эксплуататорского отношения к собственным сотрудникам, стоящих за самыми популярными, самыми известными на рынке марками, украшающими «брэндшафт» цивилизации. В августе 1995 года с фасада фирмы Gap, которую только что основательно «почистили», был снят еще один слой глянца. Под ним обнаружилась незаконная фабрика в Сальвадоре, менеджер которой в ответ на кампанию по организации профсоюза уволил 150 человек и пригрозил, что в случае продолжения этой деятельности «прольется кровь». В мае 1996 года защитники прав трудящихся в США обнаружили, что коллекцию спортивной одежды Kathie Lee Gifford, названную так по имени ведущей популярного ток-шоу и эксклюзивно продаваемую в Wal-Mart, производят благодаря кошмарному сочетанию детского труда в Гондурасе и подпольным потогонным швейным цехам в Нью-Йорке. Примерно в это же время компания Guess, выстроившая свой имидж на черно-белых фотографиях знойной супермодели Клаудии Шиффер, находилась в состоянии открытой войны с Департаментом труда США (U. S. Department of Labor): базирующиеся в Калифорнии подрядчики компании платили рабочим меньше минимального размера заработной платы. Даже Микки Маусу пришлось предъявить свои потогонные мастерские, когда подрядчика компании Disney на Гаити поймали на производстве пижам Pocahontas в условиях такой нищеты, что его работницы были вынуждены кормить своих младенцев подслащенной водой.
Волна возмущения поднялась еще выше, когда за несколько дней до Рождества 1996 года на NBC вышел в эфир репортаж о расследовании практики организации труда на фабриках компаний Mattel и Disney. Используя скрытую камеру, журналист показал, что дети в Индонезии и Китае работают практически как рабы, «чтобы американские дети могли одевать в вычурные платья свою любимую куклу». В июне 1996 года новые волны возмущения поднял журнал Life, опубликовав фотографии пакистанских детишек — шокирующе маленьких, получающих всего лишь шесть центов в час, — сгорбившихся над футбольными мячами, на которых отчетливо видна найковская загогулина. Но не только Nike — Adidas, Reebok, Umbro, Mitre и Brine тоже производили мячи в Пакистане, где, согласно оценкам, было занято 10 000 детей, многих из которых продавали их хозяевам на кабальных условиях как рабов и клеймили, как домашний скот. Страшные изображения в Life побудили к действиям многих родителей, учащихся и учителей по всей Америке и Канаде: они делали из этих фотографий плакаты и выходили с ними на демонстрации протеста у спортивных магазинов.
Параллельно развивалась история с кроссовками Nike. Найковская сага началась еще до «Года потогонной системы» и теперь прогрессировала по мере того, как споры вокруг других корпораций то попадали в центр внимания общественности, то исчезали из него. Скандалы преследовали Nike: появлялись новые откровения об условиях труда на фабриках по мере «перелета» производств компании из одной страны мира в другую. Первым появился репортаж о разгоне профсоюза в Южной Корее; когда подрядчики «улетели» оттуда и осели в Индонезии, соглядатаи последовали за ними и продолжали слать репортажи о нищенских ставках заработной платы, военизированных методах управления и запугивании рабочих. В марте 1996 года The New York Times сообщила, что после стихийной забастовки на одной яванской фабрике уволили 22 человека, а активиста, которого сочли организатором, заперли в помещении за территорией фабрики и допрашивали в течение семи дней. Когда Nike начала переносить производство во Вьетнам, появились свидетельства надувательства при оплате труда и избиения рабочих знаменитыми кроссовками. Когда производство окончательно переместилось в Китай, конфликты вокруг ставок и напоминающего армейскую «учебку» стиля руководства последовали за ним.
Но не только супербрэнды и рекламирующие их знаменитости почувствовали на себе жало «Года потогонной системы» — на сети магазинов одежды, крупнейших ритейлеров и большие универмаги тоже возложили ответственность за те условия труда, в которых производились лежащие на их полках игрушки и модные вещи. Вопрос этот встал перед Америкой в августе 1995 года, когда Департамент труда США устроил рейд в одном из жилых комплексов города Эль-Монте, штат Калифорния. Там были обнаружены 72 тайские швеи, содержавшиеся в самом настоящем рабстве; некоторые пробыли там уже семь лет. Владелец подпольной мастерской был в отрасли фигурой мелкой, но одежду, которую шили рабыни, продавали такие гиганты-ритейлеры, как Target, Sears и Nordstrom.
С тех пор как в 90-х годах потогонная система вновь вернулась в американское общество, чаще всего доставалось Wal-Mart. Крупнейший в мире ри-тейлер, Wal-Mart является главным распространителем многих вызвавших скандалы фирменных товаров и брэндов: линии одежды Kathie Lee Gifford, сделанных на Гаити пижам Disney, сшитой детьми Бангладеш одежды, произведенных в потогонных цехах Азии игрушек и спортивных товаров. Почему, спрашивали потребители, если компания Wal-Mart способна снижать цены, изменять дизайн обложек CD и влиять на содержание журналов, почему тогда она не может потребовать от своих поставщиков придерживаться этических норм и следить за поддержанием приемлемых условий труда?
Хотя эти разоблачения появлялись в прессе лишь время от времени, все они вместе заставили общество заглянуть под капот брэндовой Америки. То, что они там увидели, мало кому понравилось. Возмутительная связь прославленных брэндов с ужасающими условиями производства превратила Nike, Disney, Wal-Mart и им подобных в острую метафору нового бесчеловечного образа ведения бизнеса. Сам по себе этот образ — потогонный цех по производству товаров под всемирно известными марками — повествует о доходящих до непристойности несуразицах глобальной экономики: руководители корпораций и знаменитости загребают уму непостижимые зарплаты, миллиарды долларов тратятся на брэндинг и рекламу — и все это выстроено на системе трущобных поселений, убогих фабрик, нищеты и обманутых надежд борющихся за выживание молодых женщин, что я и наблюдала в Кавите.
«Год потогонной системы» постепенно перешел в «Год наступления на брэнды». Познакомившись с людьми, производящими игрушки и одежду, покупатели увидели и тех, кто выращивает кофе для кофеен Starbucks. Согласно данным американского «Проекта по профессиональному образованию в Гватемале», часть кофе, используемого в этой сети, выращена с применением детского труда, небезопасных пестицидов и при ставках заработной платы ниже прожиточного уровня. Но где более всего мир брэндов оказался вывернут наизнанку, так это в лондонском суде. Получивший широкую огласку процесс о «Мак-клевете» начался в 1990 году, когда компания McDonald's попыталась помешать распространению листовки, в которой ее обвиняли в целом ряде злодеяний — от разгона профсоюзов до вырубки тропических лесов и засорения городских улиц. McDonald's отвергла обвинения и подала в суд за клевету на двух лондонских активистов-экологов. Активисты защищались, подвергнув компанию своеобразной корпоративной колоноскопии: процесс длился семь лет, и ни одно из нарушений, совершенных McDonald's, не было признано настолько ничтожным, чтобы его не стоило бы выносить в зал суда или размещать информацию о нем в Интернете.
Утверждения ответчиков на процессе по «Мак-клевете» относительно сомнительной безопасности продуктов совпали с другим антикорпоративным выступлением, пронесшимся по Европе в то же самое время: кампанией против Monsanto и ее подвергнутых биоинженерной обработке сельскохозяйственных продуктов. В центре дискуссии стоял отказ Monsanto информировать потребителей о том, какие из купленных ими в супермаркете продуктов были плодом генетической инженерии, вызвавший волну активных действий, в том числе и уничтожение экспериментальных посадок Monsanto.
Затем, как будто всего этого было мало, транснациональные корпорации оказались под колпаком за свою связь с самыми жестокими и репрессивными режимами в мире — правительствами Бирмы, Индонезии, Колумбии, Нигерии и Китая, оккупировавшего Тибет. Вопрос этот отнюдь не нов, но, как и кампании против McDonald's и Monsanto, он вновь привлек внимание общественности во второй половине 90-х годов; тогда большая часть выступлений была направлена на ряд знакомых всем корпораций, работающих в Бирме (ныне официально именуемой Мьянмой). Кровавый переворот, приведший к власти нынешний военный режим в Бирме, случился в 1988 году, но мировая общественность по-настоящему узнала о нечеловеческих условиях жизни в этой азиатской стране только в 1995 году, когда из-под шестилетнего домашнего ареста была освобождена лидер оппозиции, лауреат Нобелевской премии Аунг Сан Суу Кьи. В снятом на видеопленку обращении, тайно вывезенном из страны, Суу Кьи осудила иностранных инвесторов за поддержку хунты, которая проигнорировала внушительную победу ее партии на выборах 1990 года. Компании, ведущие бизнес в Бирме, утверждала она, прямо или косвенно наживаются на управляемых государством лагерях с использованием рабского труда. «Иностранные инвесторы должны понять, что никакой экономический рост в Бирме невозможен, пока нет согласия о политическом будущем страны».
Первой реакцией защитников прав человека было давление на правительства Северной Америки, Европы и Скандинавии с целью введения торговых санкций против Бирмы. Когда выяснилось, что сдержать торговые потоки таким способом не удается, они начали подвергать атакам отдельные компании — в зависимости от того, где жили сами активисты. В Дании центром протестов стал производитель пива Carlsberg, заключивший большой контракт на строительство пивоваренного завода в Бирме. В Голландии их мишенью стал Heineken, в США и Канаде на мушку попались Liz Claiborne, Unocal, Disney, Pepsi и Ralph Lauren.
Самой же значительной вехой на пути роста антикорпоративной деятельности стал тот же 1995 год, когда мир потерял Кена Саро-Виву. Чтимый повсюду нигерийский писатель и лидер экологического движения был арестован деспотическим режимом своей страны за то, что возглавил выступления народа огони против разрушительных для людей и окружающей среды последствий бурения нефтяных скважин в дельте реки Нигер, осуществляемым компанией Royal Dutch/Shell. Группы по защите прав человека требовали вмешательства со стороны своих правительств; были введены экономические санкции, оказавшиеся малоэффективными. В ноябре 1995 года Саро-Вива вместе с восемью другими активистами народа огони был казнен военным режимом, который обогащался нефтедолларами Shell за счет угнетения собственного народа.
«Год наступления на брэнды» растянулся на два года, потом на три и пока еще не проявляет признаков затухания. В феврале 1999 года один отчет показал, что рабочие, шьющие одежду для Disney на нескольких китайских фабриках, получают 13,5 центов в час и вынуждены работать немало часов сверх нормы. В мае 1999 года программа «20/20» телекомпании ABC снова побывала на острове Сайпан и привезла оттуда съемки молодых женщин запертых внутри потогонных фабрик и шьющих одежду для Gap, Tommy Hilfiger и Ralph Lauren. Появились новые сведения о жестоких столкновениях, сопровождающих установку буровых в дельте Нигера компанией Chevron и вокруг планов Talisman Energy бурить скважины на спорных территориях раздираемого войной Судана.
Масштабы и сила общественного возмущения стали для корпораций ударом с неожиданной стороны — в немалой степени потому, что методы работы, за которые их осуждают, не так уж и новы. McDonald's никогда особо не дружила с работающей беднотой; нефтяные компании имеют в своем архиве долгую историю ничем не омрачаемого сотрудничества с деспотическими режимами в целях варварской добычи полезных ископаемых — без особой заботы о людях, живущих в районах залегания этих ресурсов. Nike производит свои кроссовки в азиатских потогонных цехах с 70-х годов, а многие компании, торгующие одеждой, — еще дольше. Как пишет в Wall Street Journal Боб Ортега, профсоюзы собирают сведения о детях Бангладеш, используемых в производстве одежды, которую продает Wal-Mart, с 1991 года, но «хотя у профсоюзов давно есть фотографии детей на сборочных конвейерах… эти обвинения не получили большого освещения ни в прессе, ни на телевидении».
Очевидно, что нынешнее внимание к корпоративным злоупотреблениям обусловлено целеустремленностью и упорством активистов, занятых этими проблемами. Но поскольку многое, осуждаемое сейчас, происходило десятилетиями, нынешний взрыв сопротивления вызывает вопрос: почему именно сейчас? Почему именно период 1995-1996 годов стал «Годом потогонной системы», быстро переросшим в «Год наступления на брэнды»? Почему не 1976-й, 1984-й, 1988-й, почему, самое, может быть, главное, не 1993-й? Ведь в мае именно этого года сгорела дотла фабрика игрушек Kader в Бангкоке. С точки зрения противопожарной безопасности здание представляло собой классическую ловушку, и, когда загорелись горы плюша, пламя заметалось по запертой фабрике, оставив после себя 188 погибших и 469 пострадавших. Это был самый страшный пожар в истории отрасли, унесший больше жизней, чем нью-йоркский пожар 1911 года в Triangle Shirtwaist Company — тогда погибло 146 молодых работниц. От проведения параллели между Triangle и Kader, разделенных океанами и 82 годами так называемого развития, по спине бегут мурашки: ощущение, что время не продвинулось вперед, а только сменило географию.
В Triangle, как и на Kader, работали молодые девушки — не старше двадцати лет. Опубликованный после пожара отчет сообщал, что погибшие были в основном иммигрантками из Италии и России и более половины приехали в США прежде своих семей, чтобы заработать на переезд родителей, братьев и сестер, — и это очень похоже на приезжих крестьянских девушек, погибших в Kader! Как и фабрика Kader, здание Triangle только и ждало несчастного случая: имитация запасных выходов, курганы легковоспламеняющихся материалов и запертые на целый день двери — чтобы не допустить на производство профсоюзных лидеров. Как и девушки на Kader, многие юные женщины в Triangle обвязывали себя тканями и выпрыгивали из окон на верную смерть — так, рассуждали они, родственники, по крайней мере, распознают их тела. Вот как описывал страшную сцену пожара Triangle репортер New York World: «Внезапно нечто напоминающее связку темной одежды вываливается из окна восьмого этажа. Потом из того же окна стремительно вылетает еще что-то, вроде тюка материи, но на сей раз ветер распахивает ткань, и все пятьсот человек, собравшихся у здания, испускают крик ужаса. Ветер обнаруживает фигуру девушки, летящую вниз к мгновенной смерти».
Пожар в Triangle Shirtwaist Company был решающим эпизодом в первом противопотогонном движении в США. Оно послужило катализатором воинственных настроений сотен тысяч рабочих, и побудило правительство к действиям, приведшим в результате к установлению верхнего предела сверхурочной работы на уровне 54 часов в неделю, к запрету на работу позже девяти часов вечера и к прорыву в принятии законов и норм по охране труда и противопожарной безопасности. Самым, может быть, значительным достижением этого движения было возникновение того, что сегодня назвали бы независимым мониторингом: была основана нью-йоркская комиссия по обследованию фабрик, наделенная полномочиями устраивать неожиданные рейды на попавших под подозрение управляющих потогонных цехов.
А что последовало за гибелью 188 человек в пожаре на Kader? Как это ни печально, несмотря на вмешательство нескольких международных организаций по защите прав трудящихся и развитию человека, осудивших нарушившего закон владельца фабрики, Kader не стал символом отчаянной необходимости реформ, как это произошло с Triangle Shirtwaist. В статье «Мир все тот же — готовы вы к этому или нет» (One World, Ready or Not) Уильям Грайдер описывает свою поездку в Таиланд и встречи с жертвами пожара и активистами, борющимися за наказание виновных. «Некоторые из них находились под впечатлением, что происходит всемирный бойкот продукции Kader, организованный совестливыми американцами и европейцами. Пришлось мне объяснить им, что цивилизованный мир их трагедию едва ли заметил. Пожар в Бангкоке для него — как тайфун в Бангладеш или землетрясение в Турции». Чего же удивляться в таком случае, что всего через шесть месяцев после Kader другой губительный пожар — на этот раз на игрушечной фабрике Zhili в китайском городе Шеньжене — унес жизни 87 юных работниц.
Тогда, похоже, в сознании международного сообщества не отложилось, что игрушки, которые шили девушки на Kader, предназначались для праздничных полок Toys 'R' Us, чтобы их покупали, заворачивали в цветную бумагу и укладывали под елки в Европе, Соединенных Штатах и Канаде. Многие репортеры даже не упомянули те брэнды, продукцию которых шили на фабрике. Как пишет Грайдер: «Пожар на Kader мог бы значить для американцев гораздо больше, если бы они увидели тысячи измазанных сажей кукол, оставшихся после катастрофы, этот мрачный мусор, разбросанный среди трупов. Багс-Банни, Барт Симпсон, Маппетсы, Большая Птица и другие персонажи „Улицы Сезам“, „Водные питомцы“ от фирмы Playskool»[19].
Но в 1993 году мало кто на Западе — и уж во всяком случае, в западных СМИ, — был готов связать сгоревшее здание в Бангкоке, похороненное на шестой или десятой полосе их газет, с игрушками под известными марками, которые были в каждом американском или европейском доме. Сегодня это уже не так. После случившегося в 1995 году что-то «щелкнуло» в коллективном сознании и СМИ, и общества. То, что накопилось в сознании от страшных рассказов о принудительном труде заключенных в Китае, о работающих за гроши девочках-подростках в мексиканских maquiladoras, о пожирающем пламени в Бангкоке, вылилось в медленный, но заметный сдвиг отношения Запада к трудящимся развивающихся стран. «Они отнимают у нас работу» сменяется более человечной реакцией: «Наши корпорации отнимают у них жизнь».
Во многом тут сыграло роль совпадение событий по времени. Выражаемая и ранее озабоченность применением детского труда в Индии и Пакистане более десятилетия оставалась на уровне монотонного брюзжания.
К 1995 году вопрос об увязывании торговой политики с соблюдением прав человека отошел в повестке дня большинства правительств на такой дальний план, что когда 13-летний Крейг Килбергер намеренно сорвал торговую миссию канадского премьер-министра Жана Кретьена в Индию, заявив во всеуслышание о рабском труде детей в этой стране, проблема вдруг оказалась необычной и неотложной. Выяснилось, что тотальное подчинение внешней политики стран Северной Америки интересам свободной торговли требует срочного вмешательства, — мир был готов слушать.
То же можно сказать и о преступной деятельности корпораций в целом. Пусть в том, что потребительские товары производят в тяжелых условиях, сопровождающихся настоящим угнетением трудящихся, нет ничего нового, но в чем новизна, безусловно, есть, так это в той невероятно возросшей роли, которую компании, производящие потребительские товары, играют в нашей культуре. Антикорпоративное движение потому и набирает силу, что многие из нас ощущают международные связи именитых брэндов, которые охватывают мир более плотно, чем наши собственные связи между собой, а чувствуем мы их именно потому, что никогда не были так «повязаны» брэндами, как сейчас.
Брэндинг, как мы видели, взял достаточно простые взаимоотношения между продавцом и покупателем и своими стараниями — попытками сделать брэнды поставщиками информации, создателями искусства, городскими площадями и социальными теоретиками — превратил их в нечто гораздо более глубокое и агрессивно-захватническое. На протяжении последнего десятилетия транснациональные корпорации Nike, Microsoft, Starbucks и прочие стремятся стать главными проводниками всего, что только ни есть доброго и ценного в нашей культуре — искусств, спорта, общности, единения, равенства. Но чем успешнее эти их начинания, тем уязвимее становятся сами компании: если брэнды так тесно вплетены в нашу культуру и наше самосознание, то, когда они совершают зло, мы уже не отбросим их преступления просто как грешок неизвестной корпорации, старающейся заработать лишний доллар. Нет, многие из населяющих их «брэндовые миры» чувствуют себя соучастниками этих злоупотреблений, ощущают свою сопричастность и свою вину. Но сопричастность эта не слишком глубока; это уже не былая лояльность человека, всю жизнь прослужившего в компании, своему боссу; скорее, она сродни взаимоотношениям между талантом и поклонником — эмоционально напряженным, но не особенно глубоким и способным в любой момент прерваться.
Такая непрочность — не предусмотренное брэнд-менеджерами следствие их неуемного стремления к беспрецедентной близости с людьми как с потребителями и одновременно гораздо более отстраненного подхода в отношениях с ними как с рабочей силой. Становясь «брэндами, а не товарами» и впадая в экономическую нирвану, эти компании потеряли две вещи, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться драгоценными: невмешательство потребителя в их глобальную деятельность и заинтересованность граждан в их экономическом успехе.
Да, должно было пройти время, но теперь, если случится новый Kader, журналисты непременно спросят: «Какие игрушки там делали?», «Кому их поставляли?», «Какие компании работали с этими подрядчиками?» Защитники прав трудящихся в Таиланде немедленно войдут в контакт с группами поддержки в Гонконге, Вашингтоне, Берлине, Амстердаме, Сиднее, Лондоне, Торонто. Электронная почта понесет послания от базирующейся в Вашингтоне «Кампании за права трудящихся» и от «Кампании за чистую одежду» из Амстердама, распространяя их по сети веб-сайтов, почтовых серверов и факсов. Национальный комитет труда, UNITE!, коалиция «За брэндом — труд» (Labour Behind the Label) и «Движение за мировое развитие» станут устраивать манифестации протеста у дверей магазинов Toys 'R' Us с криками: «Нашим детям не нужны игрушки, заляпанные кровью!». Студенты университетов начнут наряжаться в костюмы героев мультфильмов из их детства и раздавать листовки, в которых размеры прибыли от продаж кукол Багс-Банни будут сравниваться со стоимостью установки пожарных выходов на фабрике Kader. Будут созываться совещания с участием национальных ассоциаций производителей игрушек; будут внедряться новые, более строгие этические кодексы ведения бизнеса. Общественное сознание не только готово, но и горит желанием установить те глобальные связи, которые искал и не мог найти Уильям Грайдер после пожара на Kader.
Хотя антикорпоративное движение переживает взлет, не виданный с 30-х годов, за этот период, конечно, проходили довольно значительные кампании. «Дедушкой» нынешней связанной с брэндами активности был бойкот Nestle в конце 70-х годов. Кампания была нацелена на эту швейцарскую фирму за ее агрессивный маркетинг дорогостоящего детского питания, рекламируемого как «наиболее безопасная» альтернатива кормлению грудью в развивающихся странах. Дело Nestle имело много общего с процессом о «Мак-клевете» (мы рассмотрим его подробно в главе 16-й) в большой мере потому, что вопрос по-настоящему привлек внимание мировой общественности только тогда, когда в 1976 году компания допустила ошибку и привлекла к суду за клевету одну швейцарскую общественную группу. Как и в случае с «Мак-клеветой», судебное разбирательство вызвало придирчивые расследования деятельности Nestle и привело к международному бойкоту, начавшемуся в 1977 году.
В 80-е годы произошла крупнейшая промышленная авария в истории человечества: массивная утечка ядовитых веществ на принадлежащей Union Carbide фабрике по производству пестицидов в индийском городе Бхопал повлекла за собой немедленную смерть двух тысяч человек и еще пяти тысяч в последующие годы. Сегодня на стене обшарпанной и заброшенной фабрики начертано граффити: «Бхопал = Хиросима». Несмотря на эту трагедию, причиной которой повсеместно признавали недостаточные меры безопасности, в том числе и выключенную систему аварийного оповещения, 80-е не стали плодотворным десятилетием для большинства политических движений, которые ставят под вопрос способность капитала приносить пользу человечеству. Хотя во время центрально-американских войн многие признавали, что транснациональные корпорации США оказывают поддержку различным диктаторским режимам, движения солидарности в Северной Америке были сосредоточены главным образом на действиях правительств, а не корпораций. Как говорится в одном отчете, "люди были склонны рассматривать нападки как пережиток «глупых 70-х».
Впрочем, из этого правила было одно серьезное исключение — движение против апартеида. Недовольные отказом международного сообщества применить действенные торговые санкции к Южной Африке, борцы с апартеидом стали блокировать дороги, чтобы если и не остановить получение транснациональными корпорациями прибыли от расистского режима, то хотя бы создать им в этом неудобства. Студенты и преподаватели нескольких университетов разбивали палаточные городки, требуя, чтобы их учебные заведения отказались принимать пожертвования от компаний, имеющих дело с этой африканской страной. Церковные организации, владевшие акциями компаний, на собраниях акционеров требовали немедленного ухода из Южной Африки. Более умеренные инвесторы побуждали советы директоров корпораций придерживаться принципов Салливана — набора правил
для компаний, ведущих бизнес в этой стране, направленных на минимизацию их содействия режиму апартеида. Тем временем профсоюзы забирали свои пенсионные сбережения и закрывали счета в банках, предоставлявших займы южно-африканскому правительству, а десятки муниципальных правительств приняли решения разорвать большие контракты с компаниями, инвестирующими в Южную Африку. Самым изобретательным в своих протестах оказалось международное профсоюзное движение. Несколько раз в год профсоюзы объявляли день активных действий, и тогда докеры отказывались разгружать корабли, пришедшие из Южной Африки, а агенты авиакомпаний — бронировать билеты на рейсы в Йоханнесбург и обратно. По словам организатора кампании Кена Лукхардта, рабочие стали «активистами на рабочих местах».
Хотя между действиями против апартеида и тем видом антикорпоративной деятельности, что набирает силу сегодня, есть определенное сходство, существует между ними и одно принципиальное отличие. Бойкот Южной Африки был антирасистской кампанией, которой случилось использовать торговлю (будь то импорт вина или экспорт долларов, заработанных General Motors) в качестве орудия для свержения южно-африканской политической системы. Многие из нынешних антикорпоративных кампаний тоже по сути политические выступления, но атакуют они и глобальную экономическую систему, и собственную политическую. В годы борьбы с апартеидом такие компании, как Royal Bank of Canada, Barclays Bank в Англии и General Motors, считались с точки зрения морали нейтральными силами, которым случилось связаться с «нехорошим» расистским правительством. Сегодня же все больше и больше участников акций протеста относятся к транснациональным корпорациям — и к политике, которая предоставляет им полную свободу действий, — как к главной причине творящейся во всем мире политической несправедливости. Иногда компании допускают нарушения при содействии правительств, иногда — вопреки их искренним усилиям.
Подобный системный подход к критике корпораций стали в последние годы применять такие признанные правозащитные организации, как Amnesty International, PEN и Human Rights Watch, а также экологические группы, например Sierra Club. Для многих из них это означает существенные изменения в стратегии и тактике. До середины 80-х годов общественность развитых стран Запада рассматривала корпоративные иностранные инвестиции в страны «третьего мира» как ключ к борьбе с нищетой и страданиями. Однако к 1996 году эта концепция уже открыто ставилась под сомнение и было признано, что многие правительства развивающихся стран защищают прибыльные инвестиции — шахты, плотины, нефтяные промыслы, электростанции и зоны экспортного производства, — закрывая глаза на вопиющие нарушения прав своего народа со стороны иностранных корпораций. А страны Запада, в которых располагается большинство этих корпораций-нарушителей, в своей эйфории по случаю роста внешней торговли тоже предпочитают ничего не видеть и не рисковать своей глобальной конкурентоспособностью из-за проблем чужой страны. В итоге посулы, что инвестиции принесут с собой больше свободы и демократии в страны Азии, Африки и Латинской Америки, начали выглядеть как грубый розыгрыш. Хуже того, один за другим открываются случаи, когда иностранные корпорации ищут помощи, а иногда и непосредственно нанимают местную полицию и военных для таких неблаговидных задач, как выселение крестьян и целых племен с их земель, разгон бастующих фабричных рабочих, арест и убийство мирных демонстрантов, — и все во имя обеспечения бесперебойной торговли. Иными словами, корпорации препятствуют развитию человека вместо того, чтобы ему способствовать.
Арвинд Ганесан, исследователь в составе правозащитной организации Human Rights Watch, без экивоков говорит о том, что его организация называет «переменами в содержании дебатов об ответственности корпораций за соблюдение прав человека». Вместо того чтобы лучше охранять права человека, чему должны способствовать доходы от роста международной торговли, «правительства игнорируют человеческие права ради приобретения дополнительных торговых преимуществ». Ганесан указывает, что разрыв связи между инвестициями и совершенствованием соблюдения прав человека наиболее отчетливо виден сегодня в Нигерии, где давно ожидаемый переход к демократии сопровождался новым взрывом жестокости военных по отношению к жителям дельты Нигера, протестовавших против нефтяных компаний.
Amnesty International, отходя от своего традиционного внимания к преследуемым за свои религиозные или политические убеждения, тоже начинает рассматривать транснациональные корпорации как виновников нарушения прав человека во всем мире. Все чаще и чаще в последние годы отчеты организации сообщают о том, что таких людей, как погибший Кен CapoВива, преследовали за то, что ныне правительства считают дестабилизирующей антикорпоративной позицией. В отчете 1997 года приводится сообщение о том, что крестьян и представителей племен в Индии арестовывали, а некоторых даже убивали за то, что они мирно протестовали против строительства на их землях частных электростанций и роскошных отелей. Иными словами, в результате корпоративного вмешательства демократическая страна становилась менее демократичной. «Таким образом, развитие, — предупреждали эксперты Amnesty International, — происходит за счет ущемления прав человека…»
Этот пример показывает, до какой степени центральные власти и власти штатов Индии готовы применить силу государства и использовать гибкость законов в интересах строительных проектов, ограничивая при этом права на свободу собраний, свободу слова и свободу организаций. Шаги Индии к либерализации своей экономики и развитию новых отраслей и инфраструктуры привели во многих регионах к маргинализации или переселению целых сообществ и способствовали дальнейшим нарушениям их гражданских прав.
Ситуация в Индии, утверждает отчет, «не единственная и не самая худшая», это только одно из проявлений тенденции к несоблюдению прав человека ради «развития» глобальной экономики.
Главным пунктом, в котором сходятся многочисленные антикорпоративные движения и многие исследователи, является признание того факта, что корпорации суть нечто гораздо большее, чем поставщики нужных всем нам товаров, — они также представляют собой самую могущественную политическую силу нашего времени. Мы уже читали статистику: корпорации, подобные Shell и Wal-Mart, жиреют на бюджете, превышающем валовый национальный продукт большинства стран; из ста самых мощных экономических систем пятьдесят одна является корпорацией и только сорок девять — странами. Мы слышали (или читали), как горстка могущественных СЕО пишет новые правила глобальной экономики, замышляя, по словам канадского писателя Джона-Ролстона Сола, «государственный переворот в замедленном воспроизведении». В своей книге о власти корпораций «Тихий переворот» (Silent Coup) Тони Кларк делает следующий шаг в развитии этой теории и утверждает: граждане должны выступить против корпораций не потому, что нам не нравятся их товары, а потому, что корпорации стали господствующими политическими учреждениями нашей эпохи, устанавливающими планы глобализации. Иными словами, мы должны противостоять корпорациям, потому что именно им принадлежит власть.
Таким образом, когда СМИ говорят о кампаниях, подобных тем, что была развернута против Nike, как о «бойкоте со стороны потребителей», они раскрывают только часть правды. Точнее было бы называть их политическими кампаниями, которые используют потребительские товары как легкодоступную мишень, как рычаги пропаганды и как орудие просвещения масс. В отличие от потребительских бойкотов 70-х, сейчас существует более размытое соотношение между предпочтениями в образе жизни (что есть, что курить, что носить) и более важными вопросами о том, как глобальная корпорация — ее размер, политическое влияние, непрозрачность — реорганизует мировую экономику. За демонстрациями протеста у Найк-тауна, за тортами, размазанными по лицу Билла Гейтса, за бутылками, летящими в витрины McDonald's в Праге, стоит нечто такое, что чувствуется только нутром, а общепринятыми средствами не измеряется — нечто вроде растущего ощущения недовольства или плохого настроения. И разбойный захват корпорациями политической власти в такой же мере ответственен за это настроение, как и разграбление брэндами общественного и душевного культурного пространства. Мне думается, что оно, это настроение, имеет какое-то отношение к высокомерию самого брэндинга: семена недовольства содержатся в самой его ДНК.
— Слушай, Майк, для правды о Nike найдется настоящий рынок… Нашим дебютным продуктом будет эксклюзивная база данных о нарушениях трудового законодательства! Так и вижу сайт в сети и CD-ROM со статистическими данными, свидетельствами рабочих, отчетами правозащитников и видеосъемками скрытой камерой!
— Типа нишевого продукта, а, лапа?
— Ну, нет. Это будет покруче!
Это диалог из комикса Гарри Трюдо Doonesbury — шутка вполне ядовитая. Продолжающиеся атаки на известные брэнды отражают не только искреннее
возмущение потогонной системой, разливами нефти и корпоративной цензурой, но и то, насколько многочисленной стала эта негодующая публика. Желание (и возможности) подкреплять витающие в воздухе антикорпоративные настроения подтвержденными фактами, цифрами и эпизодами из реальной жизни распространилось так широко, что стало даже превозмогать былые распри внутри социальных и экологических движений. Объединенный профсоюз рабочих пищевой промышленности и торговли, который начал нападать на компанию Wal-Mart за ее низкие ставки и антипрофсоюзную деятельность, теперь собирает и распространяет информацию о том, как Wal-Mart строит магазины на священных для туземных племен местах захоронений. С каких пор профсоюз работников продуктовых магазинов стал вмешиваться в спор о туземных землях? Да с тех самых, когда «пинать» Wal-Mart стало правым делом само по себе. Почему лондонские экоанархисты, стоявшие за процессом о «Мак-клевете», которые отвергают саму идею работать на кого-либо в любой форме, приняли сторону работавших на McDonald's тинейджеров? Да потому что для них это еще один повод напасть на золотого тельца.
Политический фон этого явления общеизвестен. Многие движения граждан старались развернуть вспять экономические тенденции последнего десятилетия, выбирая либеральные, лейбористские или социал-демократические правительства — только для того, чтобы обнаружить, что экономическая политика остается прежней или даже еще более благосклонной к выкрутасам глобальных корпораций. Сотни лет демократических реформ, приведших к большой прозрачности в действиях правительств, вдруг оказались безрезультатными в этом новом климате транснациональной власти. Что толку в прозрачном и подотчетном парламенте или конгрессе, если непрозрачные корпорации закулисно определяют большую часть глобальной политической повестки дня?
Крушение иллюзий о возможностях политических методов протеста еще более отчетливо проявилось на международной арене, где попытки регламентировать действия транснациональных корпораций через Организацию Объединенных Наций или регулирующие торговые организации на каждом шагу блокировались. Существенный шаг назад в этом отношении был сделан в 1986 году, когда правительство США фактически уничтожило малоизвестную Комиссию ООН по транснациональным корпорациям. Созданная в середине 70-х годов, эта комиссия начала разработку универсального кодекса поведения для транснациональных корпораций. Целью было предотвращение корпоративных злоупотреблений, например выбрасывания на рынки «третьего мира» запрещенных на Западе лекарственных препаратов; изучение экологических и социальных последствий экспортных производств и выкачивания природных ресурсов; подведение частного сектора к большей прозрачности и подотчетности.
Сегодня полезность поставленных задач представляется очевидной, но тогда комиссия во многом пала жертвой своего времени. Американская промышленность с самого начала противилась ее созданию, и в пылу мании «холодной войны» сумела добиться отмены ее поддержки со стороны своего правительства под тем предлогом, что комиссия — это на самом деле коммунистический заговор и Советы используют ее в шпионских целях. Почему, задавался вопрос, государственные предприятия советского блока не подвержены тем же строгим проверкам, что и американские компании? В ту эпоху критика корпоративных злоупотреблений была так тесно связана с антикоммунистической истерией, что, когда в 1984 году произошла бхо-палская трагедия, первой реакцией чиновника американского посольства в Нью-Дели было не выражение ужаса, а слова: «То-то праздник для коммунистов! Им теперь на несколько недель хватит темы для разговоров».
В более поздние времена попытки заставить Всемирную торговую организацию включить в условия международной торговли меры по соблюдению базовых законов о труде были отвергнуты странами-участницами на том основании, что принятие таких мер — дело Международной организации труда (МОТ). МОТ «является компетентным органом разработки и внедрения подобных стандартов, и мы подтверждаем нашу поддержку ее деятельности по их продвижению», — говорится в Сингапурской декларации министров стран-участниц ВТО от 13 декабря 1996 года. Однако когда МОТ проявила инициативу по разработке конструктивного корпоративного кодекса, ее действия в этом направлении тоже заблокировали.
Поначалу эти неудачные попытки поставить под контроль мир капитала едва не ввергли многие реформистские и оппозиционные движения в состояние паралича: простые граждане, казалось, совершенно утратили всякое влияние. Однако со временем горстка неправительственных организаций и группировок прогрессивной интеллигенции начала разрабатывать политическую стратегию, в которой признается, что транснациональные брэнды, в силу своего особого положения, могут служить гораздо более привлекательной мишенью, чем политики, которых они подкармливают. А как только для корпораций начинает пахнуть жареным, тут же становится гораздо легче привлечь внимание и выборных политиков. Отвечая на вопрос, почему он решил сосредоточить свою деятельность на корпорации Nike, вашингтонский защитник прав трудящихся Джеф Бэллингер откровенно сказал: «Потому что у нас гораздо больше влияния на известные компании, чем на собственные правительства». Кроме того, добавляет Джон Видал, «активисты всегда избирают своей мишенью людей, облеченных властью… таким образом, если власть переходит от правительства к промышленности и далее к транснациональным корпорациям, то туда же поворачивается и прицел».
Уже теперь у разрозненных движений, нацеленных на транснациональные корпорации, выкристаллизовывается некий общий императив: право людей знать, что происходит. Встает вопрос: если транснациональные корпорации стали больше и могущественнее правительств, то почему на них не распространяются те же требования прозрачности и подотчетности, которые мы предъявляем нашим общественным и государственным институтам? Вот так борцы с потогонной системой стали требовать, чтобы Wal-Mart предъявила им список предприятий по всему миру, которые снабжают сеть готовой продукцией. Так студенты университетов, как мы еще увидим в главе 17-й, требуют подобной информации о фабриках, производящих одежду и обувь с эмблемами их учебных заведений. Активисты-экологи тем временем используют суд для выведения на чистую воду McDonald's. И потребители во всем мире требуют, чтобы такие компании, как Monsanto, отчетливо маркировали свои генетически модифицированные продукты и сделали доступными результаты своих исследований независимым наблюдателям.
Попытки предъявлять такие требования корпорациям, которые, согласно закону, ответственны только перед своими акционерами, неожиданно часто заканчивались успехом. Причина состоит в том, что многие транснациональные корпорации довольно уязвимы. В следующей главе мы увидим, что активисты во всем мире щедро используют тот самый фактор, который до сих пор был предметом данной книги: брэнд. Имидж брэнда, во многом являющийся источником корпоративного богатства, представляет собою, как выясняется, также и ахиллесову пяту корпораций.
Глава пятнадцатая. Эффект бумеранга: брэндинг оборачивается против брэндов
Чтобы выстроить хороший брэнд, может понадобиться 100 лет, а разрушить его можно всего за 30 дней.
Дэвид Д'Алессандро, президент компании John Hancock Mutual Life, Insurance, 6 января 1999 г.
Брэндинг, как мы видели, — это экономическая система, похожая на воздушный шар: увеличивается в размерах с поразительной быстротой, и нередко за счет раздувания оболочки брэнда пустыми обещаниями. Поэтому неудивительно, что доктрина брэндинга воспитала целую армию вооруженных булавками критиков, которым не терпится проткнуть корпоративный шар и посмотреть, как его обрывки падут на землю. Чем амбициознее компания занимается брэндингом окружающего ее культурного ландшафта и чем легкомысленнее разбрасывается своими работниками, тем вернее она создает молчаливый батальон недоброжелателей, ждущих малейшей возможности наброситься на нее. Более того, практика брэндинга делает корпорации весьма уязвимыми для наиболее очевидной тактики из арсенала активистов: разбить имидж брэнда о его же производственные тайны. Тактики, которая до сих пор срабатывала.
Хотя маркетинг и производство не всегда были разделены столькими морями и столькими уровнями субподрядчиков, они никогда не были особенно близки. С тех пор как первые рекламные кампании создали образ своего парня, призванного «одомашнить» товары массового производства, сама суть рекламного бизнеса состоит в том, чтобы дистанцировать товары от производящих их предприятий. Хэлен Вудвард, известная составительница рекламных текстов 20-х годов, оставила знаменитое высказывание, в котором предупреждает своих коллег: «Если вы рекламируете какой-нибудь товар, никогда не смотрите на предприятие, где его производят… Не смотрите на людей за работой… Видите ли, если вы знаете о чем-то правду, понимаете настоящий смысл происходящего, вам будет очень трудно написать весь этот поверхностный треп, с помощью которого товар продается».
В те годы диккенсовские образы, подобные тем, которые породил пожар на фабрике Triangle Shirtwaist, были еще свежи в памяти западного потребителя. Когда он покупал мыло, чулки, автомобили и любые другие товары, сулившие ему самому удовольствие, а у всех других вызывавшие зависть, ему не надо было напоминать о темных сторонах индустриализации. Кроме того, многие из потребителей, которым была адресована реклама, сами были фабричными рабочими, и авторы «рекламной болтовни» меньше всего хотели напоминать им о мертвящей монотонности сборочного конвейера.
Но по мере того как высокоразвитые страны Запада переходили к «информационной экономике», у нас стала появляться какая-то ностальгия по незамутненной подлинности эпохи индустриализации времен Вудвард. И тогда фабрика, давно уже ставшая величайшим табу маркетинга, нашла себе местечко в рекламе. Производственное помещение появляется в рекламах автомобиля Saturn — там мы встречаемся с рабочими, которые якобы обладают властью «остановить конвейер» просто потому, что «где-то что-то выглядит немного не так». Кадры съемок внутри завода мельком появляются в рекламе автомобилей Subaru начала 90-х годов, как бы заявляя: автомобиль нужен не для того, чтобы произвести впечатление на соседей, а чтобы ездить на «самой лучшей машине».
Но ведь заводы, показанные в обеих рекламных кампаниях, — это не те потогонные цеха, избегать которые советовала своим коллегам, пишущим рекламные тексты, Вудвард; это современная ностальгия по фабричному производству — примерно такая же реалистичная, как и танцующие в стиле техно человечки Intel. Задача этих заводов, как и роль доброй толстой негритянки Тетки Джемаймы (Aunt Jemima) или человечка компании Quaker Oats, связать Subaru и Saturn с образами более простых времен: когда вещи производили в тех же странах, где и потребляли, и когда люди еще знали своих соседей по именам, а о зонах экспортного производства никто и слыхом не слыхивал. В начале 90-х, когда автозаводы закрывались один за другим, а рынок наводнялся дешевым импортом, рекламные послания, хотя и делали вид, что ведут нас дальше рекламной показухи, не освещали для нас процесс производства, а скорее скрывали.
Иными словами, правило Хэлен Вудвард стало сегодня особенно актуально: никогда еще обвинения в адрес двойной жизни известных брэндов не достигали такой степени остроты. Несмотря на всю демагогию «единомирия» (One Worldism), наша планета остается жестко разделенной между производителями и потребителями, и колоссальные прибыли, которые загребают супербрэнды, зависят от того, чтобы эти миры оставались как можно более разделенными. Это удобная система: поскольку подрядчики — владельцы фабрик в свободных экономических зонах — не продают ни единой кроссовки Reebok и ни единой детской пижамы с Микки Маусом непосредственно потребителю, их репутация в глазах публики может быть сколь угодно низкой — им все равно. Выстраивание же хороших отношений с приходящими в магазины покупателями целиком отдано в руки транснациональных корпораций — владельцев именитых брэндов. Здесь есть единственное слабое место: для бесперебойной работы системы необходимо, чтобы рабочие знали не слишком много о дальнейшей судьбе производимых ими товаров на рынке, а потребители были изолированы от производственной жизни покупаемых ими брэндов.
Эта система работала довольно долго. Первые два десятилетия своего существования зоны экспортного производства и в самом деле были маленькой интимной тайной глобализации — хорошо припрятанными «складами рабочей силы», в которых за высокими стенами и рядами колючей проволоки содержался неприглядный бизнес — производство. Но мания «брэнды, а не товары», охватившая мир бизнеса с начала 90-х годов, не дает покоя находящимся в свободном полете бестелесным «оболочечным» корпорациям. И неудивительно. Столь решительное обособление брэнда от места его производства и переброска предприятий в индустриальные притоны ЗЭП создали потенциально взрывоопасную ситуацию. Глобальная производственная цепочка держалась на странном убеждении, будто рабочие Юга и потребители Севера никогда не придумают способа общаться между собой; будто бы информационные технологии существуют сами по себе, а на настоящую глобальную мобильность способны одни только корпорации. Вот это высокомерие и сделало известные брэнды, такие, как Nike и Disney, столь уязвимыми для двух главных методов, используемых устроителями антикорпоративных акций: демонстрация богатства и роскоши мира брэндов в заброшенных невесть куда местах производства и доставка правды об убожестве и нищете массового производства к порогу ничего не желающего знать потребителя.
Я сижу в переполненной классной комнате в калифорнийском городе Беркли, и кто-то отворачивает ворот моей блузки, чтобы посмотреть ярлык. На мгновение мне представляется, будто я снова у себя в школе, а Роми, член школьного «комитета бдительности», выявляет поддельные лейблы. Но нет: это 1997 год, и проверяет мой воротник Лора-Ио Фуу, президент «Группы наблюдения за потогонной системой» (Sweatshop Watch). Она ведет семинар под названием «Положить конец потогонной системе дома и за границей» в рамках конференции по глобализации. Каждый раз, проводя семинар по проблемам потогонного производства, Фуу достает ножницы и просит присутствующих срезать фабричные ярлыки со своей одежды. Затем она разворачивает карту мира, напечатанную на белой материи. Наши лейблы, отпущенные на свободу, пришиваются на карту, которая после множества подобных семинаров в разных странах выглядит как сумасшедшее лоскутное одеяло из логотипов Liz Claiborne, Banana Republic, Victoria's Secret, Gap, Jones New York, Calvin Klein и Ralph Lauren. Наиболее густо эти маленькие прямоугольные заплатки концентрируются в Азии и Латинской Америке. Затем Фуу прослеживает траекторию глобальных «перелетов» компании: она начинает с момента, когда товары еще производились в Северной Америке (на этой части карты сохранилось только несколько этикеток), затем перемещается в Японию и Южную Корею, дальше в Индонезию и на Филиппины, потом в Китай и Вьетнам. По словам Фуу, марки производителей одежды представляют собой прекрасное учебное пособие: они берут далекую, сложную проблему и приносят ее к нам домой, делают близкой к телу, как своя рубашка.
Надо сказать, что никого так сильно не удивила действенность и притягательность направленной против брэндов общественной деятельности, как тех, кто сам и инициировал этот тип кампаний протеста. Многие лидеры движения против практики использования тяжелого ручного труда давно уже выступают в защиту бедных и отверженных в странах «третьего мира».
В 80-х годах их постигло почти полное забвение, потому что они были на стороне повстанцев-сандинистов[20] в Никарагуа и оппозиционной партии FMLN[21] в Сальвадоре. Когда войны закончились и темпы глобализации выросли, активисты движения поняли: новой зоной боевых действий во имя центрально-американской бедноты стали потогонные фабрики, запертые внутри охраняемых военными зон экспортного производства. Но чего они никак не ожидали, так это того, насколько отзывчивой к этой проблеме окажется широкая публика. "Что делает этот вопрос столь актуальным для широкой публики, гораздо более реальным для нее, чем были латиноамериканские войны? То, что людям видна его непосредственная связь с их собственной жизнью; это уже не «что-то непонятное где-то там, далеко», — говорит Трим Бисселл из базирующейся в Вашингтоне «Кампании за права трудящихся». — Если они ужинают в ресторане одной из этих сетей, они с большой вероятностью могут поглощать те продукты питания, которые прямо или косвенно обязаны своим существованием угнетению человека человеком. Если они покупают своим детям игрушки, эти игрушки вполне могут быть сделаны детьми, лишенными детства. Это действует настолько непосредственно, настолько эмоционально, настолько по-человечески, что люди сами находят нас и спрашивают, чем могут помочь. Нам не приходится говорить «эй, есть вот такая проблема», а чаще: «Вот куда именно вы можете конструктивно направить свое негодование…».
Американка Лорейн Даски в газете USA Today описывает механизм этой личной заинтересованности. Увидев по телевизору репортаж о беспорядках в Индонезии в мае 1998 года, она задала себе вопрос: не имеет ли ее фирменная одежда какого-либо отношения к индонезийской девочке, рыдающей над трупом жертвы пожара? «Нет ли в этом вины моих найковских кроссовок? — пишет она. — Ведь у этой осиротевшей девочки мог бы по-прежнему быть отец, если бы Nike настаивала, чтобы рабочим лучше платили. А если бы настаивала Nike, другие владельцы потогонных цехов тоже вынуждены были бы платить больше». Странно, конечно, винить пару своих кроссовок в гибели человека в Индонезии, — но эта мысль стала недостающим связующим звеном, пишет Даски, позволяющим увидеть, что "глобализация значит больше, чем беспрепятственное перемещение капиталов и товаров; она значит, что все мы — сторожа братьям и сестрам своим[22]".
Да, эффективность антибрэндовых кампаний может быть обусловлена их непосредственной актуальностью для нашей жизни, заполненной брэндами, но есть и еще один фактор, придающий им привлекательность, особенно в глазах молодежи. Антикорпоративная деятельность имеет бесценное преимущество заимствованной крутизны и тусовочности — заимствованной, как это ни смешно, у самих брэндов. Логотипы, впечатанные в наше сознание благодаря самым блестящим кампаниям по формированию имиджа, какие только можно купить за деньги, и вознесенные еще ближе к солнцу благодаря спонсируемым ими популярным событиям культуры, просто купаются в непреходящем сиянии, как голливудские звезды, — это, как сказал писатель-фантаст Нил Стивенсон4 , «лоскотипы»[23]. Как предсказывал Алекс де Токевилль, именно эти фантастические создания обладают властью заставить нас «сожалеть о мире реальности». Но никакая другая реальность не может выглядеть более достойной сожаления, чем та, где люди в дальних странах страдают от нищеты и угнетения. Поэтому в конце 70-х годов, когда «лоскотипы» засияли совсем ярко, движение за социальную справедливость стало менее активным; его «некоммерческая», неподходящая для рынка тактика уже не слишком привлекала энергичную молодежь и СМИ, одержимые эстетикой глянца.
Но сегодня, когда так много антикорпоративных активистов берут на вооружение эстетику и юмор «глушения культуры» и беспардонность «возвращения себе улиц», дело начинает принимать другой оборот. Присасываясь, словно пиявки, к телам крупных корпораций, борцы с брэндами с неожиданной стороны используют в своих целях сами брэнды." Лоскотип" настолько ярок, что они и сами получают удовольствие от этого света даже в тот самый миг, когда его атакуют. Это загребание жара чужими руками может показаться утерей политической чистоты, но такими методами, несомненно, легко привлечь на свою сторону немало рядовых воинов. Как и хорошая «заглушка» рекламы, антикорпоративные кампании черпают энергию из мощи и массовой привлекательности маркетинга, направляя ее обратно на брэнды, так безапелляционно заполонившие нашу повседневную жизнь.
Эту стратегию джиу-джитсу можно увидеть в акциях, ставших гвоздем многих антикорпоративных кампаний: рабочего одной из стран «третьего мира» приглашают посетить супермагазин в стране мира «первого» — а вокруг работает множество телекамер. Мало какая программа новостей устоит против такого, прямо-таки созданного для прямого эфира момента, когда юная работница с индонезийской фабрики Nike теряет дар речи, узнав, что кроссовки, которые она штампует за зарплату два доллара в день, продаются в Nike Town города Сан-Франциско за 120 долларов. С 1994 года былс проведено не меньше пяти турне индонезийских работниц Nike по Северной Америке и Европе. Коалиции защитников прав трудящихся, церковных и школьных организаций профинансировали четыре поездки Сисих Су-каесих, потерявшей работу за попытку организовать профсоюз на фабрике Nike. В августе 1995 года две швеи с фабрик Gap — семнадцатилетняя Клау-диа-Летиция Молина из Гондураса и восемнадцатилетняя Юдифь-Янира Вьера из Сальвадора — совершили подобные поездки с выступлениями перед людьми, собравшимися у магазинов компании Gap в Северной Америке. Самым, может быть, ярким моментом, когда американские покупатели могли убедиться в незаконном использовании детского труда воочию, былс выступление пятнадцатилетней Венди Диаз перед Конгрессом США. Онг работала на гондурасской фабрике — шила брюки марки Kathie Lee Gilford — с тринадцати лет. Диаз свидетельствовала о присутствии на фабрике «около ста таких же несовершеннолетних, как я: им по 13, 14, 15 лет, есть даже 12-летние… Часто они заставляют нас работать всю ночь… Надсмотрщики кричат, чтобы мы работали быстрее. Иногда они бросают сшитую одежд> прямо в лицо, иногда толкают тебя… Нередко менеджеры хватают девочек Делают вид, что шутят, а сами хватают нас за ноги. Многие из нас хотели бы учиться в вечерней школе, но мы не можем, потому что нас постоянно заставляют работать сверхурочно».
Ни одна из организаций не смогла использовать в своих целях проколы к трещины в экономике брэндинга с такой прицельной точностью, как Национальный комитет труда (National Labor Committee, NLC) под руководством Чарлза Кернагена. За пять лет работы — с 1994 по 1999 год — нью-йоркский офис NLC в составе трех человек, действуя через СМИ в эпа-тажном стиле, позаимствованном у Greenpeace, привлек к ужасающему положению рабочих в потогонных цехах больше общественного внимания, чем многомиллионнодолларовые кампании международных профсоюзов почти за целый век. Газета Women's Wear Daily, самое авторитетное издание швейной промышленности, пишет: «Чарлз Кернаген и его „антипотогонная“ баталия привлекают внимание к вопросу о нарушении прав трудящихся в швейной промышленности, как никто другой, со времен пожара на фабрике Triangle Shirtwaist».
NLC достиг таких замечательных высот не тем, что оказывал давление на правительство, и даже не тем, что организовывал рабочих в профсоюз. Он добился этого тем, что принялся клеймить позором самые блестящие логотипы на «брэндшафте». Метод Кернагена достаточно прост. Сначала выбери самые карикатурные символы Америки — от «мультяшных», например Микки Мауса, до виртуальных — например Kathie Lee Gifford. Затем столкни имидж и реальность лоб в лоб. «Они либо живут своим имиджем, либо умирают от него, — говорит Кернаген о своих корпоративных противниках. — Это дает тебе власть над ними… их можно брать голыми руками».
Как и у лучших «глушителей культуры», у Кернагена естественное чутье на броскую рекламную фразу. Он знал, что сумеет «продать» заморские потогонные цеха американским СМИ, печально известным своим равнодушием к трудящимся и их проблемам в тех частях мира, где не говорят по-английски. Но для этого ему надо было держаться подальше от никому не ведомых законов о труде и от тайных торговых договоров, а сосредоточить свое внимание на брэндах, стоящих за нарушениями. Это и есть та тактика, что привела историю о потогонной системе производства «под колпак» телепрограмм «60 Minutes» и «20/20» и газеты New York Times. Даже редакция Hard Copy отрядила бригаду журналистов сопровождать Кернагена в его турне по никарагуанским потогонным цехам осенью 1997 года.
Новостная программа для невзыскательных зрителей и неустрашимая группа защитников прав трудящихся оказались не такими уж несовместимыми сотоварищами, как можно было подумать. Мы — культура, помешанная на знаменитостях, а такого рода культура никогда не бывает в более блестящей форме, чем в те моменты, когда ее самые возлюбленные идолы оказываются вовлеченными в скандал. Кернаген очень точно ухватил, что фанатичная одержимость брэндами может быть на правлена не только на их поддержку, но и на разрушение. Хотя и в совершенно другом масштабе, но потогонные цеха Nike для журналистов — то же самое, что процесс Симпсона[24] для юристов: грязь экстракласса И NLC, хорошо уж это или плохо (недоброжелатели говорят, что ничегс хорошего), — это аналог Hard Copy в движении за права трудящихся: ог вечно выискивает эту точку пересечения между слепящей стратосферой знаменитости и реальной жизнью на убогой земной улице.
Так Кернаген выкладывает цифры и факты глобальной экономики — пижам Disney, кроссовок Nike, торговых рядов Wal-Mart и личного богат ства отдельных персонажей — и перемалывает данные в самодельные ста тистические сводки, которыми потом размахивает, как боевым молотом Например: 50 000 рабочих найковской фабрики Yue Yen в Китае должнь были бы работать 19 лет, чтобы заработать столько, сколько Nike тратит н; рекламу в год. Годовая выручка Wal-Mart в 120 раз больше, чем годовое бюджет Гаити; CEO Disney Майкл Айзнер получает в час 9783 доллара,; гаитянский рабочий — 28 центов, и последнему понадобилось бы 16,8 лет чтобы получить часовой доход Айзнера; 181 миллион долларов, за которьк Айзнер продал в 1996 году свой пакет акций компании, обеспечили бы жизнь 19 000 гаитянских рабочих и их семей на 14 лет.
Типичный пример «кернагенизма» — сравнить и противопоставить шикарные жилищные условия собак на съемочной площадке фильма «101 далматинец» с лачугами, в которых живут гаитянские рабочие… которые шьюг диснеевские пижамы… на которых красуются персонажи фильма. Животных, говорит он, содержат в «собачьем кооперативе», оборудованном мягкими постелями и обогревательными лампами, за ними следят дежурньк ветеринары, а кормят их говядиной и курятиной. Гаитянские рабочие жи вут в зараженных малярией и дизентерией хибарах, спят на нарах и очен] редко могут позволить себе купить мясо или обратиться к врачу. Вот н; таких противоречиях между жизнью брэнда и реальностью производств; Кернаген и творит свои собственные маркетинговые чудеса.
Акции NLC, ничуть не похожие на обычные унылые митинги, сполна используют те преимущества, которые может создать лишь сила брэндов. Хороший пример — демонстрация 1997 года в Нью-Йорке: она началась на Таймс-сквер, напротив флагманского супермагазина Disney, прошла по 7-й авеню мимо витрины Tommy Hilfiger в универмаге Macy's, мимо Barnes&Noble и универмага Stern's. В качестве завязки «Праздничного сезона совести» демонстрация использовала для скандирования и речей визуальный фон самых больших логотипов на Манхэттене: гигантскую загогулину над головой, парня со щита Maxell, уносимого прямо в своем кресле мощным потоком цифрового звука, стереоскопический экран на Бродвее с кадрами из диснеевского мультфильма «Король-лев». Когда президент UNITE Джей Мазур объявил, что «потогонные цеха вернулись в нашу жизнь, и мы знаем почему», возвышающаяся над ним неоновая фигура диснеевской Русалочки образовала ореол вокруг его головы. Во время другой организованной NLC демонстрации протеста, в марте 1999 года, участники припарковали гигантскую резиновую крысу близ магазина Disney. И поскольку кернагеновская тактика не требует культурного аскетизма в качестве платы за участие в акции, то она оказалась чрезвычайно привлекательной для учащейся молодежи: многие из них стали приходить на демонстрации в виде ходячих «культуроглушилок». Вторя карикатурной эстетике рейва, старшеклассники и студенты натягивают на себя костюмы мохнатых животных — тут и двухметровый розовый поросенок с плакатом «Поросята против алчности», и Куки-Монстр (Cookie Monster) из «Улицы Сезам» с плакатом «Не будет справедливости — не будет печенья».
Брэнды для NLC — и мишень, и реквизит. Вот почему Кернаген, когда выступает перед публикой — на университетских кампусах, на демонстрациях или международных конференциях, — никогда не появляется без своей неизменной хозяйственной сумки, из которой торчат пижамы Disney, брюки Kathie Lee Gilford и прочие предметы фирменной одежды. Во время своих презентаций он демонстрирует платежные ведомости и ценники, чтобы показать огромную разницу между тем, что платят рабочим за изготовление этих предметов, и тем, что платим мы, их покупая. Он также берет с собой свою сумку, когда посещает зоны экспортного производства на Гаити и в Сальвадоре, и вынимает из нее предметы, как фокусник из своего волшебного мешка, чтобы показать рабочим реальные ценники на вещах, которые они шьют. Вот как описывает он типичную реакцию рабочих в своем письме Майклу Айзнеру:
Перед тем как отправиться на Гаити, я заехал в Wal-Mart на Лонг-Айленде и купил кое-какую одежду от Disney, сделанную на Гаити. Я показывал ее собиравшимся на встречу со мной рабочим, и они немедленно узнавали вещи, которые сами производили… Я вынул футболку с ярким рисунком из мультфильма Pocahontas и показал им ценник Wal-Mart — 10 долларов 97 центов. И когда я перевел эти 10,97 доллара на их деньги — 172,26 гурдов, все они в один голос издали вопль потрясения, недоверия, гнева, страдания и горя и все взоры были устремлены на эту футболку… Через их руки проходят сотни футболок для Disney в день. И вот — продажная цена только одной из них в США равняется их заработку почти за пять дней!
Момент, когда гаитянские работницы закричали в один голос, не веря своим глазам, был заснят на видео одним из сотрудников Кернагена и включен в продюсированный NLC документальный фильм «Микки Маус едет на Гаити». С тех пор фильм демонстрировался в сотнях учебных заведений и культурных центров в Северной Америке и Европе, и многие молодые активисты говорят, что эта сцена заставила их принять решение присоединиться к всемирной борьбе с потогонной системой.
Информация о несоответствии между ставками оплаты труда и розничными ценами может служить средством пробуждения сознания у рабочих, которые, как я выяснила в Кавите, мало осведомлены о ценности производимых ими вещей. На фабрике All Asia в зоне экспортного производства Кавите, например, начальник раньше оставлял на виду ценники на юбках от Sassoon — 52 доллара. "Эти ценники цеплялись на пуговицу, и мы могли видеть цены, когда проходили через участок упаковки, — рассказала мне одна швея. — Ну, мы пересчитали эту сумму в песо, и тогда работницы стали спрашивать: «А, так вот как компания их продает? Почему же тогда нам платят так мало?» Когда руководство узнало об этих негласных дискуссиях, ценники исчезли.
Как я выяснила, чтобы узнать хотя бы имена брэндов, производимых за запертыми на замок воротами зоны Кавите, нужно поработать детективом, чем и занялся разместившийся вне зоны Центр помощи рабочим. На одной из стен центра висит большая доска объявлений, очень напоминающая логотипное лоскутное одеяло Лоры-Йо Фуу. На всей поверхности доски пришпилены этикетки с одежды разных марок — Liz Claiborne, Eddie Bauer, Izod, Guess, Gap, Ellen Tracy, Sassoon, Old Navy. Рядом с каждой из них написано название фабрики, на которой они производятся: V. T. Fashion, All Asia, Du Young. Руководители центра считают, что эта информация, устанавливающая связь брэндов с производством, жизненно важна для того, чтобы рабочие зоны находили в себе силы бороться за свои права, тем более, что фабричное начальство вечно жалуется на свою бедность. Например, когда рабочие узнают, что джинсы Old Navy, которые они шьют по несколько центов за штуку, продаются знаменитой компанией Gap и стоят в Америке 50 долларов, они скорее станут требовать выплаты себе сверхурочных и давно обещанной медицинской страховки. Многие рабочие тоже считают эту информацию важной и потому идут на риск, тайно вынося ценники с территории фабрики: они прячут их в карманах, молятся, чтобы охрана не обнаружила их при обыске, и приносят в центр. Следующая задача центра — узнать что-нибудь о компании, которая владеет этими торговыми марками, — и это не всегда легко, потому что многие из этих брэндов на Филиппинах просто не продаются, а те, что продаются, можно найти только в дорогих торговых центрах туристских районов Манилы.
Впрочем, в последние годы собирать подобную информацию стало несколько легче, отчасти благодаря заметному оживлению в передвижении активистов по всему миру. Богатые неправительственные организации и профсоюзы предоставляют им субсидии на транспортные расходы, благодаря чему представители крохотного Центра помощи рабочим из Розарио побывали на конференциях по всей Азии, а также в Германии и Бельгии. И всего лишь через два месяца после нашего знакомства в Кавите, в ноябре 1997 года, я встретила одну из активисток центра, Сесиль Туико, в Ванкувере, на Народном саммите стран АРЕС (Asia Pacific Economic Cooperation — Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество). Конференция собрала несколько тысяч активистов из сорока стран и была приурочена к совещанию лидеров восемнадцати стран региона — от Билла Клинтона до Цзян Цзэминя, тоже собиравшихся в Ванкувере на той же неделе.
В последний день саммита мы с Сесиль сбежали с семинара и провели остаток дня на оживленной Робсон-стрит, забегая в магазины, в которых продаются многие из брэндов, производимых в зоне Кавите. Мы прочесывали стойки с развешанными на них пушистыми пижамками и сапожками от Baby Gap, пиджаками от Banana Republic, блузами от Liz Claiborne и рубашками от Izod Lacoste, и когда натыкались на наклейку Made in the Philippines, выписывали артикул и цену. Возвратясь в Кавите, Сесиль перевела цены в песо (с учетом резкого падения курса) и аккуратно пришпилила рядом с соответствующими ярлыками на доске объявлений в своем центре. Забегавшим туда рабочим, расстроенным из-за незаконных увольнений, задержки выплат и бесконечной цепи ночных смен, она и ее коллеги показывают эти цифры. Вместе они высчитывают, сколько недель зонная швея должна была бы работать, чтобы купить своему ребенку одну ночную рубашку от Baby Gap, и работницы на ухо передают друг другу эти шокирующие цифры, когда возвращаются в свои переполненные общежития или едят ланч в плавящихся от жары цехах. Вести распространяются по зоне со сверхъестественной быстротой.
Я вспомнила этот наш поход по магазинам, когда несколько месяцев спустя получила от Сесиль по электронной почте сообщение о том, что центру удалось наконец организовать профсоюзы на двух фабриках внутри зоны.
С тех пор как в начале 70-х годов политические движения в защиту прав меньшинств впервые захватили воображение феминисток, всегда находились женщины, призывавшие своих сестер по движению не останавливаться только на том, как индустрия красоты и моды подавляет людей Запада. Они предлагали обратить внимание на бедственное положение женщин во всем мире, проливающих пот ради того, чтобы западные женщины были ухоженными и имели свой стиль. В 20-х и 30-х годах Эмма Гольдман и Международный профсоюз рабочих легкой промышленности тоже подвигали женщин на защиту трудящихся потогонных цехов, но в более поздние десятилетия связывать одно с другим стало как-то немодно. Хотя всегда существовала как бы «вторая волна» феминизма, стремящаяся связать политические требования с защитой женщин в развивающихся странах, но интернациональные аспекты борьбы никогда не интересовали участников движения так, как равная оплата труда, равное представительство в прессе и право на аборты. Лозунг, выкрикиваемый на демонстрациях 70-х годов, «Личное есть политическое», казался относящимся больше к вопросу о том, как мода заставляет этих женщин ощущать себя, чем к глобальным механизмам того, как швейная индустрия заставляет тех женщин работать.
В 1983 году прозвучал глас вопиющего в пустыне — голос американского педагога Синтии Энлоу. Она настаивала на том, что наклейки Made in Hong Kong или Made in Indonesia, все чаще появлявшиеся на ее одежде, могут стать отправной точкой (причем отнюдь не абстрактной) для женщин, желающих понять все сложности глобальной экономики. «Они дают нам возможность лучше обсуждать и понимать так называемые абстракции, такие, как „международный капитал“ и „международное разделение труда между полами“. Обе эти концепции, так долго считавшиеся интеллектуальной прерогативой теоретиков-мужчин (большинство из которых никогда не спрашивают, кто ткет и кто шьет) на самом деле столь же „абстрактны“, как джинсы в нашем гардеробе и нижнее белье в ящиках нашего комода», — писала она.
В то время, время слишком малой осведомленности о предмете, культурных барьеров и присущей «первому миру» узости интересов, мало кто готов был ее слушать. Но сегодня слушают многие. И этот сдвиг в сознании потребителей также может оказаться непредусмотренным побочным продуктом «вездесущести» брэндинга. Теперь, когда корпорации соткали собственную радугу брэндов и логотипов, появилась инфраструктура, которую каждый может видеть и использовать в целях истинно международной солидарности. Пусть сеть брэндов и была задумана и рассчитана для увеличения спроса, роста потребления и минимизации себестоимости производства, но обыкновенные люди теперь могут превращать себя в «пауков» (так называют себя члены «Коалиции за свободную Бирму») и передвигаться по этой паутине с такой же легкостью, как и корпорации, которые ее сплели. Вот где пригодится сотканная из логотипов карта Лоры-Ио Фуу, и доска объявлений Сесиль Туико, и хозяйственная сумка Чарлза Кернагена, и «озарение через кроссовки» Лорейн Даски. Это как Интернет: пусть его построили для Пентагона, но он очень скоро стал ареной действий активистов и хакеров.
Таким образом, пусть культурная гомогенизация — когда все на свете едят в Burger King, носят обувь от Nike и смотрят видеоклипы Backstreet Boys — может вызывать глобальную клаустрофобию, но она также предоставляет основу для осмысленного глобального общения. Благодаря паутине брэндов, работники McDonald's по всему миру способны обмениваться по Интернету рассказами о работе под «Двумя Дугами»; ребята из клубных тусовок в Лондоне, Берлине и Тель-Авиве могут посочувствовать друг другу по случаю коммерциализации рейв-культуры; североамериканские журналисты имеют возможность говорить с деревенскими бедняками, работающими на фабриках в Индонезии, о том, сколько получает Майкл Джордан за рекламу Nike. Эта паутина брэндов обладает неслыханной доселе способностью соединять между собой студентов, которых обрабатывают рекламой в университетских туалетах, с рабочими потогонных цехов, производящими эти рекламируемые товары, и с несчастными «мак-работниками», их продающими. Они могут и не говорить на одном и том же языке, но у них уже есть общая почва для того, чтобы начать дискуссию. Играя на лозунге компании Benetton (United Colors of Benetton — «Объединенные цвета Бенеттона»), один из лидеров движения «Вернуть себе улицы» назвал эти новые глобальные сети United Colors of Resistance («Объединенные цвета Сопротивления»).






