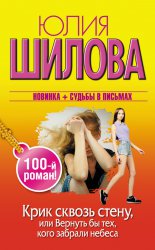Неукротимая Анжелика Голон Анн

— Женский каприз, Люка. Но дело сделано. Теперь ты ее спрячешь.
— Я, господин граф?
— Да, ты. Ты же знаешь, что я — лишь бедный раб, который делит тростниковую циновку с двумя хозяйскими собаками, не имея даже своего уголка на дворе. Ты же — человек, добившийся многого. Ты ничем не рискуешь.
— Ну да, кроме костра, креста, стрел, крючьев, погребения заживо или побивания камнями. У новообращенных, которые скрывают у себя беглых христиан, есть из чего выбирать.
— Ты отказываешься?
— Да, отказываюсь.
— Я всыплю тебе сотню палочных ударов!
Собеседник с достоинством запахнулся в плащ:
— Не забывает ли господин граф, что раб-христианин не имеет право поднять руку на мусульманина?
— Ну, подожди чуть-чуть! Вот вернемся домой, и ты получишь такой пинок в зад, какого еще не видел! Да вдобавок я сдам тебя инквизиции, а уж она спалит такого мошенника заживо… Ну-ка Люка, у тебя нет чего-нибудь вкусненького для меня? А то с утра я разжился только горстью фиников да кружкой чистой воды. И я не знаю, питалась ли сегодня эта дама чем-либо, кроме своих слез.
— Все готово, господин граф. Я предвидел ваш визит и приготовил… угадайте что?.. ваше любимое… слоеный пирог!
— Слоеный пирог! — воскликнул бедный раб с жадным блеском в глазах.
— Тихо! Располагайтесь. Вот только отошлю рассыльного, закрою лавочку и буду к вашим услугам.
Он зажег свечу, вышел, но вскоре вернулся со склянкой вина и серебряной сковородкой, от которой исходил аппетитный запах.
— Я сам изготовил тесто, господин граф, на верблюжьем масле. А крем — из молока ослицы. Это, конечно, не настоящие масло и молоко, но надо пользоваться тем, что есть. У меня не было фрикаделек из щуки и шампиньонов, но я подумал, что маленькие лангусты и плоды капустной пальмы заменят их. Если сударыня маркиза доставит себе труд отведать…
— Этот Люка, — произнес растроганный граф, — кулинар, каких мало. Он может все. Твой пирог великолепен! Я подарю тебе сотню экю, старина, когда мы вернемся домой.
— Это было бы хорошо, господин граф.
— Без него, сударыня, я был бы уже мертв. Не то, чтобы мой хозяин Мохаммед Селиби Садат плохой человек, и тем более — моя хозяйка. Но они скуповаты и питаются сущими пустяками. Это не для человека, которого заставляют заниматься тяжелой работой. Я не говорю уже о переноске воды и дров. Но мусульманки слишком падки на христиан. Коран должен бы это учитывать. С другой стороны, надобно признать, что тут есть и некоторые преимущества.
Анжелика яростно поглощала пищу. Бывший лакей откупорил бутылку.
— Это мальвазия. Я нацедил несколько капель из бочонков, которые Осман Ферраджи приобрел для гарема марокканского султана. Только подумать, господин граф, что оба мы из Турени, а нас заставляют пить ключевую воду или мятный чай — какое падение! Надеюсь, это маленькое возлияние не навлечет на меня гнев Верховного евнуха. Вот у кого глаз наметан… Ну и мужчина! Впрочем, когда говорю «мужчина», это я так… Никак не привыкну к этим созданиям, которые кишат в здешних местах. Когда он приходит, мне случается называть его сударыней. Но глаз у него цепок, поверьте мне. Кого-кого, а его не проведешь относительно качества и количества товара.
Имя Османа Ферраджи перебило Анжелике аппетит. Она отставила маленькую серебряную чашечку. Тревога вновь овладела ею. Граф де Ломени поднялся, сказав, что хозяйка уже заждалась. Его засаленная куртка, вся в лохмотьях, плохо вязалась с манерами молодого щеголя, каким он остался, несмотря на тяготы плена и аравийское солнце. Он обернулся к Анжелике и, разглядев ее получше при свете свечи, воскликнул:
— Боже, вы восхитительны!
Он осторожно отвел ей со лба светлую прядь и, погрустнев, пробормотал:
— Бедняжка!
Анжелика попросила отыскать ее друга Савари, изворотливого и многоопытного старика, у которого наверняка найдется какой-нибудь план. Она описала его, а также прочих пассажиров мальтийской галеры: голландского банкира, двух французских торговцев кораллами и молодого испанца. Граф удалился, предчувствуя упреки своей непреклонной и требовательной хозяйки.
— Соблаговолите расположиться поудобнее, госпожа маркиза, — попросил Люка, убирая еду.
Анжелике было приятно присутствие вышколенного лакея, называвшего ее «госпожой маркизой». Она ополоснула руки и лицо принесенной им душистой водой, промокнула услужливо поданной салфеткой и прилегла на подушки.
Люка суетился, шаркая бабушами и путаясь в длинных полах арабского плаща.
— Ах, бедная госпожа, — вздыхал он. — И зачем только люди плавают по морю? Угораздило же моего господина и меня сесть на эту галеру!
— Да, ни к чему все это, — со вздохом откликнулась Анжелика, думая о своей рискованной затее. Некогда она приняла за обычную восточную склонность к преувеличениям предсказания Мельхиора Панассава, который еще в Марселе предрекал ей гарем турецкого владыки. Теперь его слова оборачивались мрачной действительностью, и, быть может, турок был бы предпочтительнее свирепого марокканского дикаря.
— Вы только поглядите, сударыня, что со мной приключилось! Я — малый изворотливый, но никогда не забывал замолвить за себя словечко Пречистой Деве и святым заступникам. И вот теперь я — вероотступник, ренегат!.. Конечно, я не хотел, но когда вас колотят палками, прижигают пятки, грозят содрать кожу, отрезать известно что, зарыть живьем в песок и размозжить башку булыжниками — тут уж ничего не поделаешь. У каждого одна жизнь и один…. ну, вы понимаете. А как вам удалось убежать? Когда женщину покупают для знатного сеньора, ее уже потом никто не видит. А посмотреть на вас, — станет понятно, что купила вас большая шишка.
— Да, марокканский султан, — подтвердила Анжелика, и это ей вдруг показалось таким забавным, что она прыснула со смеху. Мальвазийское винцо явно оказывало свое действие.
— Что-что? — переспросил Люка, не находя в ее словах ничего смешного. — Не хотите ли сказать, что это вас Меццо-Морте в числе тысячи одного дара посылает в Мекнес, чтобы снискать расположение султана?
— Да, что-то в этом роде, насколько я поняла.
— Так как же вам удалось сбежать? — повторил он, и Анжелика подробно рассказала ему, каким образом спаслась от евнухов Османа Ферраджи.
— Так вот кто за вами гонится! Спаси нас Господи и помилуй!
— У вас с ним дела?
— Не без этого, но какая это мука! Я попробовал было всучить ему несколько кувшинов подпорченного масла в партии из полутысячи. Это всегда так делается. А он заявился сюда с ребятами и тем десятком кувшинов с плохим товаром и едва мне голову не снес. Что, впрочем, и случилось с одним моим сотоварищем по ремеслу, когда тот продал ему солонину, несколько больше обычного тронутую червями.
— Об одном ли мы человеке говорим? — задумчиво протянула Анжелика. — Я приняла его за важную персону. Он показался мне любезным, обходительным и почти что застенчивым.
— Это важная персона, сударыня: он церемонен и изыскан, все так… Только это не мешает ему рубить головы… изысканно. У таких как он, надо понимать, внутри — пусто. Им все едино, что смотреть на нагую женщину, что изрубить ее на кусочки. Вот почему они так опасны. И подумать, что вы выставили его на посмешище!..
Теперь только Анжелика вспомнила, кто ей рассказывал об Османе Ферраджи. Это был маркиз д'Эскренвиль. Он тогда сказал: «Это вельможа, знатный по всем статьям: гениальный, вкрадчивый, жестокий… Это он помог Мулею Исмаилу завоевать его царство…»
— Что он сделает, если меня снова схватят?
— Бедная моя госпожа! Уж лучше сразу проглотить целый пузырек яду. По сравнению с этими марокканцами алжирцы — сущие агнцы. Но не надо портить себе кровь. Попытаемся вас вытянуть отсюда. Только как это сделать — вот вопрос.
Граф де Ломени явился на следующий день, свалив в углу двора своего слуги вязанку хвороста. Савари он нигде не обнаружил. Продавцы кораллов, оставленные в тюрьме в ожидании выкупа, ничего не слыхали о щуплом старике. Возможно, его купил какой-нибудь крестьянин и увез в глубь страны. Зато Ломени слыхал о бегстве блистательной пленницы-француженки. Пятеро негров из стражи Верховного евнуха были казнены, как виновники побега. Шестого пощадили, его Осман Ферраджи приобрел лишь недавно. Разъяренный Меццо-Морте тоже обыскивает город, обшаривает дом за домом в сопровождении раба-евнуха, который заглядывает под паранджу каждой женщины, не пропуская ни одной.
— А тебя, Люка, могут заподозрить?
— Не знаю. К несчастью, мы в том квартале, где, как подозревают, может скрываться беглянка. А ваша хозяйка, граф, сумеет промолчать?
— Да, по крайней мере, пока не возревнует меня к нашей соотечественнице.
Тревога мужчин была отнюдь не наигранной. Анжелика прислушалась к их приглушенному разговору. Монахи, выкупавшие пленных, отчалили месяц назад. Они захватили с собой всего каких-нибудь четыре десятка рабов. К тому же их вмешательство бессильно помочь Анжелике, поскольку дело шло уже отнюдь не о выкупе. Может, стоило попытаться проникнуть на борт свободного купеческого судна? Увы, такая мысль приходила на ум многим невольникам, чуть только мачта с флагом их страны показывалась в порту. Одни бросались вплавь, другие, связав несколько досок, руками гребли к желанному убежищу. Но стража не дремала. На молах было полно часовых, и фелуки неверных сновали туда-сюда. А перед отплытием каждый корабль ревностно обыскивали янычары или надсмотрщики. Поэтому о бегстве подобным путем нельзя было и мечтать. Еще большее безрассудство — бежать посуху, чтобы добраться до Орана, находящегося под испанским владычеством — самого близкого места, где стоят католические гарнизоны. Это недели блужданий по незнакомой враждебной и пустынной стране с риском заблудиться или быть растерзанным дикими зверями. Никто из отважившихся на такой побег не добрался до места.
Выловленных беглецов били палками или калечили, если при освобождении они причинили малейший ущерб своим стражам.
Ломени заговорил о жителях Майорки. Действительно, отсюда было недалеко до Болеарских островов. Хорошая лодка позволяла покрыть это расстояние за сутки, и отважные островитяне на протяжении двух столетий время от времени предпринимали успешные попытки освобождения рабов. У них были легкие суденышки, предназначенные именно для этих целей. Многие из них сами побывали в рабстве и прекрасно знали эти места.
Те, кто устраивали эти побеги, рисковали жизнью. Если их ловили, то сжигали заживо. Но предприятие было таким выгодным, да и в крови у многих островитян скопилось столько ненависти к мусульманам, жившим так близко от их берегов, что экипажи набирались без затруднений.
Подосланные люди договаривались с кучкой пленных, дерзнувших бежать. Выбирали безлунную ночь, уславливались о сигналах и пароле. В назначенное время корабль-спаситель, до того державшийся вдали от порта, со спущенными парусами, дабы не привлекать к себе внимания, с предосторожностями приближался к условленному месту. Тем временем пленники, которым удалось добиться, чтобы их направили ухаживать за садами, расположенными за городской чертой, прятались в береговых утесах и с нетерпением дожидались сигнала. Наконец бесшумно подплывала барка с густо смазанными салом и обернутыми ветошью веслами. Шепотом произносился пароль, в полной тишине люди с берега быстро поднимались на борт, и суденышко тотчас отплывало. Далее все полагались на волю случая. Запоздавший рыбачий баркас, бессонница какого-нибудь берегового жителя, лай потревоженной собаки — и тотчас раздавался крик: «Христиане, христиане!». Сторожевые посты у городских ворот били тревогу, всегда снаряженные к бою фелуки срывались из гавани. А теперь, когда вновь построенные прибрежные форты делали подходы к городу почти неприступными, каждый пытался выбраться поодиночке.
Люка поведал об одиссее Иосифа из Кандии, отправившегося в плавание на лодочке из тростника и просмоленной парусины. И о пятерых англичанах, достигших Майорки на парусном полотняном ялике. И о двух искателях приключений из Бреста, которым удалось изменить курс фелуки, где они служили, и привести ее в Чивитта-Веккию. Но увы, если иметь в виду женщину, ни о чем подобном нельзя и помыслить. К тому же еще никто не видал, чтобы женщине удалось спастись…
Наконец граф де Ломени встал и объявил, что идет повидать Альференца с Майорки, содержателя «Каторжной таверны», которому так приглянулся Алжир, что он не помышлял его покинуть, хотя и сохранил связи со своими соотечественниками.
Вернулся граф уже под вечер, на этот раз с утешительными вестями. Он повидал Альференца, и тот поведал под величайшим секретом, что готовится побег и есть свободное место, так как один из участников внезапно умер.
— Я скрыл, что речь идет о женщине, тем более о вас, — объяснил он. — Ваше бегство наделало слишком много шуму, и каждому, кто поможет вас выследить, обещана немалая сумма. Но мне нужен залог, чтобы узнать место и день отплытия.
Анжелика дала ему браслеты и несколько экю, хранившихся во внутреннем кармане ее обширной юбки.
— Но как же вы, господин де Ломени? Почему бы и вам не воспользоваться этими сведениями?
Ее вопрос поверг бравого дворянина в изумление. Ему никогда не приходило в голову подвергнуть себя подобному риску.
В ту ночь Анжелика, наконец, смогла заснуть, несмотря на духоту в отведенном ей закутке. Как и большинство пленных, измученных безмятежным африканским зноем, она увидела во сне морозную и вьюжную рождественскую ночь. Под колокольный звон она вошла в церковь, чувствуя, что никогда не слышала ничего сладостнее этих звуков. Она увидела ковчег и на мягкой поросли зеленеющей травки — глиняные фигурки Пресвятой Девы, святого Иосифа, младенца Христа, пастухов и волхвов. Царь Валтасар был облачен в замысловатый плащ и высокий вызолоченный тюрбан.
Анжелика пошевелилась, и ей почудилось, что она просыпается, хотя, как оказалось, она уже бодрствовала, а ее широко распахнутые глаза смотрели на Верховного евнуха Османа Ферраджи.
Глава 6
Стояла ночная тишина. На освещенном луной полу тень оконных решеток сплела замысловатые кружева. Стоял запах зеленого чая и мяты. Анжелика вышла из состояния прострации и резко поднялась. Тишину лишь изредка нарушал далекий протяжный крик. Она догадалась, что это за звук, так похожий на вой попавшего в западню зверя. То билась в рыданиях одна из двух исландок, коих Верховный евнух вез в подарок своему повелителю.
Она, Анжелика, даже не вскрикнула и позволила себя увести двум рабам-евнухам, которые посадили ее в паланкин, эскортируемый еще десятком евнухов. По дороге она еще успела услышать стоны бедняги графа де Ломени, которого его хозяин Мохаммед Селиби Садат повелел нещадно бить палками. Она не могла знать, что сталось с его слугой-коммерсантом и кто их выдал. Быть может, ревнивая хозяйка графа?..
Теперь это уже не имело значения. Она чувствовала себя отделенной от остального мира «гаремной затворницей», и облекшая ее саваном тишина ничего доброго не предвещала. Ее подавлял не столько страх, сколько чувство окончательного поражения. Меицо-Морте, раскрыв перед ней хитросплетения своей дьявольской западни, почти лишил ее силы сопротивляться. Все, что ее поддерживало, на что она полагалась, оказалось ложью. Даже ощущаемая кожей близость супруга, придававшая ей силы, снова стала призрачной. Предчувствие обмануло: его не было нигде. Жив он или мертв, но вот Мохаммед Раки уж точно убит. Туманное воспоминание о вырвавшемся из плена французе все больше мутнело, терялось. А она сама позволила себя изловить, польстилась на пустую приманку… Сломя голову она устремилась навстречу абсурдной и трагичной доле многих неосторожных странниц своего времени.
Теперь мышеловка захлопнулась. Как во множестве случаев, когда бешенство не находило выхода, она обратила гнев на себя. Ей представилось, что скажет мадам де Монтеспан, когда узнает о том, что с ней приключилось. «Мадам дю Плесси-Белльер… Вы слышали? Ха-ха-ха! В плену у берберийцев!… Ха-ха-ха! Говорят, верховный адмирал Алжира подарил ее султану Марокко. Ха-ха! Как это забавно. Бедняжка… — и отчетливо, как наяву, услышанные эти слова обожгли ее, будто каленым железом.
Язвительный смех прекрасной Атенаис отдался в ушах Анжелики, и она приподнялась, ища, что бы разбить. Пусто. Она лежала в голой камере, которую известковая побелка делала похожей на монастырскую келью. Сходство нарушали лишь богатые подушки, на которые ее бросили, словно тюк с тряпьем. Никаких окон, и единственный выход забран этой проклятой кованой решеткой. Анжелика ринулась на нее и стала трясти. К ее удивлению, та поддалась первому же натиску. Она выбежала на лестницу. Из темноты бледной тенью появился евнух и последовал за ней. Другой, с алебардой, стоял на верху лестницы и выставил руку с оружием, преграждая путь. Анжелика ощутила в себе силу горного потока. Она оттолкнула его плечом. Он схватил ее за запястье. Не потеряв самообладания, она отхлестала его по дряблым щекам, схватила за ворот и швырнула наземь. Оба евнуха стали визжать, как обезьяны, а Анжелика меж тем взлетела выше и столкнулась с еще тремя визжащими евнухами, которым удалось ее остановить. Она сражалась как тигрица, но они повалили ее. Сейчас же к ним приблизился толстенный увалень, подняв над головой многохвостую плетку с узлами. Появившийся Осман Ферраджи жестом велел ему отступить. На нем не было парадного тюрбана и плаща — лишь подобие пунцового атласного жилета без рукавов и длинные раздувавшиеся шаровары с поясом из драгоценного металла. Простой белый тюрбан тесно облегал тонко вылепленную голову. Теперь яснее проступала некоторая двусмысленность его облика: эти гладкие, пухлые, перехваченные браслетами руки, хрупкие кисти с унизанными перстнями пальцами могли бы принадлежать очень красивой негритянке. Он окинул Анжелику бесстрастным взглядом и мелодичным голосом произнес по-французски:
— Не желаете ли чаю? Или лимонного ликера? Не угодно ли отведать жареной баранины на шампуре? Или жаркого из голубя с корицей? А может быть, рогаликов из миндального теста? Вам необходимо подкрепиться и утолить жажду!
— Я хочу на свежий воздух! — воскликнула Анжелика. — Хочу видеть небо, выйти из этой темницы!
— И только-то? — мягко спросил Верховный евнух. — Прошу вас, следуйте за мной.
Хотя предложение было произнесено милостивым тоном, стражи не выпустили молодую женщину, внушавшую им ужас, поскольку пятерым из них она уже стоила жизни. Ей пришлось подняться по одной узенькой лестнице, затем по другой, и она очутилась на плоской крыше. Над ее соловой сверкал огромный звездный купол. Лунный свет пронизывал легкую дымку, тянувшуюся от моря и голубоватой вуалью окутывавшую все вокруг, придавая дымчатую призрачность даже тяжеловесному куполу ближайшей мечети. Ее высокий минарет выглядел прозрачным, проницаемым для лунных лучей и казался таким вытянутым, колеблющимся и легким, что от одного взгляда на него кружилась голова.
Временами молчание прерывал лай собак, разносившийся в душной ночи вместе с дуновением влажного морского ветерка. Выкрики из «Каторжной таверны» не долетали до этого красивого, утонувшего в зелени садов квартала, где расположились серали алжирских богачей. Царила тишина мусульманской ночи, еще более плодоносная, нежели дневной жар. Ведь именно по ночам плетутся интриги, осуществляются заговоры, немые душат приговоренных, а плененные женщины получают право помечтать, созерцая огромный, запретный для них мир. На некоторых крышах угадывались их бледные силуэты. Нежась на подушках или диванах либо неслышно прогуливаясь, они могли, наконец, открыть лицо и без помех впивать легкое соленое дыхание моря. Рокоту волн вторили щебет их голосов, приглушенный смех, звон серебряных стаканчиков. Разносился свежий запах мятного чая и пряностей.
Время от времени то тут, то там появлялся евнух-страж. Он делал обход, следуя по узким галерейкам, окаймлявшим крыши, и по закоулкам двориков. На высветленном луной небе выделялись эти медленно бредущие сумрачные фигуры, инспектирующие все потайные уголки, где мог бы спрятаться дерзкий возлюбленный, но совершенно равнодушные к переговорам и перешучиванию между соседствующими крышами.
Евнухи отпустили Анжелику. Она обернулась и увидела широкое аметистовое покрывало моря с серебряными бороздками волн. Трудно было вообразить, что по другую сторону этой феерии красок существовали европейские берега с серыми или темно-бурыми домами…
Анжелика уселась у края. На крыше были и другие женщины, но они хранили молчание, возлежа на подушках. Даже служанки, наливавшие им чай и разносившие блюда с печеньями, казались очень робкими. Ведь и они были рабынями, купленными Верховным евнухом или презентованными Меццо-Морте, поэтому никто ни с кем еще не был знаком.
Осман Ферраджи с глубоким вниманием наблюдал за Анжеликой и вдруг, словно объятый внезапным прозрением, произнес:
— Хотите турецкого кофе?
Ноздри Анжелики задрожали. Она вдруг поняла, что именно турецкого кофе ей так не хватало в Алжире.
Не дожидаясь ее согласия. Осман Ферраджи хлопнул в ладоши и отдал короткий приказ. Через несколько мгновений был развернут ковер, принесены низкий столик и стопка подушек, и к небу потянулся душистый пар черного кофе. Осман Ферраджи знаком велел служанкам удалиться. Усевшись за столик и скрестив длинные ноги, он пожелал самолично прислуживать плененной француженке. Он подал ей сахар, предложил толченый перец и абрикосовый ликер, но она отказалась. Она пила едва подслащенный кофе. Глаза ее сомкнулись от внезапно нахлынувшей ностальгии.
«Этот запах напоминает Кандию… торговый зал, где он так странно смешивался с запахом табачного дыма… Мне хочется возвратиться туда и вновь почувствовать, как рука Рескатора приподнимает мой подбородок… Как вкусно пахнул тогда кофе! Я была счастлива в Кандии…»
Она отпила три глотка и, наконец, заплакала, сотрясаемая всхлипываниями, с которыми не могла совладать.
Она не желала выказывать слабость, стыдилась своего поражения перед лицом Верховного евнуха, тем более что абсурдность охватившего ее чувства казалась ей несомненной. Ведь в Кандии она была лишь жалкой, истерзанной невольницей, выставленной на продажу. Тогда у нее еще теплилась надежда, оставалась цель! Там же обретался ее старый предприимчивый друг Савари, он мог ободрить, встряхнуть, направлял каждый ее шаг. Где он теперь, бедняга? Может, ему выкололи глаза, чтобы запрячь в колодезную норию вместо осла? Или бросили в море, или кинули на растерзание псам?.. Они же на это способны!..
— Не понимаю, почему вы плачете или кричите, почему вы волнуетесь…
— Ну да, — выговорила она между всхлипами. — Вам не понять, почему женщина, которую разлучают с близкими и заточают в тюрьму, может плакать! Но, насколько я понимаю, я не одинока. Послушайте, как воет внизу та, другая.
— Но вы — это совсем другое дело.
Он поднял руку, растопырив веером пальцы в перстнях, и начал их загибать:
— Женщина, которая свела с ума маркиза д'Эскренвиля, грозу Средиземноморья, которая подвигла самого осторожного из известных мне коммерсантов, дона Хозе де Альмада, дойти до ставки в двадцать пять тысяч пиастров за покупку, которая была ему ни к чему. Та, что ускользнула от непобедимого Рескатора. Та, что разговаривала с Меццо-Морте таким оскорбительным тоном, на какой не отважился бы никто из его врагов. И добавлю, первая женщина, выскользнувшая из рук Верховного евнуха Османа Ферраджи! Это большая честь. Когда, сударыня, являешься подобной женщиной, можно ли позволять себе плакать или поддаваться истерике?
Анжелика отыскала платок и одним глотком допила остывавший кофе. Конечно, ее не мог не впечатлить такой перечень собственных заслуг, и воля к сопротивлению снова пробудилась в ее душе. Она подумала: «А почему бы сверх всего этого мне не стать первой женщиной, сбежавшей из гарема?»
Ее зеленые глаза уставились на сидящего напротив Верховного евнуха. Она чувствовала к нему смесь симпатии и уважения, возникших сразу же, как только он появился около нее во время казни немецкого рыцаря. Сейчас его лицо, освещенное луной, казалось искусно вычеканенным из бронзы, с густыми и слишком тонко очерченными для мужчины тенями. Однако низкие брови негра, когда он не улыбался, придавали ему мрачноватую суровость. Впрочем, как раз в это мгновение Верховный евнух улыбнулся, подумав, что зеленые глаза этой женщины походят на глаза пантеры. Она была из той же породы, и ее слезы указывают лишь на раздражение хищника, попавшего в клетку. Ничего, он сумеет укротить ее.
— Нет, — заключил он, покачав головой, — пока я жив, вы не скроетесь. Хотите фисташек? Они из Константинополя. Правда ведь, хороши?
Анжелика нехотя погрызла, заметив, что бывают и лучше.
— Где это? — неожиданно оживился Осман Ферраджи. — Вы помните имя продавца? Где.он живет?
Он добавил, что одна из его забот — потакать гурманству сотен рабынь Мулея Исмаила. От его путешествия в Алжир ожидали гастрономических чудес. Он приехал за греческим мальвазийским вином и восточными сладостями. Благодаря ему гаремы Мулея Исмаила были всем обеспечены лучше, чем где-либо в Берберии. Когда она прибудет в Мекнес, то убедится сама.
Анжелика насторожилась и показала когти:
— Я никогда не буду в Мекнесе. Я добьюсь свободы!
— На что она вам?
В вопросе было столько тихого удивления, что Анжелика обмякла, как прорванный бурдюк. Она могла крикнуть, что хочет видеть близких, свою страну, но вдруг не нашла слов, и вся ее жизнь предстала перед ней как нечто, недостойное внимания. У нее не было корней, ничего не привязывало к жизни, кроме двоих малолетних детей, вовлеченных к тому же в ее безумные прожекты.
— Здесь ли, там, — шептал между тем голос Верховного евнуха, — везде, куда привел нас Аллах, насладимся прелестью жизни! Вам страшно, потому что наша кожа черна или коричнева, а язык незнаком. Но есть ли в наших нравах что-либо, что вселяет в вас ужас?
— Вы полагаете, что столь милое представление, как казнь мальтийского рыцаря, на которой мы оба присутствовали, заставит меня считать приятными мусульманские нравы?
Осман Ферраджи, казалось, был искренне поражен:
— Разве в ваших странах нет подобной казни? А привязывать к четырем кобылицам лучше? Французы, с коими я беседовал, поведали мне о подобных наказаниях.
— Это бывает, — признала Анжелика, — но не так часто… только когда дело идет о цареубийстве. — Казнь мальтийского рыцаря — тоже редкое явление. Так признается достоинство противника, страх, внушаемый им, и вред, им нанесенный. Это — большая честь для него. Вы страшитесь, сударыня, поскольку невежественны, как все христиане, не желающие узнать, что такое ислам. Они воображают, что мы дикари. Вы повидаете наши города в Магрибе; Марокко на закате розов, как огонь, и горит у подножия Атласских гор, чьи снежные вершины сверкают, словно россыпь бриллиантов. Фец — само имя его означает «золото»; Мекнес, наша столица, кажется выточенной из слоновой кости… Поистине, наши города прекраснее и богаче ваших.
— Нет, это невозможно. Вы сами не знаете, что говорите. Нельзя сравнить Париж с этим скопищем белых кубов…
Жестом она обвела спавший у ног Алжир — и осеклась: перед ней мерцал невообразимый мир, существовавший вне всех времен, словно в сказке.
Там, у ее ног, слабо переливался город, выстроенный магией лунного света, высеченный из прозрачного фарфора и стоящий у аметистового моря. Это была сама мечта, и сквозь безвкусное тряпье пиратского гнезда проступали очертания мечтательной мусульманской души.
— Вы не созданы для страха, — внушал Осман Ферраджи, покачивая головой. — Будьте послушны, и с вами ничего худого не случится. Я дам вам время привыкнуть к нашим исламским нравам.
— Не знаю, смогу ли я когда-либо смириться с вашим презрением к человеческой жизни.
— Стоит ли жизнь человеческая стольких треволнений? Христиане панически боятся смерти и пытки. Ваше вероучение, по-видимому, плохо готовит вас к тому, чтобы выдерживать пристальный взгляд Бога.
— Меццо-Морте уже говорил мне нечто подобное.
— Это всего лишь ренегат; «турок-понадобности», — произнес Верховный евнух, не скрывая пренебрежения, — но я предпочитаю думать, что его привлекла к нам не только жажда роскоши и славы, но и свобода веры, дающая вкус к жизни и вкус к смерти, а не страх перед тем и другим, как у вас, христиан.
— И верно, какая жалость, что вы не сделались марабутом, Осман-бей. Вы прекрасный проповедник. Вы надеетесь легко обратить меня в вашу веру?
— У вас не будет выбора. Вы сделаетесь мусульманкой, став одной из жен нашего великого государя Мулея Исмаила.
Анжелика прикусила губу, чтобы удержаться от ответа. Про себя она непочтительно хмыкнула: «Надейся, надейся!» До марокканского пугала, предназначенного ей в повелители, было, к счастью, далеко. О, она еще успеет улизнуть! И способ найдет и выберет подходящий случай… Непременно! Осман Ферраджи хорошо сделал, что предложил ей кофе…
Глава 7
Прежде всего отыскался мэтр Савари. Это был верный знак, что небеса не забыли о ней.
Караван-сарай, где марокканцы вкушали от щедрот алжирского гостеприимства, являл собой обширное строение, превосходившее размерами невольничий рынок в Кандии, и также располагал гостиницей и складами. Тот же общий план: четырехугольник, как рама картины, имевший по периметру два этажа комнат, выходящих на большой внутренний двор с колоннадой, в свою очередь окружавшей двор-садик с тремя фонтанчиками, олеандрами, лимонными и апельсинными деревьями. Войти туда можно было только через единственные ворота, охраняемые отрядом стражи. Ни одно окно не выходило на улицу. Снаружи все стены были глухими, крыши — плоскими, с галерейкой по внутреннему краю и зубчатой стеной с бойницами — по внешнему. У бойниц тоже постоянно находилась стража.
Сорок — пятьдесят комнат сего импозантного сооружения, настоящей крепости в самом сердце города, были набиты народом. Несколько помещений внизу служили конюшней для храпящих диковатых верховых лошадей, ослов и верблюдов. Именно оттуда на глазах Анжелики высунулось странное животное со змеиной пятнистой шеей, увенчанной маленькой головкой с большими влажными глазами и крошечными ушами. Зверь не казался злобным, он высовывал длинную шею из-за колоннады, окружавшей садик, стараясь подобраться к листьям олеандра. Анжелика с удивлением созерцала это чудо, когда чей-то голос по-французски произнес:
— Это жирафа.
Куча соломы зашевелилась, и из нее возникла сгорбленная и еще более, чем прежде, потрепанная фигура старого аптекаря.
— Савари! О, дорогой мой Савари! — прошептала она, сдержав сдавленный крик. — Как вы сюда попали?
— Когда я узнал, что вы в руках Османа Ферраджи, я все время пытался пробраться к вам. Помог случай. Меня купил турок-носилыцик, который подметает двор казармы янычаров. Чувство собственной значимости подвигло этого незаменимого служащего купить раба, дабы тот подметал вместо него. У него есть друг, смотритель здешнего зверинца. От него я узнал, что здесь есть больной слон. Я вызвался его вылечить. Сторож перекупил меня у носильщика, и вот я здесь.
— Савари, что с нами будет? Меня хотят увезти в дар марокканскому султану.
— Не печальтесь. Марокко — очень занятная страна, и я уже давно мечтал о случае повидать ее вновь. У меня там есть знакомства.
— Еще один сын? — с бледной улыбкой спросила Анжелика.
— Нет, два! Один из них — от еврейки. Только кровные связи могут способствовать искреннему сообщничеству. Должен с прискорбием признаться, что не имею наследников в Алжире. Это делает возможность бегства весьма сомнительной. Вы сами знаете, что вы рисковали, пытаясь бежать…
— Вы прослышали про мое бегство?
— Здесь все быстро становится известно. Беглая француженка-рабыня, которую никак не найдут! Кто еще это мог быть? Вас не слишком сурово наказали?
— Нет. Осман Ферраджи выказал полнейшую предупредительность.
— Вещь весьма странная, но возрадуемся ей.
— Более того: я пользуюсь некоторой свободой. Мне позволено бродить по дому и даже покидать женскую половину. В общем, Савари, это еще не гарем. И море близко. Не пришло ли время сделать новую попытку?
Савари вздохнул, вынул щетку из своего тазика и принялся ревностно тереть жирафу. Наконец он спросил, что сталось с Мохаммедом Раки. Анжелика передала ему рассказ Меццо-Морте о западне. Все ее надежды рухнули. Теперь она помышляет об одном: бежать, возвратиться во Францию.
— Всегда сначала хочется бежать, а потом приходит сожаление о содеянном. В этом магия ислама. Вы еще увидите. Но начинать надо все же с бегства, поскольку таковы обычно первые симптомы этой болезни.
Вечером Осман Ферраджи посетил Анжелику и осведомился, не является ли раб-христианин, чистящий конюшни, ее отцом, дядей или кем-то из родни. Анжелика покраснела, узрев в этом свидетельство бдительности стражей, обмануть которую ей не удалось. Она с живостью откликнулась, поведав, что это ее спутник по путешествию и хороший знакомый, но прежде всего он — большой ученый, а здесь мусульмане употребляют его на черной работе, поскольку таков их обычай: унижать христиан, ставя лакея на место хозяина и втаптывая в грязь просвещенные умы.
— Вы заблуждаетесь, как и все христиане. Не гласит ли коран, что в час Страшного суда чернила ученого будут весить больше, нежели порох солдата? Достойный старец — врач?
Услышав утвердительный ответ, Верховный евнух просиял: больная исландка и еще — слон, два драгоценных подарка алжирского адмирала султану. Было бы прискорбно попортить эти дары еще до отъезда из города.
Савари воспользовался случаем. Ему удалось совладать с лихорадкой у обоих пациентов. Он воспользовался лекарствами собственного изготовления, и Анжелика удивилась, как среди стольких превратностей ему удалось сохранить в бесчисленных дырявых карманах ветшающего одеяния эти травки, пилюли и порошки. Верховный евнух пожаловал ему пристойный плащ и включил в штат своей прислуги.
— Ну вот, — заключил Савари, — всегда все сначала намереваются бросить меня в море или псам, а потом — и весьма скоро — без меня уже не могут обойтись.
Теперь Анжелика не чувствовала себя такой одинокой. Фатима, старая вероотступница, также помогала ей познавать язык и обычаи этого странного мира.
Когда она попросила позволения оставить старуху при себе, Осман Ферраджи усомнился, что та согласится отправиться в королевство Марокко, где нет частного рабовладения и один лишь султан распоряжается всеми рабами-христианами, а их более сорока тысяч! Мех тем старая Фатима считалась свободной в любой из исламских земель, хотя упрямо продолжала называть себя рабыней. Вряд ли она решится отправиться к арабам, у которых другой говор и которых алжирцы, невзирая на собственные дикарские выходки, почитают дикарями.
Однако против ожиданий старуха объявила, что, чувствуя близкий конец и полное одиночество в Алжире, предпочитает умереть под покровительством соотечественницы, вдобавок — маркизы, как и первая ее хозяйка еще тех времен, когда ее, Фатиму, звали Мирей.
— Вот доказательство, — заметил по этому поводу Осман Ферраджи, — что старая колдунья провидит вокруг вас ореол счастливых предзнаменований и что «тень Мулея Исмаила падет на вас», вознеся так высоко, как того заслуживают ваши красота и ум.
Анжелика остереглась его разубеждать. Теперь она питала надежду, что от попечителя гарема можно ожидать некоторой гуманности. Может, он убережет ее от зверств, с которыми она столкнулась в этих широтах, где полно таких, как Меццо-Морте с его юными волками, как алжирский дей с его гаремными «немыми» и раисы с их «Таиффой» — все это сборище пиратов и грабителей с большой дороги. Напротив, огромный негр выказывал по отношению к ней вообще-то ему не свойственную покладистость. А вот маленькая черкешенка Мариам по приказу этого ревнителя порядка и послушания была бита кнутом за то, что не закрыла лицо, выйдя на веранду верхнего этажа, когда во дворе толпились погонщики верблюдов. Напротив, Анжелика, появлявшаяся там же не только без чадры, но и в «непристойном» европейском наряде, не услышала ни одного упрека. Лишь два или три раза он просил ее накинуть покрывало, когда брал с собой в город посетить торговцев.
Со времени заточения на корабле Меццо-Морте она испытывала сильнейший страх перед мусульманскими юношами. А кроме молодых янычаров Меццо-Морте были еще стайки детей, бросавших осколки бутылок во двор невольничьей тюрьмы или вонзавших колючки в спины скованных галерников. Легко можно было вообразить, что случилось бы с рабыней, отданной на суд черни. Значит, худшего она избегла! Теперь она с тревогой наблюдала, как сотни малолеток заполнили караван-сарай. Они расположились на лужайке вокруг фонтанов, казалось, не занятые ничем, кроме щелканья орешков и поедания сладостей и печенья. Она осведомилась у Осман-бея, зачем они здесь.
— Они входят в те дары, которые соблаговолит принять у этих алжирских собак мой славный повелитель. Султан обожает молодежь всех широт: с далекого Кавказа и из Египта, из Турции и Южной Африки, Италии и Греции. Эти пажи будут подготовлены для службы в штурмовых командах. Мулею Исмаилу они нужны отнюдь не для похотливых игр: из них вырастут могучие воины. Не забудьте, что его прозвали «Мечом Ислама». Он знает, как услужить Аллаху. Великий пост, Рамадан, у нас длится два месяца, а не один, как у алжирских лентяев. Нам надобно в два раза больше претерпевать, дабы замолить прегрешения этих, с позволения сказать, мусульман. Конечно, они неплохо воюют с неверными, но слишком бесчестны в делах.
Труд им отвратителен. Где их строительство? А у нас в Марокко строят очень много. Я подсказал султану мысль создать фаланги воинов-строителей. Пятнадцать тысяч чернокожих детей сначала два года учатся возводить стены и делать кирпичи. Еще два года они овладевают верховой ездой и сторожат стада. А с шестнадцати лет обучаются военному искусству и участвуют в битвах.
Общество Верховного евнуха и его беседы были небезынтересны. Казалось, он питал к пленной француженке особое почтение. Это не могло не льстить ей, хотя она старалась не поддаваться искусительному чувству. Она спрашивала себя, в какой мере этот негр с холодным умом мог бы сделаться ее сообщником. Сейчас она полностью зависела от него. Прочие рабыни-христианки, а также десяток прелестных кабильских девушек и чернокожих эфиопок панически боялись его. Как только длинная тень Османа Ферраджи падала на каменные плиты, они застывали, смех затихал и на лицах появлялось выражение провинившихся послушниц. Взор олимпийца окидывал эту строптивую и скрытную стайку. Черный гигант говорил с ними без грубости, но никакая подробность не ускользала от его внимания.
В этот день он показался ей весьма озабоченным, и в конце концов признался, что действительно пребывает в некотором затруднении. Ведь если память не изменяет ему, высокородная пленница, каковую он имеет честь сопровождать к султану Марокко, однажды обмолвилась, что занималась собственной коммерцией. Странные, между прочим, нравы: возможно ли, чтобы знатные дамы занимались торговлей, слывущей низменным ремеслом? Положим, и этот предрассудок нелеп, ибо сам Магомет во всеблагой мудрости своей, почерпнутой у Аллаха, не преминул напомнить, что для истинно верующего все ремесла благородны. А из сорока пророков, признаваемых исламом, не был ли Адам земледельцем, Иисус — каменщиком, Иов — нищим, Соломон — царем и многие другие — торговцами? Следовательно, его собеседница не должна стыдиться, что некогда занималась коммерцией, разумеется, до того, как поднялась до высокого ранга маркизы. Исходя из вышесказанного она, вероятно, разбирается в качестве сукон — этой вполне христианской материи, меж тем как правоверному мусульманину трудно определить, хорош ли этот товар. Не соблаговолит ли она своим советом оказать ему неоценимую услугу?
Анжелика благосклонно выслушала эту многословную тираду и проследовала за Верховным евнухом к тюкам с зеленым и пунцовым сукном. Тканями она не занималась, но кстати вспомнила слышанные некогда сетования Кольбера насчет колебания цен на сукно — товар, исключительно ходкий в исламских странах. Она пощупала уголок ткани, поглядела ее на свет.
— Вот эти два куска — негодная покупка. Красное, не буду отрицать, сделано из чистой шерсти, но из так называемой «мертвой» шерсти, иначе говоря, из клоков, которые овца теряет на кустах, а не из стриженого руна, как полагается. К тому же выкрашено оно не мареной, а уж не знаю чем. Боюсь, такая ткань выцветет на солнце.
— А другой тюк? — спросил Осман-бей. В его голосе сквозь обычную безмятежность пробивалась тщательно скрываемая тревога. Анжелика пощупала зеленую ткань и нашла ее слишком жесткой.
— А это — сущий хлам. Шерсть, пожалуй, лучшего качества, но зато с бумажной ниткой и слишком сильно накрахмалена. Если намочить, материя сомнется, сядет и станет вдвое легче.
Лицо Верховного евнуха сделалось пепельно-серым. Голосом, с которым он уже не тщился совладать, Осман Ферраджи попросил Анжелику оценить другие куски товара. Она объяснила, что остальное сукно — наилучшего качества, и, по некотором размышлении, добавила:
— Могу предположить, что негодное сукно было вам предложено как образец, чтобы потом вы смогли заказать большую партию?
Лицо Османа Ферраджи просияло.
— Вы угадали, прекрасная Фирюза. Сам Аллах послал мне вас. Иначе я потерял бы лицо перед королевством Марокко и регентствами Алжир и Тунис. И весьма привередливая монархиня, султанша Лейла Айша, охотно опорочила бы меня в глазах моего повелителя. Воистину, сам Аллах остановил мою руку, когда после вашего бегства я было решил подвергнуть вас пытке на глазах остальных рабынь, чтобы преподать им урок. А затем отрубить вам голову собственной саблей, которую я уже наточил для этого случая. Но мудрость остановила мою руку, и прекраснейшая из моих сабель ржавеет в ножнах и пылится в Алжире, в этой крысиной норе, гнезде гнусных купцов-обманщиков. Но ты, о мой клинок, утешься! Пробил час вывести тебя из недостойного бездействия ради справедливого дела и торжества правосудия.
Последняя фраза была произнесена по-арабски, но Анжелика уловила ее смысл, видя как негр извлек кривую саблю и театральным жестом заставил ее заблистать на солнце. Сбежавшиеся служанки укутали Анжелику в просторное шелковое покрывало. Потом ее усадили в портшез, и, сопровождаемая эскортом вооруженной стражи, она прибыла в лавочку сомнительного торговца, где уже распоряжался Осман Ферраджи.
Купец лежал, распростершись ниц. С безмятежным видом марокканец попросил Анжелику повторить сказанное ранее. Тюки с сукном были уже принесены и развернуты. Раб-француз, приказчик купца, переводил ее слова, слегка заикаясь и косясь на саблю в руках Верховного евнуха.
Алжирец-негоциант клятвенно уверял, что невиновен. Произошло явное недоразумение… Никогда бы он не позволил себе обмануть высокого посланца великого султана Марокко. Сейчас он сам отправится в кладовую и вынесет все товары, приготовленные для высокочтимого и высочайшего визиря султана Мулея Исмаила. Согнувшись, он юркнул в свою темную нору.
Осман Ферраджи с довольным видом поглядел на Анжелику. Его глаза горели и щурились, словно у кошки, готовой броситься на мышь. Он бросил взгляд в сторону кладовой, оттуда послышался страшный крик, и купца извлекли на свет. Его крепко держали три черных стража, помешавшие ему улизнуть через заднюю дверь.
Беднягу заставили встать на колени и прижали голову к одному из тюков с сукном.
— О, но ведь вы не отрубите ему голову? — вскричала Анжелика; ее слова остановили уже поднятую руку.
— Разве не мой долг раздавить зловонное насекомое? — спросил Верховный евнух.
— Нет, нет, прошу вас! — в ужасе прошептала она.
Смысл ее замешательства не был понятен управителю султанского сераля. Но у него были причины щадить чувства пленницы. Со вздохом он отложил казнь купца, который едва не опозорил его, — его, самого сведущего интенданта в огромном султанском штате. Он объявил, что ограничится лишь отсечением руки, как поступают с ворами, что тотчас и сделал резким сухим ударом, словно рассек обыкновенный стебель сахарного тростника.
— Давно пора нам покинуть эту страну воров! — произнес несколько дней спустя Осман Ферраджи.
Анжелика даже подскочила: она не расслышала, как он подошел. За ним следовали трое негритят. Один нес кофе, другой — толстую книгу, свиток бумаги, чернильницу и тростниковую палочку для письма, третий — раскаленную жаровню и охапку колючек.
Анжелика застыла, наблюдая за действиями евнуха. От этого странного человека можно было ожидать всего, что угодно. Не приготовления ли это к какой-нибудь изощренной пытке?
Верховный евнух улыбнулся. Из плаща он вынул платок в красную и черную клетку, развязал на нем узелок и подал ей перстень.
— Это мой подарок. Конечно, это маленькое колечко, но, хотя я очень богат, я должен оставить за моим повелителем исключительную привилегию богато одаривать вас. А эту вещицу я вручаю в знак дружбы. Теперь же я начну учить вас арабскому языку.
— А… огонь для чего? — спросила Анжелика.
— Чтобы очистить воздух вокруг Корана, который вы станете изучать. Не забудьте, пока вы христианка, вы оскверняете все, что вас окружает. Везде, где вы будете проходить, мне придется очищать это место особыми обрядами, а нередко — огнем. Это очень обременительно, вы уж мне поверьте…
Он выказал себя мягким, терпеливым и образованным наставником. Анжелика вскоре с головой погрузилась в занятия, они ее развлекали. К тому же выучить арабский было полезно, это позволило бы найти сообщников для побега.
Как она сможет бежать? Куда? Об этом она понятия не имела, но повторяла себе, что пока жива и в здравом рассудке, ни за что не откажется от планов бегства.
Среди всего, что она узнала, особенно поразило ее, что на Востоке отсутствует понятие времени. Так, когда Верховный евнух повторял, что они «тотчас отправляются» в Марокко, она сначала понимала его буквально и ожидала, что вот-вот ее погрузят на верблюда и караван тронется. Но дни проходили за днями, Осман Ферраджи продолжал изрыгать проклятия по адресу ленивых и вороватых алжирцев, «которые в нечестности уступают только иудеям и христианам», снова и снова возвещал о немедленном отъезде, однако ничто еще не было готово для отправления.
Напротив, Осман Ферраджи все глубже втягивал ее в свои дела: то принесет кусок венецианского бархата, чтобы узнать ее мнение о качестве ткани, то явится просить совета о выборе кордовских кож для выделки седел, то сообщит, что ожидает прибытия партии особого аравийского мускуса, фисташек и абрикосов из Персии, а также персидской нуги, по сравнению с которой лакомства Алжира и Каира лишь скверные подделки.
Невольно увлекшись этими хозяйственными заботами, Анжелика даже поведала ему, что персиянин Бахтияр-бей дал ей рецепт настоящей нуги, которую делали из меда, смешанного с миндалем и разными порошками, среди которых — знаменитая «манна пустыни» — кристаллики сахара, выделяемые кустарниками в таком количестве, что ветер иногда наметает из них целые снежные дюны. Все это вымешивали ногами в мраморных чанах, а затем добавляли лесные орехи и фисташки.
Суровый негр захлопал в ладоши, словно ребенок, и тотчас предпринял поиски такой манны — библейского дара пустынь. Это новое обстоятельство обещало до бесконечности продлить их пребывание в Алжире, и Анжелика не знала, радоваться ли этому. Когда она видела море, в ней оживала безумная надежда на бегство. Однако зрелище сотен рабов, многие из которых пробыли в здешней неволе более двадцати лет, убивало все иллюзии. Однажды Анжелике подумалось, что их караван, наверное, проделает часть пути по морю. Всю ночь она внушала себе, что марокканские суда не смогут улизнуть от кораблей Мальтийского ордена или пиратов-христиан. Наутро она вся светилась от этих грез, но тут Верховный евнух заметил, словно в заключение молчаливой беседы:
— Если б не было на море проклятого мальтийского флота, я за три недели доставил бы вас в столицу нашего блистательного монарха.
Он сощурил большие семитские глаза, и они превратились в ярко светящиеся золотые щелочки.
Молодая женщина уже заметила: этот взгляд появлялся у него, когда он желал вызвать ее одобрение, подавал завуалированный совет или намекал, что читает ее мысли.
Теперь управитель сераля, казалось, закончил последние приготовления к отправке своего импозантного каравана. Каждый день ждали отъезда. Но каждый день — по таинственным мотивам, а может статься — и без оных — приказ об отбытии отменялся. Осман Ферраджи словно бы ожидал какого-то невидимого, а возможно, и непредсказуемого знака.
Среди прочего одной из причин этих бесконечных отсрочек была забота о здоровье карлика-слона. Он все недомогал, и нельзя было пуститься в путь по гористым и пустынным дорогам, рискуя жизнью такого драгоценного и редкого животного, которое должно обрадовать Его величество. Мулей Исмаил обожал животных. У него были тысяча лошадей в конюшнях и сорок кошек в садах, причем каждая откликалась на свое имя. Нужно было ждать, пока слон вполне поправится. Каждый день его врач, старый раб Савари, приглашался для долгих консультаций.
Затем надо было ожидать пленения кораблями из Триполи судна, груженного, по слухам, лучшим мальвазийским вином. По этому поводу Анжелике пришлось подвергнуться пристрастному допросу. Что можно сказать о французских сладких винах, о португальских, испанских и итальянских? Считать ли их десертными винами, допустимыми в гареме, чем-то вроде ликеров, или же винами опьяняющими, запрещенными исламом?
Анжелика не без иронии предложила обратиться к знатокам Корана и найти у них ответ на каверзный вопрос. Евнух был очарован таким ответом, показывающим благоразумие его ученицы и ее понятливость, ибо только что он учил ее, что ислам означает «покорный Богу».
Мальвазийские вина были признаны угодными Магомету, и теперь оставалось ждать успеха пиратов. Верховный евнух был бы раздосадован, если бы пришлось возвращаться без этого редкого лакомства, признанного ублажать дам, за решетками гарема соскучившихся по новинкам. В начале своего пребывания в Алжире он приобрел несколько бочонков вина, которое ему рекомендовали как весьма тонкое, но Анжелика открыла Осман-бею, что ему всучили заурядное питье из виноградных выжимок, а значит, он едва избежал еще одного повода быть обесчещенным. И никто не удержал его руку, когда сабля-мстительница обрушилась на голову мошенника, продавшего эти самые бочонки, который к тому же козырял своим давним путешествием в Мекку и титулом «хаджи»!..
Анжелика терпеливо слушала разглагольствования Верховного евнуха, весьма схожие с дамской болтовней. Временами она удивлялась, что когда-то приняла этого негра за достойного потомка библейских волхвов. Она говорила себе, что он мелочен, болтлив и даже слабоволен, как женщина. Казалось, он все время топчется на месте, вслепую нащупывая свой путь.
— Не заблуждайтесь, мадам, — сказал ей, покачивая головой, старый Савари, когда она поделилась с ним подобными соображениями. — Это тот самый человек, который сделал Мулея Исмаила султаном Марокко, а сейчас пытается сделать вершителем судеб всех государств ислама, а может быть, и Европы. Бойтесь его раздражить, мадам, и просите Господа, чтобы вырвал вас из его рук, поскольку один лишь Господь на это способен.
Анжелика пожала плечами. Вот и Савари заговорил, как этот сумасшедший д'Эскренвиль. Может, он понемногу начал дряхлеть? Было от чего после стольких приключений! Чтобы старый аптекарь, всегда столь изобретательно затевавший тайные комплоты, полагался на волю всевышнего? Он явно не в себе! Или же оценивает их положение как исключительно опасное…
Савари получил привилегию свободно бродить по городу в качестве «муканги», как в Судане называют лекаря. Он обследовал лавчонки и рынки, ища травок или порошков, необходимых ему для дела, а более всего в поисках новостей, которые он выведывал у недавно плененных рабов. В Алжире от людей, собранных со всей Европы, можно было узнать обо всем быстрее, нежели при дворах Франции, Англии или Испании. Например, пришли вести о новом короле Венгрии и о том, что Людовик XIV воюет в Голландии.
Все эти слухи казались Анжелике нереальными и смехотворными. Этот французский король, воюющий со всей Европой, — тот самый мужчина, который стискивал ее в своих объятиях, жарким шепотом умоляя не быть к нему такой жестокой? А если бы сейчас она позвала его на помощь, гремели бы пушки, чтобы ее освободить? Она отмахнулась от этой мысли: даже думать о таком было бы поражением. Эти бесчисленные рабы, пришедшие со всех концов света, никогда не говорили об обезображенном хромом по имени Жоффрей де Пейрак. Она достоверно знала, что он отправился в Средиземноморье, что там его след затерялся несколько лет назад. Верны ли слова Меццо-Морте, что ее супруг давно умер от чумы? Когда эта мысль посещала ее, она начинала чувствовать нечто похожее на облегчение. Ведь порой неопределенность — тягчайшая из пыток. «Я слишком долго летела по следу мечты…»
Иногда ей казалось, что она стала лучше понимать Савари. Многие годы он провел в погоне за своим «минеральным мумие». Его смелая выходка в Кандии — этот пожар — была лишь научным опытом. Теперь же он двигается ощупью. Скелет карликового слона и заботы о его живом потомке не дают достаточно пищи его ученому уму. Как и она, он захвачен вихрем слепой фортуны. А вся жизнь не есть ли сплошное топтание на месте? Нет, она не позволит себе размякнуть от жары и позлащенного заточения. Она хочет бежать, а это уже цель!
С новым жаром она склонилась над пергаментом, на котором чертила знаки. И вздрогнула от пристального взгляда Османа Ферраджи. Она забыла о его присутствии. Казалось, он от века сидел здесь, строгий, величественный и таинственный, скрестив свои длинные ноги, укрытые плащом из белой шерсти. На нем были жемчужно-серый кафтан и высокий черный колпак с вышивкой такого же красного цвета, как и его ногти.
— Воля — это магическое и страшное оружие, — произнес он.
Анжелика посмотрела на него, объятая внезапно нахлынувшей злостью, как всякий раз, когда он угадывал ее мысли.
— Вы хотите сказать, что надо позволить жизни нести себя, как волна — сдохшую собаку?
— Наша судьба не в наших руках. Что предначертано, то предначертано.
— По-вашему, судьбу изменить нельзя?
— Нет, можно, — серьезно сказал он. — Все смертные обладают некоторой малой возможностью противостоять судьбе. Этого добиваются лишь напряжением воли. Вот почему я говорю, что воля есть род магии, она насилует природу. И что она опасна, поскольку ее плоды не могут не стоить очень дорого, а ее борьба способна навлекать большие беды. Вот почему христиане, направляя личную волю куда им вздумается, ради мелочных целей без конца вступая в единоборство с судьбой, за это отягчены невзгодами, на которые жалуются всю жизнь.
Анжелика покачала головой.
— Не могу вас понять, Осман-бей. Мы принадлежим двум разным мирам.