Воздаяние храбрости Соболь Владимир
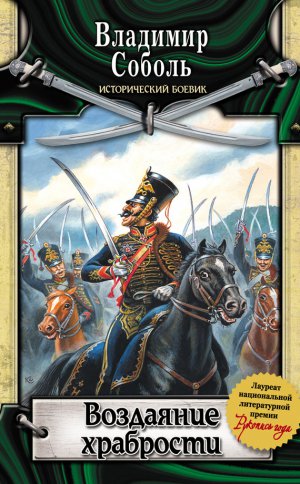
Вельяминов задержался перед Валерианом и в безмолвии развел руки, поднял плечи и брови. Затем скрылся за пологом тента. Валериан шагнул было следом, но вдруг остановился, скрипнул зубами и пошел прочь, туда, где Василий держал вороного.
Между тем подходила пехота. Солдаты Ширванского полка, карабинеры, егеря сорок первого, херсонцы, остававшиеся в Тифлисе, шли легко, весело, перекликались с егерями же, грузинцами, херсонцами отряда Мадатова. Офицеры, видя, что генералы разошлись по палаткам, не одергивали нижних чинов да сами кричали из рядов, если видели вдруг в стоящих шеренгах своих хороших знакомых.
Батальон Херсонского полка проходил мимо херсонцев, выстроенных для встречи.
– Ну что? – кричали вновь прибывшие. – Как они, персиянцы? Говорят, тучею дуют?
– Дуют, дуют, – отвечали победители при Шамхоре. – Да только в другую сторону.
– А в какую другую? – закричал ражий весельчак. – Покажи мне, чтобы я в иную не побежал.
– Да тебе, Сидоркин, только в одну сторону нужно! – кричали херсонцу. – Туда, где бабы!
Хохотали идущие шеренги, стоящие, смеялся со всеми и сам Сидоркин, широко разевая щербатый рот и смахивая поминутно пот, катящийся на глаза из-под козырька кивера.
Вдруг он увидел Орлова. Тот стоял на правом фланге первой шеренги своей роты и молча, без улыбки, оглядывал проходящих мимо товарищей, изредка кивая особенно знакомым ему солдатам и унтерам.
– Орлов! Эй, Орлов! – завопил неугомонный Сидоркин. – Здорово, унтер! И тебе, молодой, здорово! А куда Изотыча дели?
Он, как и все в полку, привык видеть эту троицу вместе.
Орлов сжал зубы, вытянулся и расправил плечи, чувствуя, как дрожит прижавшийся к нему Лешка Поспелов.
– Орлов! – закричал Сидоркин еще громче, срываясь на фальцет в конце выдоха. – Где Изотов?!
Батальон, маршируя, уносил его от Орлова все дальше, он изгибался, выворачивая шею, пытаясь рассмотреть сурового унтера, напрягался, стараясь поймать ответ и холодея внутри, понимая еще не умом, но сердцем, что может узнать он о судьбе приятеля.
– Орлов! – заорал Сидоркин, надсаживаясь что было мочи. – Где Осип?
Он запнулся, замедлил шаг, и кто-то в следующей шеренге пихнул его в спину, беззлобно, но сильно, так что Сидоркин проскочил полторы-две сажени махом.
– Иди, иди! – проворчали сзади. – Чего митусишься?! Не понял еще, где твой Осип? Да там же, где и мы будем. Кто завтра, кто через день…
Сидоркин стал прямо и двинулся вперед, подравнивая шаг под идущих справа и слева. Лицо его почернело от горя и ярости, а пальцы, впившиеся в приклад, казалось, могли расщепить старое дерево не хуже долота или стамески…
Через несколько часов прибывшие войска поставили палатки, равняясь на уже стоящие, и, разбившись по артелям, варили обед. Новицкий ехал по лагерю, разглядывая слабенькие костры, нагревавшие огромные котлы, из которых питалась целая рота. По недостатку топлива в цене были каждая щепочка, каждый прутик, и котлы не висели над бледным пламенем, но прямо садились в него, приплющивая огонь широким чугунным днищем.
Доехав до палатки Мадатова, он спустился на землю и привязал поводья к столбику, врытому слева от входа. Вороного зверя, на котором ездил генерал, не было видно, и Сергей на миг испугался, что опоздал, но тут же откуда-то из-за тента послышалось ржание, похожее больше на рык. Жеребец почуял рыжую кобылу, на которой приехал Новицкий.
Ни часового, ни адъютантов у входа не было видно. Один только Василий сидел на земле, подстелив под себя кусок пестрой тряпки, подогнув ноги, и чинил какой-то элемент формы. Закончил стежок, закрепил аккуратно иголку, поднялся.
– Как прикажете доложить?
– Скажи, что надворный советник Новицкий просит принять его с письмами из Тифлиса.
Василий вгляделся в него и вдруг совершенно по-бабьи всплеснул руками.
– Ваше благородие… Сергей Алексаныч… Ай, не узнал… Долго жить будете…
– Надеюсь, Василий, надеюсь, – усмехнулся Новицкий, глядя вслед денщику, проворно нырнувшему за опущенный полог.
А всего лишь полминуты спустя и сам он уже шагнул в приоткрытую щель, торопясь поскорей скрыться от лучей раскаленного солнца, повисшего над равниной. Мадатов ожидал его стоя, и, только Сергей появился, шагнул навстречу, и крепко схватил за плечи.
– Рад, рад видеть тебя живым. Но – пожелтел, исхудал! Счастливчик ты, Новицкий, что из такой болезни все-таки выбрался! Ну а сейчас откуда? Куда?
– Да вот выезжал за лагерь. Повидал кое-кого. Решил по пути к вам наведаться, передать письмо.
Мадатов впился в него острым колючим взглядом.
– Ну?! Что же доносят?
– Да все то же, ваше сиятельство. Аббас ушел от Шуши и всей армией движется к Елизаветполю. Идет крайне медленно, осторожничает, держит все силы свои в кулаке. Но завтра уже будет здесь.
– Завтра, – отозвался Мадатов эхом и на несколько мгновений задумался, словно повернув глаза внутрь; однако же быстро встряхнулся. – Ну, да это уже и не мне решать. Говоришь, письма?!
Валериан взял у Новицкого три пакета, скрепленных разными печатями, и быстро взглянул на почерк. Одно было от Софьи, и он отложил его на кусок доски, закрепленной на двух чурбачках, заменявшей ему стол. Он решил, что с женой поговорит позже, когда решит остальные дела и останется с нею наедине.
Второе было из штаба, надписанное ровной, привычной к перу рукой. Он знал, что в нем: официальное уведомление в том, что ему, генерал-майору Мадатову, надлежит поступить под команду генерал-лейтенанта Паскевича. Он фыркнул и небрежно отбросил пакет на застеленную складную койку. Третье пришло ему от Ермолова. Он разорвал плотную провощенную бумагу вместе с суровыми нитками, развернул бумагу и подставил лист под небольшой конус света, проникавший в крохотное отверстие, прорезанное вверху полотняной стены.
Командующий писал, что счастлив был известию о Шамхорской победе, что еще раз уверился в способности его, генерала Мадатова, превосходить любые, самые неблагоприятные обстоятельства. Читать такое было приятно, но привычно. Подобные письма Ермолов посылал в ответ на реляцию о каждом успешном деле. Сколько их было за минувшие десять лет кавказской службы, Валериан не смог бы ответить даже и приблизительно: дюжина? полторы? две? Отдельные сражения и походы сплелись в его памяти в единую цепь действий, которые, в сущности, и составляли всю его жизнь.
Но далее за привычными полуофициальными фразами вдруг следовала горькая сентенция о том, что своих зачастую опасаться следует больше, чем чужих, и побеждать их куда труднее. Но в следующем абзаце Ермолов, словно бы спохватившись, принялся убеждать Валериана не принимать случившееся чересчур близко к его большому горячему сердцу, взглянуть на случившееся как на… случайность, обычную и неизбежную в их общем деле.
«Таковы уж причуды воинского счастья, князь!» – восклицал Ермолов, и Валериан тут сделал паузу, усмехнулся, покрутил головой и продолжал читать дальше:
«Не оскорбляйтесь, Ваше Сиятельство, что Вы лишаетесь случая быть начальником отряда, тогда как предлежит ему назначение блистательное. Конечно, это не сделает Вам удовольствие, но случай сей не последний, и Вы, без сомнения, успеете показать, сколько давнее пребывание Ваше здесь, столько знание неприятеля и здешних народов может принести пользы службе государя. Употребите теперь деятельность Вашу и помогайте всеми силами новому начальнику, который по незнанию свойств здешних народов будет иметь нужду в Вашей опытности. Обстоятельства таковы, что мы все должны действовать великодушно…»
Последнее слово поразило Валериана. Он перечитал предложение еще раз и убедился, что ошибся при беглом взгляде. Единодушно, действовать единодушно, вот как заключал пассаж свой Ермолов. Слова великодушие не было в его обыденном словаре.
Валериан сложил лист, тщательно разгладил его по сгибам и положил на импровизированный стол, накрыв им письмо от Софьи.
– Я благодарен Алексею Петровичу за все теплые слова, что мне довелось от него услышать, – начал он медленно, оглядываясь через плечо на Новицкого. – И в другом положении я, разумеется, принял бы над собой команду любого… не только…
Он запнулся, не решаясь произнести слова, что подкатывались ему на язык, и, не желая затруднять себя, подыскивая более подходящие к месту эпитеты. Разозлился на самого же себя и хлопнул тяжелой ладонью по листкам, над которыми трудился до прихода Новицкого.
– Вот, сочиняю рапорт об отставке своей по причине единственной – нездоровья. Я болен, Новицкий! Да, можешь вообразить – болен! Так и передай Алексею Петровичу: генерал-майор Мадатов – болен! У меня кровохарканье! Грудной кашель и боли в сердце! Пожалуйте убедиться, господин надворный советник!
Он выхватил из рукава черкески носовой платок тонкой дорогой ткани, подаренный, видимо, Софьей Александровной. Скомканная материя на треть была окрашена красным от кровавых поплёвков. Валериан развернул ее и потряс перед едва не отпрянувшим Новицким.
– Алексей Петрович выдернул меня, почитай, из госпиталя. Некому больше было прикрыть Тифлис, кроме больного Мадатова. И он сделал то, о чем его просили, что от него ждали. С тремя тысячами человек я разгромил Мамед-мирзу, я не пустил его в Грузию! А теперь я возвращаюсь на воды. Прибыл новый начальник, молодой и здоровый. И он лучше меня знает, как справиться с Аббасом-Мирзой и его многотысячным войском.
– Он ваш ровесник, ваше сиятельство, – тихо заметил Сергей, воспользовавшись первой же паузой. – И он никогда не был за Кавказским хребтом.
– О возрасте судят не по годам, а по амбициям, – выпалил Мадатов фразу, которой Новицкий никак не мог от него ожидать. – И уж коли государь прислал его сюда командовать нашим корпусом, стало быть, уверен, что генерал Паскевич управится с персидской армией лучше кого другого.
– Командующий не может драться один. Ему нужны помощники: генералы, офицеры, солдаты.
Валериан смерил Новицкого взглядом, хотел было сказать нечто резкое и обидное, но сдержался, вздохнул и отвернулся к оконцу. Он представил вдруг на мгновение, как славно было бы утром в Горячеводске поскакать втроем в степь: он, Василий и Софья в амазонке на смирной выезженной лошади, что он сам подготовил ей, приучил ходить под дамским седлом.
– Я устал, Новицкий, – произнес он глухо, едва размыкая губы. – Я служу уже двадцать семь лет. Я дрался с турками, французами, поляками, саксонцами, с каждым из народов, что пришел в Россию вместе с Наполеоном. Я усмирял табасаранцев, аварцев, казикумукцев. Я громил разбойничьи шайки в Карабахском ханстве, Шекинском, Ширванском. Да, я был ранен только единожды, под Лейпцигом, где чуть не лишился руки. И я теперь остановил персов в двух-трех днях от Тифлиса, заставил их снять осаду с Шушинской крепости и спуститься всей армией на равнину. И что же…
Он сделал паузу, и Сергей было решил, что Мадатов снова начнет говорить о новом командующем и о своих обидах. Но тот лишь приподнял плечи и продолжил размеренным, бесцветным голосом:
– Я совершил все, что мог, Новицкий. Все, что был должен. Теперь войско остается в надежных руках, а я возвращаюсь лечиться. Еще раз прошу – передай Алексею Петровичу мою благодарность и мои сожаления.
– Алексей Петрович… – начал было Сергей.
– Что такое? – обернулся к нему Мадатов.
Новицкий собрался с духом и мыслями.
– Алексей Петрович просил передать вам, ваше сиятельство, кое-что на словах. То, что он никак не мог доверить бумаге.
– Но решился доверить тебе, – хмыкнул Мадатов. – Однако продолжай, Новицкий, что же умолк?
– Знаю, князь, что поступили с вами несправедливо: обошли и чином, и назначением, – начал Сергей тихо и медленно, но постепенно голос его окреп, зазвучал объемно и сильно, словно не он сам произносил придуманные слова, а из самых глубин его существа взревел вдруг грозный и свирепый Ярмул-паша, Алексей Петрович Ермолов. – Но что же делать, ваше сиятельство, если в мире этом достигают одни дураки и мерзавцы. Скорблю и я вместе с вами. Да будь на то одна моя личная воля, завтра уже бросил бы все и уехал к себе в Тверскую. Пусть владеют всем и командуют, пусть на деле покажут – чего стоят их эполеты! Все бы бросил, обо всем бы забыл без сожаления, ровно как ваше сиятельство, понимаю, и вы… Но армия, князь!.. Грузия! Россия! Солдаты!..
Голос Новицкого задрожал и треснул, словно он взял слишком высокую ноту. Он замолчал было, но вдруг, по наитию, добавил тихо и укоризненно:
– Ведь стыдно будет, ваше сиятельство! Стыдно!
Валериан вздрогнул. Неожиданно вместо выжженных солнцем степей, тесных ущелий, снеговых гор ему привиделась холодная вымокшая болотистая равнина за Минском[39]. И щелястый навес над длинным дощатым столом, уставленным кружками да бутылками. И офицеры Александрийского гусарского, поминающие храброго Кульнева, и генерал Ланской, еще живой, еще в силе и славе, произносит последний тост, вколачивая в хмельные и бесшабашные головы то самое слово, что напомнил ему нынче Новицкий, тогда еще не надворный советник, а гусарский штабс-ротмистр.
Валериан сцепил руки, и мышцы на плечах его вздулись, едва не разрывая старое обветшавшее полотно.
– Уйди, Новицкий, уйди! – выдавил он, боясь обернуться.
Но вместе с угрозой Сергею почудилось в голосе князя чувство, которое он меньше всего ожидал обнаружить в генерале Мадатове. Он поклонился безмолвно, глядя в широкую мощную твердую спину, поворотился и вышел…
Паскевич собрал военный совет вечером того же дня. В большой шатровой палатке командующего собрались его помощники, командиры полков, отдельных батальонов, все, кто мог и имел право высказывать суждение о ближайшем будущем русской армии в Закавказье. Среди прочих Валериан увидел Новицкого. Господин надворный советник сидел в торце импровизированного стола, в дальнем его конце, как раз напротив командующего. Сидящие уже на лавке потеснились было, освобождая генералу Мадатову место слева от Паскевича, но Валериан помотал головой и, перешагнув доску, опустился в самой середине, рядом с Шабельским. Вельяминов, заметил он с неудовольствием, сидел по правую руку от генерал-адъютанта.
Валериан появился последним, но Паскевич не стал ему выговаривать. После дневного взрыва Иван Федорович, словно выпустив пары, распиравшие его тело, высох, посуровел, сделался даже с виду сдержанней. Другие мысли занимали его. Он подождал, пока Валериан опустится, кивнул ему коротко и придвинул к себе бумажки, на которых была набросана первая речь в роли командующего здешнего войска.
– Господа! – начал он звучным, хорошо поставленным и отработанным генеральским баритоном. – Я собрал вас на совет, чтобы окончательно решить наши шаги в самом ближайшем будущем. Главный вопрос я бы поставил так: давать ли нам решительное сражение персам. Нам достоверно известно…
Паскевич взял паузу и взглянул через весь стол на Новицкого, едва освещенного стоящим перед ним шандалом и больше походившего на собственную же тень. Сергей Александрович приподнялся и коротко поклонился, что должно было означать подтверждение.
– Нам достоверно известно, – повторил командующий, – что Аббас-Мирза отвел армию свою от Шуши и спускается к Елизаветполю. То есть навстречу нам. Движется медленно, осторожно, но завтра окажется в пределах артиллерийского выстрела. С ним до шестидесяти тысяч войска. Восемнадцать батальонов…
Он пригнулся к бумагам и поднес ближе свечку, чтобы разобрать неизвестное слово.
– Восемнадцать батальонов сарбазов, то есть пехоты. Два батальона джамбазов, то есть гвардии. До тридцати тысяч конницы. Двадцать пять полевых орудий плюс полк горной артиллерии – фальконеты, укрепленные на верблюдах… Наши силы…
Паскевич поднял голову и обвел глазами присутствующих генералов, полковников, майоров, что и представляли вживую ту самую русскую силу.
– Ширванский полк полковника Грекова…
Коренастый усатый Греков, сидевший слева от Валериана, неуклюже привстал, повертел головой по сторонам и нырнул обратно на лавку.
– Грузинский полк полковника графа Симонича… Херсонский полк полковника Ромашина… Сорок первый егерский полковника Попова… Батальон карабинерского полка под командованием майора Клюки фон Клюгенау… Нижегородский драгунский полк генерала Шабельского… Два казачьих полка майоров Костина и Иловайского… Грузинская и армянская милиции… Четыре артиллерийских дивизиона…
Командующий выпрямился и медленно обвел глазами присутствующих, призывая их быть предельно внимательными к следующим его словам. Убедившись, что все лица повернуты в его сторону, Паскевич подытожил сказанное, отстукивая мерный ритм костяшками пальцев.
– Итого мы имеем в общем – до восьми тысяч пехоты… Полторы тысячи всадников… двадцать два орудия… То есть чуть больше десяти тысяч… Против шестидесяти у Аббаса-Мирзы…
Валериан подумал, что соотношение сил разве что несколько хуже того, что было у него неделю назад при Шамхоре. Десять тысяч – кулак увесистый, и с ним можно, пожалуй, драться и против более сильной армии. Но мысль свою развить не успел, поскольку командующий продолжил:
– В настоящих условиях, учитывая соотношение сил, неудивительно, что Аббас-Мирза ищет сражения. Он рассчитывает в генеральной схватке решить задачу своей кампании в целом: раздавить нашу армию и расчистить путь на Тифлис. Тем самым лишив нас плодов Шамхорской победы.
Он со значением поглядел на Валериана, и тот, как и другие, коротко, на мгновение, но согнул шею.
– Считаю, что нам нет смысла идти навстречу желаниям неприятеля. Напротив, по моему убеждению, следует оставить нынешний лагерь, отвести армию к Елизаветполю, занять и укрепить крепость. Там мы сможем остановить персов и продержать их в бездействии до подхода подкреплений. Защищался же полковник Реут более месяца… Впрочем, я жду от каждого из вас, господа, четкого обоснованного суждения: давать ли генеральное сражение персам, удержать ли их перед крепостью, а может быть, отыщется третий вариант действий, пока не видимый нами. Слушаю вас, господа. Начинайте. Кто первый?
Валериан подумал, что по всем правилам военных советов первым высказывается самый младший по чину и должности. В противном случае майорам и полковникам трудно будет противоречить генерал-лейтенантам. Сейчас Паскевич прямо пошел против установившегося обычая, дал понять, что он против сражения. И пожалуй, остальные примкнут к мнению командующего, объявив свое согласие хотя бы безмолвием.
Клюки разглядывал щербатый край доски, служившей столешницей, граф Симонич уже преданно заглядывал в глаза новому командующему, драгун Шабельский недовольно сопел у плеча, но никак не собирался обнародовать свою точку зрения. Валериан встретился взглядом с Ромашиным, тот тяжко вздохнул и опустил голову.
«Стыдно, гусары, стыдно!» – услышал вдруг Валериан укоризненный голос и понял, что слышит себя самого. Молодого полковника, призывающего в атаку Александрийских гусар. «Бог мой, – подумал он, – как давно это было! Полтора десятилетия просвистело над головой. Чего я тогда опасался? Смерти? Никогда не думал о ней всерьез? Гнева начальства? А что Чичагов или Ланжерон поскакали бы вместо меня на кирасир полковника Дюбуа? Что же грозит мне теперь? Еще раз задержат чин? Снимут с должности? Отправят в отставку? Велика ли потеря по сравнению с армией. Эполеты против жизни солдат, офицеров… И не только своих же товарищей… Стыдно, генерал-майор князь Мадатов, стыдно!..»
И он начал говорить прежде, чем осознал, что голос, поднявшийся над столом, уже его собственный.
– Я согласен с тем, что риск генерального сражения велик. Особенно учитывая соотношение сил. Но еще опаснее нам уклоняться от боя. Да, заперевшись в крепости, захватив город, мы перекроем персам главную дорогу в Грузию. Но будет ли Аббас долго сидеть под стенами? Он уже ошибся с Шушей и не повторит собственную оплошность. Немало есть в окрестностях троп и через Карабах, и через Кахетию, немало найдется в здешних местах людей, что согласны послужить персам хотя бы проводниками. Аббас обойдет нас и двинется на Тифлис, а мы останемся здесь стреноженные, как кони на пастбище. И кто переймет персов далее? Давыдов? У него отряд раз в пять меньше нашего, и он из последних сил удерживает Эриванского хана.
Валериан остановился перевести дыхание и взглянул на Паскевича. Тот сидел, набычившись, опустив голову, упираясь кулаками в разбросанные листы. «Он уже все решил, – мелькнула мысль. – По крайней мере со мной. Ну да и…» Он загремел снова.
– Но предположим, что Аббас все же окажется столь туп, что станет перед городом неподвижно. Любое промедление сейчас играет на персов. Провинции еще выжидают. Они услышали о Шамхоре и хотят посмотреть – чья же возьмет. Но Суркай уже снова движется в Казикумух. Я прав?
Валериан посмотрел на Новицкого, и тот согласно кивнул.
– Три ночи назад прошел Кубу и начал подниматься к Хозреку.
– Вот-вот, а дальше Авария, которая тоже мечтает отомстить нам за поражение под Лавашами[40]. Если заполыхает Кавказ, мы все сгорим здесь, рядом с Курой. И еще одно – Реут в Шуше мог рассчитывать на помощь, что придет из Тифлиса. Нам ожидать подкреплений неоткуда. Мы – все, что есть в России здесь и сейчас. Я уверен, что мы должны принимать бой. И более того – атаковать сами.
Он оборвал сам себя на высокой ноте и выпрямил спину.
– Но наши силы, ваше сиятельство, – начал несколько робко Симонич; полковник уже вполне переметнулся на сторону генерала Паскевича и старался проявить свое усердие на глазах будущего командующего корпусом. – Какое превосходство у персов. Да они задавят нас одной массой.
– У Котляревского при Асландузе соотношение казалось еще худшим, – отрезал Валериан. – Однако же он опрокинул того же Аббаса-Мирзу. Да и мы с вами, граф, при Шамхоре тоже не считали противника.
Паскевич поднял голову и пристально посмотрел на Мадатова. И взгляд его в полумраке шатра, едва освещенного несколькими свечами, показался Валериану столь же темным, сколь и его собственное будущее.
– Итак, мы поняли, что генерал Мадатов предлагает решительное сражение. Какие еще существуют точки зрения, господа?
Алексей Александрович Вельяминов понял еще в Тифлисе, что время Ермолова на Кавказе прошло и более не вернется. С новым государем судьба империи поворачивалась, увлекая за собой каждого человека. Во всяком случае тех, кто оказывался в поле внимания государства. С новой эпохой приходили новые люди, вытесняя на обочину тех, кто не был готов следовать им. С точки зрения карьеры, он это хорошо понимал, куда выгодней было принять сторону пришлого генерала. Его успехи, его удача потащат за собой все окружение; а в случае провала один он, генерал Паскевич, окажется виноватым перед Санкт-Петербургом.
Но генерал Вельяминов четверть века отдал русской армии, и военное дело стало не просто его профессией, а частью его существа. Он уперся кулаками в стол, как совсем недавно Паскевич, и заговорил мрачно, тяжело, глядя поверх голов туда, где в полутора десятках верст грузно ворочалась персидская армия.
– Я полностью согласен с генералом Мадатовым. К сказанному могу добавить только, что, заперевшись в городе, мы лишаем себя одного из наших важнейших тактических преимуществ – энергии штыкового удара.
Вельяминов замолчал. Паскевич, уже не спрашивая, повел взгляд вокруг стола, и все собравшиеся в шатре кивали, показывая, что солидарны с генералами Мадатовым и Вельяминовым. Все – Шабельский, Греков, Попов, Ромашин, Новицкий, казаки, артиллеристы, все офицеры Ермоловской выучки. Даже Симонич, покрутив головой, возвел глаза к полотняной крыше и вздохнул, показывая, что и для него дело превыше всего.
– Решено!
Паскевич хлопнул ладонью по столу и поднялся.
– Завтра мы дадим персам сражение, которого они так добиваются. Господа Вельяминов и Мадатов, через час жду от вас диспозицию. Остальные свободны. Готовьте войска.
Офицеры также вскочили и заторопились к выходу. Вельяминов пробился к Валериану и положил тому руку на плечо у эполета.
– Рано радуетесь, князь. Подождите. Вот поколотят нас завтра, достанется на орехи именно вам и мне.
Валериан вывернул шею и свирепо усмехнулся в лицо начальнику штаба Кавказского корпуса.
– А вот это завтра мы и узнаем. Командиры полков, – повысил он голос, – прикажите выдать людям двойную порцию водки!
– И трубите отбой! – добавил столь же решительно Вельяминов. – Всем отдыхать. Подъем в четыре. Надо успеть подойти туда затемно…
Глава шестая
Персы появились, когда солнце уже довольно поднялось над горизонтом и палило почти в полную свою силу. Показались, как всегда бывает, мгновенно и неожиданно, хотя тысячи пар глаз, десятки подзорных труб выглядывали их с мучительным напряжением. Еще секунду назад равнина была чиста, и вдруг она зачернела, покрылась массой людей, животных и орудий. И вся эта масса быстро расходилась по сторонам, захватывая пространство вправо и влево, насколько хватало взгляда, и так же споро приближалась к русскому войску.
Через четверть часа Валериан уже наверняка мог оценить и планы, и намерения Аббаса-Мирзы. Командующий армией неприятеля решил в полной мере использовать свое превосходство в силе. Он выставил в одну линию восемнадцать батальонов сарбазов, «головой играющих» пехотинцев, растянув их, как только мог. В разрывах стояли орудия группами по три и четыре ствола. Всего в первой линии Мадатов насчитал двадцать пять пушек.
Кавалерию Валериан оценил тысяч в тридцать. Конники вились и клубились, поднимая тучи красноватой пыли; шах-заде разделил их на две примерно равные части и поставил прикрывать оба фланга. Во второй линии персов шли части горной артиллерии – сотни верблюдов, несших на специальных седлах бронзовые фальконеты, орудия небольшие, но способные выбрасывать десятки свинцовых пуль. Где-то вдали оставался резерв Аббаса-Мирзы. Валериан предполагал, что тот непременно удержит при себе два батальона гвардии джамбазов – «душой играющих», и сколько там у него было эскадронов кавалерии, обученной европейскими инструкторами. По тому, что он видел год назад у Худоперинского моста, Мадатов заключил, что регулярной конницы у персов никак не больше четырех тысяч.
Намерения же наследника персидского трона были просты, но основательны. Насиб-султанэ предполагал воспользоваться своим шестикратным перевесом в численности, охватить русских с флангов и раздавить их, оказавшихся в кольце, навалившись всей массой своего войска. Валериан подумал, что, будь он на месте Аббаса-Мирзы, тоже, наверное, не стал бы искать сложных путей к победе, выбрав самый простой и короткий. Но никогда бы он не стал так рисковать, растягивая первую линию, истончая ее почти до прозрачности. Слабый центр у неприятеля – вот что сразу заметил Валериан. «И не похоже, – заметил он себе самому, – чтобы особенно были усилены фланги».
Паскевич же, посоветовавшись с ним и Вельяминовым, напротив поставил русский отряд компактно, словно бы сжав одним кулаком. В первой линии стали полки Ширванский, Грузинский, Херсонский. В центре между ними выставила жерла артиллерийская батарея; двенадцать орудий, также готовых обрушить картечь, гранаты и ядра едва ли не в одну точку. Во вторую линию стали егеря и карабинеры. Два каре, по две роты в каждом, выдвинулись на флангах уступами, готовые принять на себя удар вражеской кавалерии. Нижегородский драгунский полк оказался в третьей линии, а батальон гренадеров и еще шесть орудий русский командующий оставил в резерве.
Десять тысяч против шестидесяти. Восемнадцать орудий против двадцати пяти полевых, и кто считал, сколько там верблюдов ревело и бесновалось, вырываясь из рук прислуги. Превосходство персов в коннице было просто ошеломляющим: оставив в стороне резерв – драгун Шабельского, казаки и милиция, которую Мадатов привел из Тифлиса, взятые вместе, едва ли насчитывали одиннадцать сотен. И эту малость пришлось еще делить надвое и ставить по флангам.
На одно короткое мгновение Валериан ощутил вдруг ледяной комок где-то чуть выше пупка и чуть было не пожалел, что так категорично и резко высказался вчера на совете. Но тут же решительно тряхнул головой, прогоняя ненужную мысль. «Яйца разбиты, пора жарить омлет», – сказал он себе и вдруг почувствовал, как пересохший рот наполняется слюной при одном воспоминании о еде; о блюде, к которому пристрастился, когда стоял вместе с Воронцовым в Париже.
Паскевич отошел в сторону от штабных офицеров и, вдавив окуляр подзорной трубы в правую глазницу, водил зрительным прибором по всему фронту надвигающейся армии Аббаса-Мирзы. Валериан недоумевал – что же командующий надеется высмотреть в боевых порядках персов, за их линиями. Разве только рассчитывает встретиться взглядом с иранским принцем, прочитать его мысли. Но о чем сейчас было расспрашивать и своих, и чужих? Единственное возвышение на поле заняли русские. Вельяминов поднял войска еще затемно, торопясь успеть к месту будущего сражения раньше противника. Но теперь и пехота могла атаковать сверху вниз, набирая дополнительную энергию удара, и артиллерии легче становилось бросать снаряды через колонны своих батальонов. А дальше простиралась равнина почти совершенно плоская. Неглубокие овраги, в которых не скрыть движение даже пехотной роты; редкие невысокие холмы, за которыми вряд ли укроется даже эскадрон кавалерии. На одном из таких пригорков и стоял шатер насиб-султанэ. Валериан вдруг подумал – где же сейчас потрепанный им при Шамхоре Мамед-мирза? Стоит рядом с отцом в толпе разряженных вельмож или же продавливает своей тушей спину бедной лошади, готовясь рубить побежавших русских?..
«Не получишь такого удовольствия, щенок!» – пообещал врагу Валериан и пошел по направлению к командующему. Не дойдя пяти саженей до застывшей спины генерал-адъютанта, повернул и, так же сцепив сзади ладони, направился к штабу. Опять-таки не дойдя, остановился и посмотрел на Паскевича.
Между тем фронт персов замер на расстоянии чуть больше версты. Масса чужой пехоты, заполонившая всю равнину, в самом деле могла смутить непривычного человека. «А как бы вы себя чувствовали на месте Паскевича?» – спросил себя Валериан почему-то голосом Сергея Новицкого и ответил себе самому, смешивая сожаление и злость, что на месте Паскевича ему уже не бывать.
Он снова оказался рядом со штабом. Тишина упала на поле такая, что слышно было лишь, как звенят в траве энергичные кузнечики, не утомившиеся пока жарой. Вельяминов поймал взгляд Валериана и едва заметно пожал плечами. Мадатов развернулся на каблуках и энергично пошел к Паскевичу.
– Ваше превосходительство! – сказал он, глядя прямо в скошенный затылок, прикрытый надвинутой треуголкой. – Не прикажете ли начать? А то ведь эта золотая сволочь нас шапками закидает.
Паскевич обернулся к нему, опустив руку с трубой вдоль бедра. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, и за эти секунды Валериан успел узнать все о будущей своей судьбе, во всяком случае, в том, что касалось военной карьеры. Но именно сейчас личная жизнь беспокоила его меньше всего.
Командующий хотел сказать что-то резкое, но сдержался, прикусил пухлую губу, обнажив самые кончики белых, крепких зубов, и замер. А потом, указав на противника повелительным жестом, произнес ясным и твердым голосом:
– Начинайте, князь! С Богом!..
Валериан, придерживая шашку, пустился широким шагом, почти бегом, к вороному, которого держал под уздцы Василий. Увидев торопящегося к нему хозяина, жеребец вскинул крупную голову и заржал, совершенно довольный. Валериан, не останавливаясь, замахал Вельяминову, и тот так же поспешил подняться в седло.
Уже верхами оба генерала съехались и еще раз наскоро проговорили обязанности и ответственность. Вельяминов занимается артиллерией, третьей линией и резервом; Мадатов отправляется в первую линию и ведет за собой вторую. Подробно они расписали диспозицию еще до полуночи, и, по мнению Валериана, долго толковать тут было и не о чем. Мадатов готовился было уже отъехать, как вдруг, повинуясь вспыхнувшему неожиданно чувству, обернулся и крепко стиснул ладонь Вельяминова, которую тот в тот же момент выкинул ему навстречу. Они скрестили руки, словно вдруг решив помериться силой, и, едва не уперевшись лбами, несколько долгих мгновений глядели глаза в глаза. Подчинившись тому же внутреннему импульсу, Валериан в самый последний момент, перед тем как ослабить хватку, подмигнул Вельяминову, будто уговаривая такого же, как он сам, мальчишку пуститься на очередную проказу. И ему показалось, что по сухому тонкогубому лицу генерала-плижера, рыжего генерала вдруг промелькнула тень искренней, сердечной улыбки.
Расстояние в сотню саженей вороной одолел в десяток секунд. Персидская армия остановилась к этому времени, закрыв совершенно горизонт, и, протянувшись через всю долину, соединила отроги Карабахских гор и предгорья Кавказа, переметнувшиеся за Куру. Огромная дуга воинства Аббаса-Мирзы готовилась охватить крошечный русский отряд с обоих флангов, намереваясь сокрушить нас, смять, уничтожить.
Мадатов остановил жеребца боком к передовой линии и легко, словно в юности, подскочил кверху, став на седло обеими ступнями прочно. В первой линии стояли три колонны: херсонцы полковника Ромашина, ширванцы полковника Грекова и грузинцы графа Симонича. К ним и обращался Валериан, подымая голос над полем будущего сражения:
– Солдаты! Друзья мои!..
Он вдруг вспомнил, как уговаривал александрийских гусар под Борисовым, как боялся, что не найдет верные слова, что не пойдут за ним эскадроны, и – сам поразился своей бесшабашной уверенности в эту секунду.
– Солдаты! – повторил он, объединяя в одном звании и низших чинов, и унтеров, и обер-, и штаб-офицеров. – Верные мои товарищи! Перед нами враг!
Он, не глядя, кинул руку назад, показывая на роившиеся у него за спиной тучи сарбазов.
– Мощный, сильный, жестокий и наглый враг! Но мы уверены, что победим! Уверены, потому что нам есть что и кого защищать! Мы не одни и деремся не только за свои жизни. За нами Грузия!.. За нами Кавказ!.. За нами Россия!..
Он помедлил, пытаясь припомнить, не упустил ли чего-либо в спешке. Решил, что прокричал уже все нужные нынче слова, и добавил только, уже не так форсируя голос:
– Командиры полков! Прикажите людям снять ранцы!
Прыгнул на землю, уверенно спружинив коленями. Вороного подхватил Василий и повел в сторону.
Солдаты полков первой линии шеренга за шеренгой отбегали в сторону, стаскивали с плеч лямки заплечных мешков и складывали заспинный груз в кучу. Живые вернутся победителями и заберут оставленное имущество, а мертвым и побежденным лишняя ноша уже не нужна.
Валериан прошел к херсонцам, поздоровался за руку с Ромашиным и стал с ним рядом, обнажив шашку. Все приказы уже были отданы, все слова сказаны, оставалось лишь действовать. По прошлому опыту дружинника в отряде деда Джимшида, командира роты в батальоне Буткова, командира эскадрона в полку Ланского он знал, что никакие убеждения, награды, розги, шпицрутены, даже пуля не понуждают так солдата идти вперед, как пример командира, рвущегося в самую гущу боя. Он взглянул на тьмы, тьмы и тьмы персов, заполонивших равнину, и ему показалось, что темная линия войска Аббаса-Мирзы зашевелилась и продвинулась несколько ближе.
– Ваше превосходительство! – услышал он справа хрипловатый густой голос. – Прощеньица просим, но интересуюсь спросить: как же так – вы и в пехоте?!
Валериан обернулся, раздосадованный и тем, что оторвали его от мыслей, и тем, что низший чин осмелился заговорить с ним во фронте. Но, едва увидев, кто его окликнул, расслабился и усмехнулся. Таким солдатам он прощал все, ну – практически все. Он помнил этого сурового кряжистого унтера еще по сражению под Хозреком и сам бы повесил ему на грудь крестик солдатского Георгия, если бы тот уже не был отмечен этой наградой.
– А я, Орлов, – объяснил унтер-офицеру генерал-майор князь Мадатов, – вступил в службу подпрапорщиком в гренадерском полку. Гвардии Преображенском. Слыхал? Да потом еще егерем верстами у Дуная кружил. Вот, видишь, и пригодилась наука.
Он отвернулся, пригляделся к лохматой туче персидского войска, что грозно нависала над небольшим русским отрядом, и хотя медленно, но неуклонно продвигалась вперед. Встряхнулся и бросил Ромашину:
– Начинайте, полковник!
Ромашин вытянулся, приподнимаясь на носках, взмахнул шашкой и закричал, запел на высокой ноте, раскатываясь на гласной:
– По-о-олк!
– По-о-олк! – вторил ему граф Симонич.
– По-о-олк! – отозвался подполковник Греков.
– Марш! – слитно ударили командиры полков Херсонского, Ширванского, Грузинского.
И тут же резким стаккато пробежались по натянутой коже барабанные палочки. Три полковые колонны зашевелились и, сдвинувшись с места волевым усилием командиров, медленно покатились вперед.
Генерал Вельяминов стоял верхом у батареи и руководил огнем артиллерий так же спокойно, как если бы сидел в деревянном кресле за столом в штабе корпуса. Двенадцать пушек отряда, разделившись на три дивизиона, били по очереди через головы штурмовых колонн первой линии. Вельяминов знал, что после каждого залпа в линии вражеской армии появляются страшные бреши. Но пока пороховой дым рассеивался, неприятельские раны успевали затянуться, и Алексей Александрович видел вдали все ту же стену, составленную из человеческих тел, сурово щетинившуюся отточенной сталью.
Артиллерия Аббаса-Мирзы тоже начала посылать гранаты и ядра. Одно ударилось в землю у ног кобылы Вельяминова и запрыгало дальше чугунным тяжелым мячиком. Лошадь нервно перебрала ногами, и всадник ободряюще похлопал ее по шее. Уже и фальконеты верблюжьей артиллерии принялись осыпать пулями наступающих русских. Животные ревели, стоя на коленях, вытягивали шеи, стараясь отвернуться от дымящих и гремящих чудовищ, притороченных к их горбам.
Персидская граната лопнула, не долетев, подняв с места удара ошметки земли и мелкие камушки, сыпанувшие по наступающим шеренгам. И тут же вдогон снаряду уже свинцовыми прутьями хлестнул по русским рой пулек, посланных фальконетом горной артиллерии. Закричали люди, падая на твердую землю; барабаны на миг сбились с ритма, но тут же выправились и затрещали угрюмо, выводя угрожающие слова:
– Бу-де-те – у-би-ты! Бу-де-те – у-би-ты!..
«Кому они каркают, сучьи дети? – подумал Валериан. – Неужели своим же?»
Он измерил взглядом дистанцию до персов, накатывавшихся навстречу, и пошел быстрее, подчиняясь знакомому импульсу боя, уже поднимавшемуся к сердцу. Колонны потянулись за ним, и барабаны радостно зарокотали в новом темпе.
– Бу-де-те – у-би-ты! Бу-де-те – у-би-ты!.. Все – ос-та-не-те-сь здесь!..
Годы службы приучили Валериана не пригибаться при выстрелах, не кланяться свистящим пулям. При новом залпе чужой артиллерии он только приподнял чуть плечи и упрямо наклонил голову, словно набычился. А идущий справа ражий унтер Орлов вдруг охнул и мешком осел вниз. Валериан поймал движение боковым зрением и, задержавшись на мгновение, нагнулся и выхватил ружье из ладоней, раскрывшихся словно бы нехотя. Бросил шашку в ножны и вскинул ружье, оперев ложе солдатского оружия на генеральские эполеты.
– Бу-де-те – у-би-ты! Бу-де-те – у-би-ты! Все ос-та-не-тесь здесь!..
Вельяминов наблюдал, как удаляются от него колонны, и прикинул в уме, что через два залпа придется переносить огонь дальше. Он подумал, что, может быть, стоит отдать приказ немедля и потревожить персидскую легкую артиллерию, что безостановочно била по русским колоннам, осыпая их смертоносным градом.
Шестьдесят тысяч против двенадцати? Что толку лупить ядрами прямо по фронту, когда образовавшиеся бреши тут же заполняются ступившими вперед из задней шеренги. Он вдруг подумал, что с тем же успехом его двенадцатифунтовые могли бы бить по валам, накатывающимся на берег из моря. На мгновение вода расступается перед падающим ядром и тут же смыкается, не оставляя никакого следа человеческого усилия. «Прилив времени, – подумал Алексей Александрович, усмехнувшись. – Ни Клаузевиц, ни Жомини никогда не имели дело со временем. Враг страшный, против которого бессильны увертки тактики и стратегии. Можно только держаться и надеяться, что когда-нибудь череда валов вдруг отхлынет и можно будет как-то занять освободившееся место…»
Треуголка слетела у него с головы, будто бы какой-то невежа сорвал ее в приступе неуместного мальчишеского веселья. Оказавшийся рядом артиллерийский поручик подхватил шляпу с земли, осторожно стряхнул с нее пыль обшлагом мундира, впрочем, тоже уже закопченного, и подал Вельяминову. Тот расправил убор, покосившись на пулевое отверстие, зиявшее под верхним углом, надел и, еще расправляя, вдруг закричал в полный голос. Огромная масса конницы выдвигалась из-за правого рога персидской пехоты. Намерения ее были очевидны: пройти вдоль горных уступов и, развернувшись, навалиться массой на левый наш фланг.
Офицеры подхватили команду, прислуга забегала, занося лафеты, разворачивая жерла орудий…
– Бу-де-те – у-би-ты! Бу-де-те – у-би-ты!.. – продолжали угрожать барабаны. – Все – ос-та-не-тесь здесь!..
Полковник Ромашин вдруг схватился за лицо и закричал отчаянно высоким голосом. Тыльная сторона ладоней мигом окрасилась кровью. Офицер постоял две-три секунды, раскачиваясь, а потом рухнул со всего роста, гулко ударив своим большим телом об убитую землю. Солдаты замялись, не решаясь переступить тело своего командира.
– Сомкнись! – гаркнул Валериан, с трудом задавив желание броситься к человеку, с которым столько верст прошел по военным тропам Кавказа.
Молодой круглолицый солдат, ставший на место Орлова, подался к генералу, прижимаясь будто бы жеребенок-стригунок к опытному вожаку табуна.
– Бу-де-те – у-би-ты! Бу-де-те – у-би-ты!.. – частили барабанные палочки.
И персы уже приближались неудержимо, все убыстряя шаг. Валериан уже явственно видел их лица под высокими бараньими шапками, мрачные усатые физиономии, распяленные в воинственном кличе.
– На руку! – скомандовал Валериан и сам четко исполнил приемы, затверженные еще четверть века назад.
Все три атакующие колонны словно встопорщились стальной щетиной
– Бу-де-те – у-би-ты! Бу-де-те – у-би-ты!.. Все – ос-та-не-тесь здесь!.. – рокотали барабаны совсем уже нестерпимо.
До неприятеля оставалось чуть более десяти саженей.
– Вперед! – загремел Валериан, чувствуя, что голос его перекрывает все остальные звуки. – Ура-а!!!
И сам побежал первым, ощущая с радостью, как послушно потянулось за ним тело колонны. Сбил в сторону штык перса, летевший ему в лицо, ударил сам, почувствовал сопротивление человеческой плоти, дернул оружие на себя, высвободил, прыгнул вперед и ударил снова, уже совершенно охваченный хорошо знакомым ритмом сражения…
Абдул-бек ехал впереди своих нукеров бок о бок с Мамед-мирзой. С того дня, как он выручил шахского внука, увез от наседающих казаков отряда Мадатова, тот не отпускал табасаранца, удерживая при себе, словно амулет против возможных несчастий.
Аббас-Мирза простил сыну поражение при Шамхоре. Опытный полководец знал, как быстро меняется военное счастье, и не видел никакого резона наказывать своего наследника слишком жестоко. Он видел, что тот и так переживает и позор своего бегства, и мученическую смерть наставника – Ахмед-хана-сардаря. Хотя когда Мамед-мирза показал на Абдул-бека и воскликнул: «Вот мой спаситель!», на один краткий миг наследник персидского трона заколебался. «Стоило ли спасать эту колышащуюся груду мяса? – мелькнуло у него в голове. – Может быть, лучше бросить его, как поживу, ненасытным врагам? И тогда Аллах, смилостивившись, даровал бы мне победу в обмен на такую жертву…»
Но тут же отогнал эту мысль как недостойную.
Зато Аббас-Мирза обратил гнев свой против Назар-Али-хана, коменданта Гянджи, отступившего перед Мадатовым. Его объявили ничтожным трусом, нарядили в женское платье, помазали седую бороду свернувшимся молоком, посадили на осла лицом к хвосту и провезли перед фронтом армии, выстроившейся для сражения. Об этом несчастьи храброго, опытного командира и беседовали дагестанец с персом, увлекая за собой многотысячную кавалерию правого фланга.
В нескольких сотнях саженей от них три плотные колонны русских упрямо и твердо впечатывали шаги в утоптанную землю долины. Они двигались в обратном направлении, нацелившись в центр гигантского полумесяца, в самую середину фронта Аббаса-Мирзы. Ружья плотно лежали на широких плечах солдат, и две с половиной тысячи штыков колыхались в воздухе, словно лапы сказочного чудовища, щетинящегося перед броском. То и дело в рядах атакующих колонн взвивалось темно-серое облачко: падало ядро или разрывалась граната. Абдул-бек знал, что в это мгновение страшно кричат люди, изуродованные горячим металлом, и каждый раз довольно щурился и усмехался, представляя мучения своего врага.
– Жалею об одном, – сказал вдруг Мамед-мирза. – Что с тобой, славный Абдул-бек, не пришли воины Дагестана.
– Я привел с собой хороших людей, – осторожно ответил табасаранец. – Искусных, храбрых и стойких.
– Но если бы их были не сотни, а тысячи, как ты обещал моему отцу, сейчас бы за нами скакали не три тысячи конных, а в два, может быть, в три раза больше.
Абдул-бек отклонился в сторону и сплюнул на землю.
– Я обещал Аббасу-Мирзе привести в его войско мужчин. Тогда я не мог еще знать, что аварцы и казикумухцы превратились в хныкающих старух. Их руки и сердца сделались подобны застывающему жиру.
– Колдовство? – покосился на него начальник конницы правого фланга.
Абдул-бек слишком поздно сообразил, что замечание о грудах жира тучный Мамед-мирза может принять на свой счет. Но оправдываться, поворачивать жеребца мысли вспять значило еще больше испортить неудобную ситуацию.
– Два великих кудесника явились к нам с севера, – сказал он мрачно, словно ударив наотмашь шашкой. – Два могущественных мага – Ярмул-паша и Мадат-паша. Их заклинания тяжелы, как свинец, и остры, подобно стали.
– Эти два металла умеют убеждать, – согласился Мамед-мирза. – Но ты забыл еще третий.
– Вместо мешков с золотом я привез только рассказы о подвалах, где они сохраняются тысячами.
– Отправленные наудачу монеты могут расплавиться в пожаре войны.
– Но люди больше верят тому, что видят и могут потрогать. Они побоялись уколоться о слишком острые штыки русских. Теперь затаились в своих ущельях и ждут того дня, когда кто-то из нас возьмет верх… Смотри, о Мамед-мирза, – крикнул табасаранец, обрывая свою же речь. – Они атакуют! Пока твой отец угадал!
Все три колонны русских полков уставили ружья и перешли на бег, набирая энергию перед столкновением с персидской пехотой.
– Хорошо шли, теперь хорошо дерутся, – заметил Мамед-мирза, наблюдая за рукопашной схваткой, закипевшей в центре позиции.
– И я могу спорить на своего Белого, что знаю человека, который повел их. Генерал Мадатов, тот самый, что опрокинул нас у Шамхора. Прошу тебя, славный Мамед-мирза, отдай мне его после сражения!
Шахский внук отвернулся, чтоб не видеть, как оскалилось хищно рябое лицо белада.
– Это будет твоя единственная награда? – осведомился он, уже уходя от беседы и оглядывая поле сражения.
– Да! – прохрипел Абдул-бек, задыхаясь от ненависти.
– Хорошо. Ты сказал, я запомнил. Но – нам пора.
Мамед-мирза приподнялся на стременах и завопил зычным голосом:






