Марк Красс Левицкий Геннадий
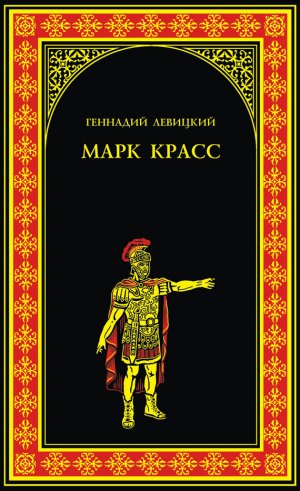
Прыщавому юнцу досталась молоденькая толстушка.
С ее телосложением было непросто ускользнуть от мужчины, а изголодавшийся по женской ласке сосед Красса схватил первое, что легче всего далось ему в руки. Он обнажил огромную грудь своей добычи и жадно припал к ней губами.
Красс почувствовал, как чьи-то нежные руки забрались к нему под тунику и ласкают грудь. Не оборачиваясь, он оттолкнул девушку и направился к выходу. В коридоре его настиг Катилина, и Красс понял, что незаметно ускользнуть не удастся, придется выдержть разговор с хозяином дома… а так хотелось поскорее покинуть это место!
– Марк, задержись на минуту. Ты последним пришел, а уходишь первым. Или тебе не понравились мои рабыни? Найдем для дорогого гостя других, я готов уступить свою любимую гречанку. Ее никто не касался, кроме меня.
– Благодарю, Сергий, дело не в женщинах. Просто я не люблю оргий. Наверное, я становлюсь старым, но мне достаточно моей жены.
– Что ж, не буду принуждать, как говорится, сколько людей, столько и вкусов. Я давно предполагал, что у тебя женщины стоят не на первом месте, и даже не на втором или третьем. Поэтому начну с главного: мои обещания устранить Помпея остаются в силе.
– Каким образом, не будучи консулом, ты намереваешься добиться этого?
Катилина криво усмехнулся.
– Есть более действенные пути. У меня достаточно решительных людей, готовых ядом или кинжалом остановить зарвавшегося всадника.
– Нет, Луций, этот способ не годится, – испугался Красс. – Бороться с Помпеем следует другим способом. Прежде всего, надо отделить его от народа. Нужно сделать так, чтобы Рим сам отвернулся от этого любимчика толпы.
А убийство Помпея принесет ему лавры невинной жертвы, превратит его имя в символ бескорыстного защитника Рима. Независимо от того, удачной будет попытка убийства Помпея или нет, толпа сметет нас с лица земли, как ураган сметает ветхие хижины плебеев.
– Что движет твоими устами, Марк, – твоя мудрость, которая вызывает у всех уважение, или трусость? Я все же склоняюсь ко второму.
– Если смелостью и решительностью ты называешь подлость и предательство, то я действительно недостаточно смел.
– Ты старомоден, Марк. С такими взглядами трудно достичь успеха.
– И все же я постараюсь действовать согласно своих моральных принципов.
– А ведь мы хотим предложить тебе возглавить наше дело. Твое имя, Марк, и умение добиваться цели смогли бы многое сделать для нас и для отечества.
– Благодарю за честь, Луций, но в последнее время я плохо себя чувствую, и едва ли от меня будет польза. Твоя рука держит меч крепче моей, твоя мысль смела и оригинальна, а я, как ты заметил, слишком старомоден.
– Не значат ли твои слова, что ты не разделяешь моих идей и целей? – настороженно спросил Катилина. – По крайней мере, надеюсь, ты понимаешь, что не все произнесенное здесь, в стенах моего дома, предназначается для чужих ушей.
– Что ты, Луций! Никто еще так не обижал меня, как ты сейчас своим недоверием. В доказательство моей преданности прими пятьсот тысяч сестерциев на благородное дело и не беспокойся о долге. От этого золота будет больше пользы, чем от моих старческих рук и головы. В свою очередь, и я надеюсь на молчание твоих друзей.
– Будь спокоен; и спасибо за деньги.
Выбравшись на улицу, Красс вздохнул полной грудью и быстрыми шагами пошел прочь.
Цицерон
Однажды около полуночи в дом Цицерона явились Марк Красс, Марк Марцелл и Сципион Метелл. Они очень удивились, когда дверь открыл не привратник, а вооруженный до зубов легионер. В комнате бодрствовало еще десятка полтора воинов.
– Нам нужно как можно скорее увидеть консула, – обратился Красс к центуриону.
– Сейчас узнаю, сможет ли вас принять Марк Туллий.
Легионер отправился вглубь дома и возвратился довольно скоро. Видимо, его хозяин не спал, несмотря на позднее время. Получив приглашение пройти, гости направились, было, вслед за ним, но не успели сделать и нескольких шагов, как были остановлены суровым центурионом:
– Прошу ненадолго задержаться, уважаемые сенаторы. Я отвечаю за жизнь консула и буду вынужден обыскать вас. Если у вас есть с собой оружие, его придется оставить здесь. Поймите мои действия правильно и примите их как необходимость, без которой невозможны порядок и справедливость в Риме. Я имею приказ обыскивать всех явившихся в этот дом, невзирая на лица и должности.
– Если это доставит тебе удовольствие, то давай, центурион, пощупай наши бока, – раздраженно проворчал Марцелл.
Пройдя через унизительную процедуру и проследовав за легионером до покоев хозяина, сенаторы, наконец, оказались наедине с Цицероном.
– Не слишком ли позднее время вы выбрали для визита? – вопросом вместо приветствия встретил гостей знаменитый оратор.
– Дело не терпит отлагательств, – с несвойственным ему волнением ответил Красс. – В Риме готовится новый заговор, Катилина задумал уничтожить тебя, консул, и присвоить твою власть.
– Откуда такие сведения?
Вопрос Цицерона привел поздних гостей в замешательство. Некоторое время сенаторы хранили молчание, пряча глаза от испытующего взгляда консула. Наконец Метелл первым нарушил затянувшуюся паузу:
– Почтенный консул, я не собираюсь скрывать, что нас далеко не все устраивало в государственной жизни Рима…
– Прекрасно понимаю тебя, Сципион, – перебил гостя Цицерон. – Твой предок победил Ганнибала, и ты желаешь повторить его подвиг, но люди ничтожные и недостойные препятствуют этому.
– Это не совсем так. И все же, как граждане, занимающие определенное положение в Риме, мы должны иметь представление обо всех областях жизни нашего государства и по возможности заботиться о его благе…
– О благе государства или о своем собственном? – вновь съязвил Цицерон.
Метелл посчитал недостойным для себя отвечать на выпад консула и невозмутимо продолжил:
– Случай свел нас с Катилиной, и мы приняли приглашение посетить его дом. Среди его гостей было много влиятельных людей, но все же лично мне и, думаю, Крассу и Марцеллу тоже их общество пришлось не по нраву. Впоследствии мы из любопытства встречались с Катилиной и его друзьями, однако это дало повод Катилине считать нас своими сторонниками. Вчера в доверительной беседе речь зашла о тебе, консул. Подогретый вином Катилина в гневе проронил, что завтра Рим навсегда избавится от Цицерона. Мы подозреваем худшее, но ни в коей мере не стремимся к такому способу решения своих проблем и не разделяем планов этого негодяя.
– Будем считать, что ты оправдался, – покровительственно произнес Цицерон.
– Ни у меня, ни у моих товарищей нет нужды оправдываться ни перед кем. Мы пришли предупредить тебя, консул, о грозящей опасности. И это единственная причина, почему мы сейчас стоим перед тобой.
– Я не могу отнести вас к числу своих друзей: насколько я знаю, Цицерон не устраивает вас как консул. Так почему бы вам не подождать и не посмотреть, кто победит: Цицерон или Катилина. Думаю, Марк Красс с удовольствием бросил бы горсть благовоний на мой погребальный костер. Сомневаюсь, что он забыл, как я выступил в поддержку Гнея Помпея, успехи которого не дают покоя Марку Лицинию.
– Буду откровенен: я действительно не являюсь твоим поклонником, Марк Туллий; но мой сын Публий без ума от твоих речей и не простил бы мне преступного молчания, приведшего тебя к гибели, – невозмутимо ответил Красс.
– Значит, только из-за меня вы и пришли?
– Нет, Марк Туллий. Просто мы не хотим крови сограждан. Своих целей мы привыкли добиваться влиянием, умом, в крайнем случае – деньгами, но никак не мечом и, тем более, не предательским кинжалом.
– Вы вовремя сделали свой выбор. Сейчас в моем доме находится Фульвия, и ваши сведения только подтвердили то, что мне рассказала о заговоре эта женщина. Кроме того, от нее я узнал о ваших встречах с Катилиной.
– Кто такая Фульвия? – поинтересовался Красс.
– Вы неоднократно видели ее во время обедов у Катилины – прекрасная наложница-гречанка, которая разносила вино и предлагала в качестве закуски свое тело.
– Меня не интересуют рабыни, – Красс прервал Цицерона, излагавшего неприятные для него подробности.
– Прости, Марк, я забыл, что ты предпочитаешь целомудренных весталок. Однако Фульвия помнит тебя прекрасно. Впрочем, можешь не беспокоиться, Красс, а также вы, Марцелл и Метелл; о ваших визитах к Катилине никто не узнает. Я не так кровожаден, как ваш друг.
– Благодарим тебя, великодушный Цицерон, – процедил сквозь зубы Красс. – Надеюсь, мы можем уйти? Или у тебя на наш счет имеются другие планы?
– Подождите, сенаторы. Я был с вами немного резок; на то имелись свои причины. Но я не хочу, чтобы мы расстались врагами. Примите мою искреннюю благодарность за визит и сообщенные вами важные сведения. Вы возвратили мне веру в порядочность и благородство римлян. Пока существуют такие граждане, как вы, наше государство не постигнет участь Карфагена.
Последние слова консула вызвали такое изумление у гостей, что они застыли на полпути к двери. Если бы Цицерон сейчас вызвал стражу и приказал бросить их в тюрьму, они удивились бы гораздо меньше.
– Мне было бы приятно побеседовать с вами за амфорой вина, но я жду других гостей, а вы можете их спугнуть. Заходите в любое время – двери моего дома всегда открыты для вас. – С последними словами Цицерон крепко пожал руки Крассу, Метеллу и Марцеллу.
На рассвете в храме Юпитера Статора собрался римский сенат. Несмотря на ранний час, пришли почти все, кто носил почетное звание сенатора и находился в данный момент в городе.
Первым взошел на ростры Цицерон и в самых мрачных тонах начал описывать раскрытый им заговор. Вдруг его вдохновенную речь прервал скрип массивной двери храма. Опоздавшим был никто иной, как Луций Сергий Катилина. Гордо прошествовал он мимо изумленных сенаторов и занял свободную скамью в противоположном конце зала.
– Я готов слушать тебя, Марк Туллий, продолжай, – после того, как удобно расположился на месте, бросил Катилина умолкнувшему на время его перемещений по залу оратору.
– Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты в бешенстве своем будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине, ни стража, обходящая город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных людей здесь, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания сената, ни лица и взоры всех присутствующих? Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что делал ты последней, а что предыдущей ночью, где ты был, кого созывал, какое решение принял?
О времена! О нравы! Сенат понимает, консул видит, а этот человек еще жив. Да разве только жив? Нет, даже приходит в сенат, участвует в обсуждении государственных дел, намечает и указывает своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит, а мы, храбрые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его оружия.
Есть ли позорное клеймо, которым твоя семейная жизнь не была бы отмечена? Каким только бесстыдством не ославил ты себя в частной жизни! Но теперь отчизна, наша общая мать, тебя ненавидит, боится и уверена, что ты уже давно не помышляешь ни о чем другом, кроме отцеубийства.
И ты не склонишься перед ее решением, не подчинишься ее приговору, не испугаешься ее могущества? Она обращается к тебе, Катилина, и своим молчанием словно говорит: "Не было в течение ряда лет ни одного преступления, которого не совершил ты, не было гнусности, совершенной без твоего участия; ты один безнаказанно и беспрепятственно убивал многих граждан, притеснял и разорял наших союзников; ты оказался в силах не только пренебрегать законами и правосудием, но также уничтожать их и попирать. Прежние твои преступления, хотя они и были невыносимы, я все же терпела, как могла; но теперь то, что я вся охвачена страхом из-за тебя одного, что при малейшем лязге оружия я испытываю страх перед Катилиной, что каждый замысел, направленный против меня, кажется мне порожденным твоей преступностью, – все это нестерпимо. Поэтому удались и избавь меня от этого страха; если он справедлив – чтобы мне не погибнуть; если он ложен – чтобы мне, наконец, перестать бояться". Если бы отчизна говорила с тобой так, неужели ты не должен был бы повиноваться ей, даже если бы она не могла применить силу?
Обвинительная речь консула звучала в полной тишине. Не осмелился нарушить ее и Катилина, ибо перебить речь консула на заседании сената считалось едва ли не преступлением. Но как только Цицерон сделал паузу, Катилина поднялся со своего места. Видимо, он хотел оправдаться, но своим движением вызвал лишь бурю возмущения своих коллег. Сенаторы, которые сидели на одной с ним скамье, поспешили отодвинуться или пересесть на другие места. Среди такого топота и шума бесполезно было пытаться что-либо сказать. Катилина в бешенстве повернулся к сенату и голосом, извергающим громы, словно Марс свои стрелы, крикнул:
– Меня оклеветали и лишили права на защиту; так я затушу развалинами пожар, который хочет меня уничтожить!
После этого он столь же гордо, как и вошел, покинул зал.
Сенаторы дружно обратили взор на Цицерона. Они ожидали, что консул отдаст приказ взять под стражу того, в чьей виновности он так блестяще убедил отцов Рима. Но Цицерон даже не пытался задержать Катилину. Сенаторы и не догадывались, что это не входило в планы консула. Ослепленные великолепной обличительной речью, они даже не заметили, что в этой речи не было ни малейшего повода лишать Катилину свободы.
Все тонкости и приемы ораторского искусства использовал Цицерон против своего врага, но в его выступлении не прозвучало ни одного факта, подтверждающего существование заговора. Прежние преступления Катилины никогда и никем не расследовались. А сведения о них были основаны на слухах, причем сильно преувеличенных, как и любые слухи. Относительно планов убийства консула и захвата власти у Цицерона были лишь показания Фульвии, но свидетельство продажной женщины стоило немного. К тому же она была так напугана, что наотрез отказалась повторить свой рассказ перед отцами-сенаторами. Красс, Марцелл и Метелл также не сообщили ничего нового, кроме смутных догадок, и Цицерон не хотел упоминать имена уважаемых сенаторов в одной компании с заговорщиками. Кстати, после их ухода, ближе к утру, перед домом Цицерона бродили какие-то люди, закутанные в плащи. Цицерон уже готовился выслать стражу и схватить их, но непрошеные гости, заподозрив неладное, исчезли еще быстрее, чем появились. Само собой, консул теперь не мог утверждать, что у его дома ходили убийцы, ибо их с полным основанием можно было считать обычными прохожими.
Цицерон с блеском доказал Риму, что Катилина закоренелый преступник, но обойтись с человеком сенаторского сословия как с преступником он не мог и не имел права.
Катилина беспрепятственно покинул храм Юпитера, а консул так и остался стоять на рострах. Гордый вид уходящего врага вызвал у Цицерона новый прилив желчи. На сей раз его гнев обратился на его же товарищей-сенаторов, которые своей близорукостью и равнодушием якобы попустительствовали заговорщикам. Среди прочих досталось и Марку Крассу.
– Сенаторы! – призывал Цицерон. – Мы должны быть бдительными как никогда. Отложите все дела и полностью отдайтесь заботам о государстве. Если же мы будем, как Марк Красс, заботиться лишь об умножении своих богатств, то вскоре потеряем все, включая и саму жизнь.
После бурного заседания сената Красс с трудом пробился к консулу сквозь плотную толпу его клиентов-телохранителей.
– Марк Туллий! Позволь задать тебе один-единственный вопрос.
– Я готов тебя выслушать, Марк Лициний, если это не займет много времени, – милостиво разрешил Цицерон, даже не замедляя шага.
– Не сегодня ли ночью ты хвалил меня и называл образцом порядочности и благородства?
– Я просто-напросто упражнялся в искусстве красиво говорить о низких предметах.
Красс побагровел от ярости до самых корней волос, но все же сдержался от каких-либо действий.
– Я прощаю это оскорбление лишь потому, что час назад ты вызвал мое уважение пламенной речью против врага нашей общей отчизны. Но не стоит забываться, Цицерон, ведь ты не отчизна, от лица которой говорил. Ты человек; постарайся не совершать ошибок, ибо за них приходится платить.
Аллоброги
Рим бурлил и волновался, словно водоворот в реке.
Несмотря на свое красноречие и консульскую власть, Цицерон официально не мог уничтожить Катилину или заключить его в тюрьму. Однако блестящая речь консула в сенате, переписанная его единомышленниками и расклеенная на стенах домов, сделала свое дело – Катилина не мог больше находиться в Риме.
Слова великого оратора нашли горячий отклик в сердцах патриотов отчизны и побудили их к действию. В разных концах Вечного города начали создаваться вооруженные отряды с целью уничтожить Катилину и его сторонников. Один из таких отрядов молодых людей из знатных семейств возглавил Публий Красс, готовый пренебречь мнением отца ради своего кумира – Марка Туллия Цицерона.
В одну из ночей Луций Сергий Катилина в сопровождении вооруженных сторонников бежал из Рима.
Путь мятежного патриция лежал в Этрурию. Там по его приказу Гай Манлий уже несколько месяцев собирал для своего патрона войско. В свое время Манлий воевал под началом Суллы, и весьма успешно, так как после битвы при Херонее сам всесильный диктатор назначил его центурионом в один из лучших легионов. Ветерану было далеко за пятьдесят, но рука его по-прежнему крепко держала меч, а сердце, полное юношеского задора, рвалось в бой. Подчиняясь сердцу, а не разуму, Манлий легко дал вовлечь себя в опасную авантюру Катилины.
Костяк отряда мятежного центуриона составили бывшие легионеры Суллы. Одни из них во время восточных походов под предводительством удачливого полководца награбили несметные сокровища в Греции и Азии, другие разбогатели на проскрипциях, скупая или получая в дар имущество поверженных врагов, третьим Сулла щедрой рукой нарезал земельные наделы на территории извечных врагов Рима – самнитов.
Сулла позаботился о своих преданных легионерах. Но, увы! Легко доставшееся богатство, не нажитое праведным трудом, имеет свойство столь же быстро улетучиваться. Золото и серебро Востока вскоре перешло в сундучки хозяев таверн или было оставлено под подушками продажных женщин; земля, к которой постаревшие в боях легионеры не проявляли должного внимания и заботы, заросла сорняками и была продана или заложена. Герои войн, которыми во время триумфов восторгался весь мир, оказались в весьма бедственном положении.
Редкий человек может привыкнуть к бедности, тем более после того, как он был сказочно богат, и у его ног лежали все блага земли. И эти люди, столь бездумно потратившие свои состояния, вознамерились вернуть себе достойное положение в обществе привычным способом. Они по первому же зову отчаянного Манлия достали из кладовок свои затупившиеся от долгого бездействия мечи, начистили их до блеска и дружно встали под знамена авантюриста.
Кстати, о знаменах. На какой-то вилле нашли старинного орла Гая Мария, под которым этот консул водил легионы на битву с кимврами. Его немедленно водрузили в лагере Манлия близ Фезул. Так бывшие легионеры Суллы подняли знамя своего злейшего врага – Гая Мария. Жест, по меньшей мере, достойный удивления.
Впрочем, удивиться этому вряд ли кто успел. Вскоре к отряду Манлия начали присоединяться бывшие политические противники – родственники попавших в проскрипционные списки врагов Луция Корнелия Суллы. Плечом к плечу встали люди, лишившиеся своих состояний в результате репрессий, и те, кто получил в награду эти состояния и бессовестно их промотал. Одни требовали прощения долгов и возврата заложенного имущества, когда-то полученного в дар от Суллы, другие – возвращения добра, конфискованного Суллой у их родственников. Никто даже не задумывался о том, как можно дать одну и ту же вещь двум разным людям.
Дальше увеличение численности отряда Манлия пошло еще более интересным путем: за счет лиц, не требовавших ничего и присоединяющихся с единственной целью – безнаказанно пограбить. То были спустившиеся с гор разбойники, беглые рабы и прочие любители легкой наживы.
Когда Луций Сергий Катилина достиг лагеря Гая Манлия, там уже находилось около трех тысяч отчаянных головорезов. Появление решительно настроенного, влиятельного сенатора придало новые силы и уверенность людям, выброшенным за борт жизни. В общем-то, их не нужно было долго уговаривать на безрассудные поступки, ибо в любом случае новоявленным легионерам Катилины было нечего терять, кроме жизни. А жизнь в те кровавые времена стоила недорого.
Катилина критически осмотрел свое разношерстное воинство и принялся немедленно раздавать посулы: влезших в неоплатные долги он порадовал обещанием после победы уничтожить все долговые и закладные книги; желающие получить землю могли рассчитывать на огромные наделы в любом месте римских владений; рабы получали свободу, а разбойники – прощение всех злодеяний.
Неслыханная щедрость возымела должное действие. Новые толпы народа, обиженного кем-либо или чем-либо, потянулись под сень серебряного марианского орла, случайно вытащенного из небытия и поднятого близ Фезул.
Отряд мятежников, увеличивающийся уже не по дням, а по часам, вызывал нарастающую тревогу у добропорядочных граждан Рима. Они еще не забыли тяжелую войну со Спартаком, а теперь призрак новой войны стоял у ворот Вечного города и с каждым днем становился все явственнее. У стен Капитолия начали раздаваться настойчивые призывы покончить с разбойниками Катилины, которые нагло грабили виллы в Этрурии, даже не спрашивая имен их владельцев. Дело принимало серьезный оборот, и римляне склонялись к мысли, что в Этрурию следует отправить одного из консулов.
Но вот беда – среди высших должностных лиц не оказалось человека решительного и мало-мальски знакомого с военным делом. Цицерон получил признание сограждан как великолепный мастер слова и пера, но он был чрезвычайно далек от ратных дел; более того, консул совершенно не желал славы Суллы, Мария или Помпея. Его больше прельщали лавры Демосфена. Другой консул – Гай Антоний – всегда был не прочь переложить и мирные свои обязанности на плечи коллег, а теперь меньше всего на свете стремился отправиться на войну.
Была еще одна причина, оправдывающая медлительность консулов. В самом Риме было достаточно много сторонников Катилины как среди патрициев, так и среди плебеев. Они только и ждали, когда в Этрурию уйдут наиболее надежные легионы, чтобы попытаться захватить город.
Таким образом, сенат и консулы не предпринимали никаких действий против нараставшей опасности, Катилина вербовал в свое войско новых легионеров, а его сторонники в Риме затаились в надежде использовать удобный момент. Такое противостояние не могло продолжаться долго. И действительно, ситуация вскоре разрешилась благодаря событию в общем-то незначительному.
В Рим прибыли послы племени аллоброгов с просьбой смягчить налоги, ставшие непосильными для их народа.
Несколько дней аллоброги безуспешно пытались пробиться на заседание сената или к консулам. В дни, когда решалась судьба Рима, никому не было дела до маленького народа в далекой Галлии. В полном отчаянии данники Рима расположились у подножия Капитолия, и тут судьба послала им Публия Корнелия Лентула Суру. Он занимал должность претора и по долгу службы поинтересовался у послов, кто они такие и что им нужно.
Получив ответ, претор проявил не свойственное римлянам радушие и отеческое сострадание к бедственному положению аллоброгов.
– Почтенные послы, от всего римского народа я приношу извинения за то, что вам не оказано должного приема. Рим сейчас находится в тяжелом положении, но это его не оправдывает. В любое время он не должен забывать о своих народах, как отец не должен забывать о детях. Следуйте же за мной, и я помогу вам решить ваши проблемы. Вы получите все необходимое на время пребывания в Вечном городе и деньги на обратную дорогу.
Изумлению послов не было предела, но, поскольку выбирать было не из чего, они с готовностью пошли вслед за Лентулом. Аллоброги, как, впрочем, и большинство римлян, не знали, что Публий Лентул был ближайшим сподвижником Катилины.
Римский претор происходил из старинного патрицианского рода, но, как и его друг, вел весьма беспутный образ жизни. Во времена диктатора Суллы он получил должность квестора и ухитрился растратить большую сумму вверенных ему государственных денег. А когда разгневанный диктатор в сенате потребовал отчета о пропавших средствах, Лентул заявил, что отчета дать не может, выставил ногу и показал икру: так обычно делают мальчики после игры в мяч, когда признают свое поражение. После этого случая проворовавшийся квестор и получил прозвище "Сура", ибо сурой римляне называют икру.
В другой раз, привлеченный к суду за вымогательство в провинции, Лентул подкупил несколько судей и был оправдан большинством в два голоса. Покинув здание суда, он заметил, что взятка, данная одному из судей, была напрасной тратой денег: для оправдания вполне было достаточно большинства в один голос…
Аллоброги действительно получили теплый прием в доме Публия Корнелия Лентула Суры. В честь дорогих гостей устроили пир, на котором, кроме хозяина и послов, присутствовали видные аристократы: Гай Цетег, Луций Статилий и Публий Габиний.
Здесь же, на пиру, аллоброги поняли истинную причину радушия римского претора. Заговорщики, нисколько не таясь, объяснили послам, что власть в Риме находится в руках людей недостойных, и очень скоро они ее лишатся. Обращаться же с просьбой о снижении налогов послам следовало бы к лицам, сидящим здесь за столом, или в лагерь Катилины в Этрурии. Именно они представляют законную власть в Риме.
Послы и рта не успели раскрыть, чтобы передать просьбу своего народа о смягчении налогового бремени, как "великодушный" Публий Лентул Сура освободил аллоброгов вообще от всех налогов. После нескольких чаш вина он и вовсе пообещал предоставить этому галльскому народу независимость, однако взамен потребовал военную помощь Катилине.
Едва ли аллоброги когда-либо получали более лестные предложения, поэтому согласились, даже не раздумывая, а в ответ столь же великодушно пообещали привести в лагерь Катилины пять тысяч воинов. Соглашение немедленно было закреплено на пергаменте, кроме того, новые союзники получили два послания: одно в лагерь Катилины, другое – своим старейшинам. Утром слуги Лентула дали аллоброгам все необходимое и отправили гостей в обратный путь.
Тяжелые от выпитого вина головы аллоброгов еще очень плохо соображали, но ноги несли вперед и довольно быстро. Они спешили порадовать соотечественников благими вестями. Однако по мере удаления от дома Лентула Суры их головы светлели, а лица становились все печальнее и печальнее.
Послы получили неслыханные по своей щедрости обещания; но невероятные обещания у людей здравомыслящих вызывают тревогу, и небезосновательную, ибо, как правило, они остаются невыполненными. Ввязываться в междоусобную войну римлян на стороне мятежников было шагом очень и очень рискованным. Аллоброги хорошо помнили, что сделал мстительный Рим с самнитами – народом еще недавно воинственным и многочисленным. Не лучше ли еще раз попытаться получить ту малость, за которой их и послали старейшины, от законных консулов и сената, чем везти домой гору сомнительных обещаний от заговорщиков, да еще оплачивать их кровью собственного народа на полях сражений?
Поразмыслив таким образом, аллоброги направились не к Катилине и своим старейшинам, а прямиком к дому Марка Туллия Цицерона.
Римские весталки
Цицерон начал действовать, едва ознакомившись с письмами аллоброгов и наспех допросив их самих. В величайшей тайне были арестованы Лентул, Цетег, Габиний, Статилий и в закрытых повозках доставлены в тюрьму под Капитолием. Затем легионеры-преторианцы перевернули их дома вверх дном.
После тщательного обыска в руках Цицерона оказались все нити заговора. В доме Лентула обнаружили целый склад оружия, предназначенного для уличных боев. Нашли и несколько писем Катилины к претору. В одном перечислялись сенаторы, которых следовало убить в первую очередь. Второе письмо советовало захватить в заложники детей Помпея и оберегать их как своих собственных. Ходили слухи, что Помпей одержал блестящую победу на Востоке и в скором времени собирается возвращаться в Италию. Имея в заложниках детей военачальника, Катилина был уверен, что сумеет с ним договориться.
Много интересных вещей было найдено и в доме Цетега. В одной из комнат оказался склад пакли, серы, факелов. Их назначение прояснилось, когда нашли карту Рима, разделенного на сто квадратов. В каждый квадрат было вписано имя человека. Срочно нашли несколько человек, чьи имена оказались на загадочной карте. Под пытками выяснили, что на вторую ночь праздника сатурналий они должны были поджечь в отведенном каждому участке как можно больше зданий, а их товарищи – захватить водопроводы и убивать всех, кто приходил бы за водой. Так открылись самые чудовищные планы, какие могли придумать только злейшие враги Рима.
На следующий день в храме Согласия состоялось заседание сената. Цицерон ознакомил собравшихся с содержанием писем, переданных ему аллоброгами, а также рассказал об аресте Лентула с сообщниками. Для сената события эти не стали неожиданностью. Слухи о заговоре витали в душном воздухе Рима давно, а в последнее время заговорщики не слишком скрывались. Сенатор Юний Силан заявил, что его клиент слышал, как Цетег в частной беседе предрекал смерть консулам и преторам. Слова Силана подтвердил и сенатор Пизон.
Отцы народа были возмущены коварством и подлостью заговорщиков, и тогда Цицерон задал вопрос: что с ними делать? Казалось, ответ должен быть один – допросить под пыткой и убить. Но не тут-то было. Лишь несколько человек высказались за такое наказание изменников. Дело в том, что сенат с древнейших времен не имел права лишать жизни римлянина вне зависимости от его вины. Такое право было у народного собрания, но созывать его в это смутное время не решались ни консулы, ни сенат.
Цицерон предложил перенести решение этого вопроса на завтра с тем, чтобы дать сенаторам время подумать. Сейчас же постановили заставить Лентула отречься от власти претора. Гай Сульпиций спустился в подземелье и сорвал с Лентула окаймленную пурпуром тогу, оставив вместо нее траурные одежды. Остальные преторы получили приказ усилить охрану города и особенно тюрьмы с преступниками. И, наконец, сенат милостиво удовлетворил просьбу многострадальных аллоброгов о снижении дани.
Марк Лициний Красс возвращался из храма Согласия весь во власти тревожных дум, навеянных последними событиями в Риме. Тем не менее, как человек осторожный, он сразу же приметил возле своего дома женщину. Она с головой была накрыта плащом, будто шел проливной дождь, хотя на небе не было ни облачка. Сенатор, искоса поглядывая на женщину, подошел к дому и уже собирался скрыться за дверью, как незнакомка окликнула его по имени:
– Марк Красс!
Красс остановился и вгляделся в женщину:
– Кто ты?
– Быстро же ты забываешь старых друзей.
– Я не ясновидящий, почтенная матрона. Сними плащ хотя бы с головы – дождя в ближайшее время не предвидится, – посоветовал сенатор. – Я жажду узнать: кто же это назвал себя другом Марка Красса?
Женщина изящным движением обнажила голову.
– О боги! Лициния! – воскликнул Красс. – Как я мог не узнать твой чарующий голос, твои небесные черты, которые не в силах скрыть даже грубая материя!
– Марк, ты и дальше будешь засыпать комплиментами непорочную жрицу богини Весты на глазах у всей улицы или все же пригласишь ее в дом? – на губах красавицы появилась ироничная улыбка, а в глазах заиграли озорные искорки.
Спустя пятнадцать минут Красс и весталка уединились в атрии за накрытым рабами столом.
– Что же ты не продолжаешь, Марк?
– Ты о чем, Лициния?
– Почему не продолжаешь говорить мне приятные слова, которые сорвались с твоих уст на улице? Или, сняв плащ, я стала менее привлекательной, а может, мой голос в стенах атрия звучит не столь мелодично?
– Лициния…
– Ах да. Я забыла, что деньги – вторая натура Красса. Он выманил виллу у бедной весталки, и теперь незачем тратить слова на комплименты.
– Лициния, я не видел тебя лет десять, но выглядишь ты еще прекраснее, чем во время нашей первой встречи.
– Ну, наконец-то мне удалось вытянуть у скряги Красса несколько приятных слов против его воли. На этом обмен любезностями и закончим, иначе, боюсь, тебе опять придется оправдываться в сенате…
– О, прекрасная Лициния, посмотри на меня! Я старый больной человек и почту за великую честь, если меня заподозрят в связи с весталкой.
– Ты постарел, Марк, но все еще мне нравишься. – Весталка окинула собеседника проницательным взглядом. – Однако поговорим о деле.
– О деле? – удивился Красс. – У тебя что, есть еще одна вилла на продажу?
– Марк! Опомнись! Рим рушится. Впрочем, чему удивляться – ты и на смертном одре будешь думать о выгодных сделках.
– Да, пожалуй, ты права, – согласился Красс, – сейчас не время для покупок. Но кто знает?.. Как раз сегодня Цицерон с сенатом пытались спасти Вечный город. Может быть, скоро я смогу вновь заняться привычным и любимым делом.
– И что же решил сенат?
– Пока ничего. Цицерон дал всем время подумать, а завтра мы с новыми силами будем ругаться друг с другом.
– То есть главные преступники живы, и городу по-прежнему угрожает опасность. Марк, ты поражаешь меня своим равнодушием.
– А ты неплохо осведомлена, Лициния, – удивился Красс. – С каких пор весталки начали интересоваться государственными делами?
– С тех пор как почувствовали, что Рим может разделить участь Карфагена и сотен других городов, от которых остались лишь жалкие развалины. Я не хочу, чтобы в огне пожара погиб храм Весты, а тебе, Марк, и подавно следовало бы проявить больший интерес к государственным делам. Ведь Марку Крассу в городе принадлежат десятки, если не сотни домов. Если тебя не волнует судьба Рима, позаботься хотя бы о своем имуществе.
– И что я должен сделать?
– Выступи завтра с речью на заседании сената.
– Ты думаешь, мое мнение кого-то интересует? Да и будут ли вообще меня слушать?
– Будут, Марк, еще как будут, – заверила Лициния. – Слово Красса стоит много, может быть, даже больше слова консула Цицерона.
– Уж не подготовила ли ты мне речь, Лициния?
– Нет, Марк. У тебя были великолепные учителя ораторского искусства. Но в начале, середине или в конце речи обязательно должно прозвучать требование казнить главных преступников. Еще лучше, если твое требование прозвучит три раза.
– Такое огромное желание лишить жизни римских граждан многим может не понравиться.
– Еще больше им может не понравится, если имя Марка Лициния Красса будет упомянуто рядом с именами Катилины и Цетега. Ведь и так уже многие считают тебя замешанным в заговоре.
– Уж не пугать ли меня ты вздумала, Лициния? – прорычал не на шутку рассердившийся Красс.
В ответ весталка одарила сенатора одной из своих самых восхитительных улыбок. На нежных атласных нестареющих щечках появились милые ямочки, которые свели с ума не одного мужчину. Большие глаза засияли лучезарным светом.
– Марк, я прошу выступить в сенате только ради меня. А позже ты поймешь, что это и в твоих интересах.
– Лициния! Ради волшебного блеска твоих глаз я готов убить пол-Рима. – Под ее чарами сенатор преображался на глазах.
– Ты обещаешь мне, Марк?
– Да, Лициния, обещаю. И не будь я Крассом, если к концу завтрашнего дня эта четверка не окажется в руках палача.
– Вот теперь я слышу слова настоящего мужчины. Чтобы я могла окончательно убедиться в этом, поцелуй меня, Марк.
– Не пострадает ли от этого целомудрие весталки? – засомневался Красс.
– Скажи лучше, что беспокоишься за свою жизнь. Однажды, из-за меня ты едва не погиб… – Лициния по-своему истолковала нерешительность Красса. – На этот раз можешь оставить напрасные волнения. Меня послала коллегия жрецов, обеспокоенная судьбой Рима. Твое выступление в сенате снимет с тебя маленький грешок.
Произнося эти слова, весталка постепенно приближалась к сенатору.
– Ведь твои рабы, Марк, все так же преданы тебе?
Красс сделал лишь небольшой шаг навстречу, и их губы слились в долгом поцелуе…
Цицерон покинул сенат позже других. По пути он зашел к своему брату Квинту и вместе с ним направился к жившему по соседству Публию Нигидию. С Нигидием Цицерона связывали узы давней дружбы. Они часто встречались и проводили время за философскими беседами, обычно переходившими в жаркие споры. Иногда в пылу словесных битв дело доходило даже до оскорблений, но Цицерон и Нигидий всегда расставались друзьями.
Сегодня Цицерон не был расположен к философским спорам. Он с удовольствием пошел бы прямо домой, но его дом заняли толпы женщин. Они справляли праздник Доброй богини, который отмечают только женщины, мужчин же следовало удалять из дома. Богине ежегодно полагалось приносить жертвы в доме консула. Ритуал должны были совершать его жена или мать в присутствии жриц богини Весты.
Цицерон поведал друзьям о последних событиях в Риме – от визита аллоброгов до сегодняшнего заседания сената.
– Итак, завтра предстоит решить, что делать с вождями заговорщиков, – закончил свой рассказ Цицерон.
– И как ты предполагаешь с ними поступить? – полюбопытствовал Публий Нигидий. – Ведь от твоего слова многое зависит.
– Ты хочешь узнать мое мнение, Публий, чтобы потом высказать противоположное и проспорить со мной весь вечер? – Цицерон горько улыбнулся. – Нет, Публий. Сегодня тебе не удастся завести со мной спор. Я еще ничего не решил и поэтому с удовольствием выслушаю твои мысли на сей счет.
Нигидий задумался, а затянувшейся паузой воспользовался брат Цицерона.
– Надеюсь, Марк, ты не остановишься на полпути и доведешь начатое до конца. Ты очень много сделал для разоблачения заговора Катилины, и теперь, по-моему, пришло время действовать решительно, смело и последовательно, чтобы очистить Рим от врагов.
– Пожалуй, я склонен согласиться с твоим братом, Марк Туллий, – наконец подал голос медлительный Нигидий. – Однако ты стоишь перед опасной дилеммой: любое решение принесет тебе вред. При твоем врожденном человеколюбии, Марк, тебе нелегко послать человека на казнь. А посылать придется не каких-нибудь рабов Спартака, а римлян знатного происхождения, занимавших в государстве высокие должности. Это может не понравиться не только твоим врагам; даже люди, далекие от заговора Катилины, могут обвинить тебя в злоупотреблении властью консула.
С другой стороны, было бы большой глупостью оставлять в живых величайших преступников, когда на свободе остаются тысячи их сторонников. Подвергшись наказанию более легкому, чем смерть, они не оценят твоей доброты, консул, и приложат все силы, чтобы погубить тебя. Если ты поступишь мужественно, Цицерон, то, по крайней мере, четырьмя влиятельными врагами у тебя будет меньше.
Внезапно дверь в комнату друзей распахнулась, и на пороге показалась возбужденная Теренция – жена Цицерона. Властная, гордая патрицианка не стала обременять себя приветствием.
– Благоприятное знамение! – торопливо воскликнула женщина и, переведя дух, пояснила: – Мы уже заканчивали жертвоприношения Доброй богине, и огонь на алтаре почти потух, как вдруг из пепла вырвалось большое яркое пламя. Женщины очень испугались, а весталки, наоборот, обрадовались. Они истолковали случившееся так: Добрая богиня взяла тебя, консул, под свое покровительство. Яркий свет предвещает тебе благополучие и славу. Делай то, что считаешь нужным для блага государства, и пусть твои поступки будут самыми решительными и смелыми. Так сказали благородные весталки.
– Что вы на это скажете, друзья? – задал Цицерон вопрос, когда жена ушла продолжать обряды, посвященные Доброй богине.
– Теренция – женщина умная. Ты сам, говорил, что часто пользовался ее советами. Я не вижу причин, чтобы отвергать их и на этот раз, – уверенно отетил Квинт.
– А что думает Публий?
– Однажды Рим спасли гуси, сегодня это вознамерились сделать женщины. То, что нам предложила Добрая богиня, не совсем законно, но, по-моему, правильно. Хотя я и не ожидал от Доброй богини такой кровожадности.
Отец отечества
Первым на ростры поднялся Цицерон. Его властолюбивая жена приложила немало усилий, чтобы на заседание сената явился Юпитер, мечущий гром и молнии, а не мягкий, добродушный человек, каким, в сущности, и был Цицерон. Он заготовил великолепную, не оставляющую от заговорщиков камня на камне, речь, понравившуюся даже его Теренции, которой обычно трудно было угодить.
С высоких ростр консул окинул взглядом собравшихся сенаторов, и увиденное удручило его. Холеные лица римских патрициев были обращены к консулу, но в их взглядах великий оратор не нашел ожидаемой поддержки и симпатии. Сенаторы смотрели на консула, как смотрит путешествующий господин на раба, починяющего его коляску, с единственной мыслью: "Скорее бы ты закончил".
Для потомственных сенаторов, ведущих свои роды едва ли не от основания Рима, Цицерон оставался простым выскочкой из всадников. Он был первым в семье, получившим консульское звание, а этого мало для того, чтобы стать своим среди людей, имеющих за спиной десятки предков-консулов. Ни высокая должность Цицерона, ни острый ум и ораторский талант, ни огромные заслуги перед отечеством – ничто не смогло сломить римскую гордыню. Оттого и нелегко было всаднику-консулу отправлять на смерть римских патрициев.
Скрепя сердце Цицерон начал речь. Но это были не суровые, как удар молнии, слова, написанные дома и отрепетированные с Теренцией. Против обыкновения, Цицерон был немногословен. Он изложил все обстоятельства заговора против Рима, фактически повторив свою вчерашнюю речь в сенате. В заключение, едва ли не силой выдавливая из себя слова, Цицерон сказал, что, по его мнению, преступников следует немедленно предать смерти. По измученному лицу консула было видно, что такое решение далось ему нелегко.
Цицерона сменил Децим Юний Силан. Он высказался за казнь преступников без суда, одним решением консула, наделенного чрезвычайными полномочиями. Для Цицерона это было слабой поддержкой. Во-первых, Силан с таким же предложением выступал и вчера. Если остальные сенаторы проявят вчерашнюю пассивность, то дальнейшее заседание грозит пойти по замкнутому кругу. Во-вторых, сенатор своим предложением перекладывал всю ответственность за судьбу заключенных капитолийской тюрьмы на консула, то есть на Цицерона.
И тут неожиданно поднялся Марк Красс, в последнее время посещавший сенатские собрания только в качестве зрителя. В огромном зале стало тише, чем даже во время выступления Цицерона.
– Уважаемые сенаторы, в любом государстве всегда есть граждане, которых не устраивает существующий порядок. Люди неимущие завидуют благополучным гражданам, превозносят злоумышленников, ненавидят все старое, жаждут новизны. Государство же должно следить за тем, чтобы эти люди выказывали свое недовольство женам в постели, но никак не на улицах и не с оружием в руках. Что же происходит у нас? Все люди, где-либо или когда-либо заявившие о себе дерзкими поступками, все, кто в развратной жизни утратил отцовское достояние, все те, кого преступления и злодейства заставили бежать из дома, стекались в Рим, как в клоаку. Наконец, в Рим спешили те, кто предпочитал праздную жизнь в Вечном городе тяжелому труду на полях и виноградниках. И что же делали отцы-сенаторы? Достойные мужи внесли посильный вклад, чтобы превратить Рим в притон разбойников, бездельников, развратных женщин и пьяниц. Мы все дружно голосовали за бесплатные раздачи хлеба, развращая тем самым последних честных тружеников; на многочисленных празднествах и триумфах люди толпились у бочек с вином, а грандиозные гладиаторские игры удовлетворяли их потребность в зрелищах. Но аппетит приходит во время еды. Этому сброду показалось мало всего, что им давалось бесплатно. Они вознамерились уничтожить лучших мужей Рима, забрать их имущество, жен, дочерей. Это с нашего молчаливого согласия где-то в Этрурии с тысячами вооруженных разбойников бродит Катилина, а его сторонники строят планы сжечь наш город. Что стало с Римом, покорившим Испанию, Африку, Грецию, Азию? Куда делся сенат, решавший в несколько минут судьбы царей и вождей народов? Вот уже два дня мы не можем передать в руки палача четырех преступников, замысливших уничтожить город и нас с вами. Великий Сулла за такое разбирательство отправил бы в ссылку весь сенат. Смерть заговорщикам – таково мое слово!
Крассу удалось то, чего не смог добиться своим красноречием даже Цицерон. Грубоватая речь Марка Лициния пробудила сенаторов от спячки и подтолкнула к действиям. Следующим взял слово Квинт Катул.
– Почтенные сенаторы, Марк Красс сказал то, о чем думали многие, но не решались произнести вслух. Я могу лишь добавить, что держать заговорщиков в тюрьме – занятие весьма опасное. Мы взяли лишь вожаков заговора, а тысячи их сторонников живы, свободны и строят планы освобождения своих вождей. Благодаря нашему попустительству в Риме нет недостатка в разбойничьих шайках, способных на отчаянные поступки. По городу бродят толпы вооруженных гладиаторов, нанятых неизвестно кем. Собственно, целый отряд фракийцев содержал Цетег, что ни для кого не является тайной. Мы должны уничтожить главных заговорщиков, и сделать это следует как можно скорее.
Неожиданная активность сената побудила высказать свое мнение и безвольного товарища Цицерона – Гая Антония. Он вовсе не горел желанием быстрее решить судьбу узников капитолийской тюрьмы, просто должность консула вынуждала хотя бы изредка совершать какие-нибудь действия.
– Достойные ораторы говорили весьма убедительно и правильно, но мы забыли, что речь идет о римских гражданах, и без согласия народного собрания их не могут лишить жизни ни сенат, ни консулы.
У несчастного Антония вспотел лоб, пока он произносил эту короткую речь. И тут он встретился взглядом с Марком Крассом. Самый богатый человек Рима едва не испепелил гневным взором недалекого консула. Тот немедленно ощутил потребность продолжить речь.
– С другой стороны, чтобы созвать народное собрание, нужно время, а оно работает на Катилину и его сторонников. И еще: я не вижу в Риме такого места, где можно спрятать заговорщиков без опасений, что их не попытаются освободить сообщники.
– А ведь Антоний прав, – поднялся Гай Юлий Цезарь. – Сенат существует для того, чтобы блюсти законность в государстве. Чем же мы, уважаемые отцы народа, будем отличаться от обычных разбойников, если отправим на смерть римлян вопреки всем существующим законам. Сейчас для нас ясно как день: они преступники и должны быть уничтожены. А ведь спустя несколько месяцев, или лет, Рим взглянет на наше решение по-иному. Не поставят ли сенату и консулам в вину нарушение законов, установленных нашими мудрыми предками? Не лучше ли арестованных удалить в города, какие покажутся вам достаточно безопасными, и держать их в оковах под стражей до победы над Катилиной? Имущество преступников можно немедленно передать в государственную казну. На это мы имеем право.
– О каких надежных городах ты ведешь речь, Цезарь? Даже консул признал, что во всем Риме не найдется безопасного места, чтобы содержать заговорщиков, – вновь подал голос Децим Силан.
Не успел он занять место на скамье, как поднялся раскрасневшийся от гнева Марк Порций Катон. Это его предок настойчивыми требованиями в сенате решил судьбу Карфагена. Этот город был словно бельмо на глазу Катона Старшего, он рассорился со всеми сенаторами, но все же добился своего. Между собой сенаторы шептались: "Придется разрушить Карфаген, иначе Катон не даст нам ни минуты покоя". В настойчивости, целеустремленности и любви к отечеству Катон Младший нисколько не уступал своему предку.
– Не о своих ли друзьях ты проявляешь заботу, Гай Цезарь? Признаться, я удивлен, что вижу тебя здесь, а не у Катилины или Манлия. Ведь у Цезаря долгов больше, чем у Красса денег, а Катилина, как известно, обещает списать все долги.
– Я рад, Катон, что ничего не должен тебе, и ты моих долгов не касайся, – невозмутимо ответил Цезарь на выпад Катона. – Ты сам, Марк Порций, не из дружеских ли чувств помогаешь Цицерону, которому страстно захотелось посмотреть, какого цвета кровь у римских патрициев?
Тут уж не смог сдержаться Цицерон.
– Катон мне друг, но истина дороже, – перефразировал знаменитый оратор известный афоризм греческого философа Платона[23]. – Я уже долгое время не беседовал с Катоном и не виделся с ним нигде, кроме сената. Единственное, что нас объединяет в этом деле – наши имена в письме Катилины к Лентулу. Там был длинный список лучших людей Рима, которых следовало бы уничтожить в первую очередь. А вот твое имя, Гай Юлий Цезарь, там почему-то не значилось.






