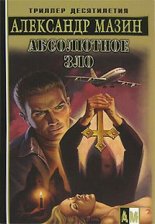Сокол против кречета Елманов Валерий
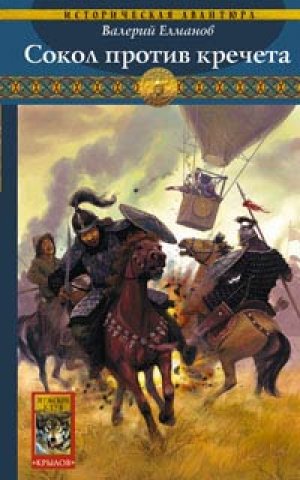
— Да, это гораздо приятнее, — подтвердил Бату.
«И так случилось, что зимой года цзи-хай, в одиннадцатой луне[30], в русской крепости, называемой Орен-бург, старший хан Джучиева улуса Бату подписал с уруситами мирный договор и очертил царственным пальцем рубеж своей державы по реке Жани, именуемой уруситами Яик», — красивыми витиеватыми иероглифами записал на синеватом листе бумаги старый хромоногий уйгур и заботливо положил тоненькую кисточку в специальный пузырек с водой.
Тушь, которой он писал, сохла слишком быстро, и это создавало некоторые неудобства для письма — забыл помыть кисточку сразу после работы, и все, считай, надо ее выбрасывать. Запасные же кисти знакомый купец должен был привезти не раньше следующего лета, когда в горах откроются перевалы.
Он еще раз поднес лист чуть ли не вплотную к близоруким глазам и придирчиво вгляделся в него, однако каких-либо изъянов не нашел и удовлетворенно откинулся на спинку маленького стульчика.
Если бы речь шла об очередном взятии какого-нибудь города или о громкой победе монгольского хана, то писарь-уйгур так бы не старался. Но тут говорилось о подписании мира, о котором так любят твердить правители и за который — увы — так усердно сражаются воины.
К тому же, судя по лицу самого хана, он и впрямь остался довольным условиями, а ведь это очень важно. Плох тот мир, который устраивает лишь одну из сторон. Это значит, что он непрочный, а главное — недолгий и продлится ровно до того времени, пока другая сторона не соберет достаточно сил, чтобы снова начать войну.
«Эх, жаль, что я не смог посмотреть на царя Константина, — сокрушенно вздохнул уйгур. — Тогда бы я точно знал, сколько продлится этот мир и не нарушат ли его урус через год или через два».
Если бы старик-писарь мог видеть лицо правителя всея Руси, то он твердо уверился бы в том, что если мир и окажется когда-нибудь нарушен, то русичей в этом винить будет нельзя.
Святозар и сам не мог припомнить, чтобы отец так бурно проявлял свою радость. Обычно всегда сдержанный, даже суховатый и подчеркнуто строгий в обращении, сегодня царь даже не считал нужным скрывать своего ликования.
— Это же надо, — неустанно повторял он. — Я сколько лет послов туда шлю, и все без толку, а он раз… и все! — И Константин крепко обнял сына. — Проси чего хочешь!
Святозару даже неловко стало. Если по совести взять, то ведь он ничего такого и не сделал. Да и началось-то все с чего — с упущения, с того, что он зарвался. Люди погибли, он сам в плен угодил. За такое не благодарить надо, а карать нещадно.
И потом, положа руку на сердце, если уж хану так хотелось заключить с Русью мир, то неужто он сам послов не прислал бы? Просто совпало так, что как раз в это время в его владениях оказался он, Святозар. Вот хан и не преминул воспользоваться удобным случаем.
Он попытался сказать об этом отцу, но куда там. Разве сумеет человек, пьяный от радости, посмотреть трезвым взглядом? Но и его понять можно. Он ведь столько трудов положил, чтобы обезопасить рубежи своего государства.
Это и впрямь была еще та задачка. Вбить клинья в несокрушимый, казалось бы, гранит великой страны, которую с полным основанием можно было называть даже не государством, а державой, величая самого Чингисхана императором, — да возможно ли такое вообще?!
Но гранитная плита представляется гладкой да однородной лишь неопытному человеку. Опытный каменотес не станет вбивать свои клинышки куда попало — ни к чему зазря расходовать лишние силы. Он вначале проведет по ней рукой, чтоб не просто уловить все шероховатости, выступы и впадинки, а прочувствовать, чем дышит камень, понять, где таится его слабое местечко.
Иногда такое удается с первого раза, а нет, так мастер, не пожалев времени, еще и еще раз неспешно огладит материал, зная, что потом все это окупится сторицей. Ага, вот она — трещинка неприметная. Вроде бы в глубине камня сокрыта и на поверхность выходит лишь неприметным тонким волоском, но имеется. Сюда и надо вбивать клин.
Это бедняки, как правило, живут дружной семьей, потому что делить им нечего. Даже когда родители умирают, раздоры между наследниками происходят очень редко. Спорить из-за ледащей лошаденки, покосившейся хатки, убогого надела земли и пяти курей в хлеву — только людей смешить. Хотя и тут бывает всяко.
Совсем иное дело — богачи. У них, конечно, проблемы иные. У них не суп жидкий — у них жемчуг мелкий и поводов для свары хоть отбавляй. А если ты должен получить наследство от самого Чингисхана, то тут не один повод для раздоров сыщется, а сотни. Это ведь не старый кочевник с десятком баранов и прохудившейся юртой. А каждая тайная обида — это трещинка для будущего клинышка.
Константин занялся этим сразу после своего венчания на царство. Поначалу разработал основные направления, по которым предстояло двигаться. Но двигаться не вслепую — так много не наработаешь. Значит, нужно иметь четкий расклад — кто есть кто, чем дышит и чего хочет, то есть предстояло просто «поводить рукой по камню».
После тщательной подготовки, в лето одна тысяча двести двадцать четвертое от рождества Христова, вместе с купеческими караванами в степь двинулись первые русские посольства, везущие богатые дары. Было их три.
Одно направлялось к самому Чингисхану. Особых надежд Константин на него не возлагал. Навряд ли этот кровожадный садист смирится с тем, что кто-то намылил его воинам холку. Если он сразу не положит все посольство в отместку за своих, убитых в Киеве, — уже неплохо. Коли удосужится выслушать — хорошо, а снизойдет к некой незамысловатой просьбе — и вовсе прекрасно.
Сама просьба должна была исходить не от царских послов. Если перед всякими бандюками шапку ломать, то они от этого, почуяв слабину, лишь еще больше обнаглеют. Так что у них для этого упыря были только предложения. А просьба должна была носить исключительно частный характер. Просто один любознательный человек из посольской свиты пишет летопись славных и героических деяний всех государей.
Старики порой любопытны как дети. Должен Чингисхан заинтересоваться, что тот уже написал, непременно должен. Ну а после того, как он услышит о «великих» свершениях западных королей, состоящих в том, что две с половиной сотни рыцарей одного маркграфа отлупили целых полторы сотни другого пфальцграфа, ему самое время возмутиться. Мол, какие же ничтожные деяния ты описываешь, глупец, когда я тут сотнями тысяч орудую, сотнями тысяч в плен беру, а уж вырезаю, когда очередной город захватываю, и вовсе бессчетное количество!
Вообще-то, оно и справедливо. Мелкие бандиты, значит, упомянуты в летописи, а он, не просто большой, но самый главный негодяй, — нет. Есть от чего возмутиться.
А тот ему в ответ: «Тогда дозволь, государь, близ тебя остаться, чтобы все это записать, дабы и твои великие деяния навечно остались в людской памяти, чтобы люди не оболгали их со временем, не умалили их величие».
Примерно так оно и случилось на самом деле. Послы возвратились ни с чем, если не считать ответного письма к государю Руси. В нем потрясатель вселенной приказывал Константину не потакать кипчакам, которые есть не более чем «монгольские конюхи и слуги», не мешать великим степным воинам и привезти дань за урон, который понесен его полководцами. Иначе он сам придет за этой данью, и тогда будет намного хуже.
Да пес с ним, с этим повелением. Послы вернулись живыми — и ладно, и хорошо. На большее Константин и не рассчитывал, а зря, потому что спустя несколько дней после их отъезда великий владыка как бы между прочим заметил Субудаю:
— А ведь я был прав, когда говорил тебе, что не следует спешить. Каан урусов умен и хочет мира. Он понял, что может разбить кого-нибудь из моих багатуров и нойонов. — Он насмешливо прищурился, но полководец, стоящий перед ним, сделал равнодушный вид, словно не понял явного намека, и несколько разочарованный Чингисхан горделиво продолжил: — Но со мной ему никогда не совладать. Мы дадим ему время, чтобы он обдумал наши слова и повиновался им. К тому же собрать дань с такой большой страны — дело долгое, так что ни к чему нам спешить с войной. Зачем лезть на дерево за яйцом, если птичка скоро сама принесет его.
В ответ одноглазый барс с отрубленной лапой желчно заявил, что змея всегда ласково шипит, перед тем как ужалить, но эти слова не возымели действия и не повернули мысли Чингисхана на более воинственный лад, тем более что голова правителя была занята тангутами.
Константина же радовало то, что его человечек остался при ставке великого воителя. Значит, двухлетние труды не пропали даром, и теперь хромой Ожиг, которого в свое время люди Вячеслава освободили из половецкого полона, добросовестно выполнял свою нелегкую, но такую полезную работу по сбору всевозможных сведений.
Лопоухий хромой русич со смешным лицом, пальцы которого были постоянно перепачканы чернилами, Чингисхану понравился. Мало того, что он, несмотря на юные годы, умел правильно слушать, то есть вовремя цокал языком от восторга, вовремя восхищался, вовремя горевал по погибшим воинам. Он вдобавок еще и хорошо переносил слова повелителя вселенной на бумагу, ухитряясь выстроить их даже лучше, чем они звучали в устах самого хана.
Порою, сидя рядом с ним, он хоть и ненадолго, но ощущал себя прежним простым мальчишкой Темучжином. Пускай зачастую он вспоминал и нечто постыдное, например, как до одури боялся собак или как молился на горе Бурхан-халдун, когда, в панике бросив молодую жену на произвол судьбы, бежал от набега тайджитов и меркитов.
Хан сам досадовал на себя, припомнив, из-за какой нелепости убил своего брата Бектера, за что родная мать обозвала Темучжина чудовищем, а в другой раз улыбался, вспомнив, что в конце концов он отомстил всем своим врагам.
О мести он вспоминал особенно часто. Он вообще любил своих врагов, кроме тех, которые успели умереть раньше, чем их настигла его карающая неумолимая длань. Он любил их так сильно, что с удовольствием согласился бы, чтобы они ожили. Тогда он сумел бы убить их еще раз.
Но Чингисхан рассказывал далеко не все из того, что припоминал, ибо есть знания, носитель которых обречен на смерть, а урус был нужен великому воителю. Он даже разрешил ему заходить вместе с ним в заветную старую юрту, где вспоминалось лучше всего.
«Потом — да, потом он конечно же умрет, — думал Чингисхан. — Но только после моей смерти. Пока же пусть слушает».
К тому же урус умел рассказывать красивые занятные сказки о былых временах, о славных богатырях и невиданных чудесах. Пускай из него никогда не выйдет добрый воин — ну и что ж. Но то, что он умел делать, он делал мастерски.
Да и имечко у него было подходящее — Ожиг. Человек с таким именем не должен таить в себе коварных злобных мыслей, потому что священный огонь, которому он посвящен с рождения[31], никогда не позволит осквернить себя.
Ожиг и впрямь не таил дурного. Он просто записывал все, что доносилось до его ушей, а попутно составлял родословную самого Чингисхана, живо интересовался его предками и родичами, уверяя, что вся родня великого воителя заслуживает упоминания в его летописи.
Всемогущий владыка монголов не знал лишь того, что каждую страничку, исписанную мелким почерком, Ожиг по вечерам перебеливал не в одном, а в двух экземплярах.
Да и то — какой от этого вред? К тому же в его записи никто ни разу не заглядывал. А если спросили бы, то немедленный ответ не заставил бы себя ждать: «Всегда лучше иметь два листа. Случись что с первым — останется другой, и труд не пропадет даром».
Он писал и ждал. Ждал каждый день и каждый месяц, несмотря на то что его сразу предупредили, что раньше чем через три года его отсюда никто не заберет. Иногда дни летели — не оглянуться, а порой тянулись уныло, как верблюды через пустыню. Особенно тягостно было поздней осенью.
В эти дни ему с особенной тоской вспоминалась Берестяница[32], которая после известия о гибели Любима первый месяц вообще ни с кем не разговаривала — думали, уж не тронулась ли баба умом. Потом немного отошла, но все равно чуралась людей. Так, парой слов перекинется, и все.
Ожиг, который за время, проведенное в полоне, успел лишиться всех родичей, — нет, постарались не половцы, а люди князя Всеволода Большое Гнездо, — поначалу ее жалел и даже несколько восхищался такой верностью. К тому же она приходилась ему единственной, хоть и очень дальней родней, так что с ним-то Берестяница как раз общалась, хоть и немного.
Ее доверие простерлось даже до того, что она согласилась на его настойчивые уговоры научиться грамоте и освоила больше половины буквиц.
А потом как-то раз, уже отъезжая с князем Константином — лучше Ожига на языке половцев никто говорить не мог, и потому рязанский князь всегда брал его с собой, — парень вдруг с удивлением обнаружил, что в родной Березовке ему ни с кем так не жаль расставаться, как с Берестяницей.
Правда, о своих чувствах он осмелился заикнуться лишь раз, перед самой отправкой в степь. Да и то — какие там чувства. Ожиг просто спросил, не может ли она, если к ней кто-то присватается, пока он будет в отлучке, не давать сразу согласия, а совсем немного подождать до его возвращения. Спросил, а сам побоялся даже взглянуть на нее. Так и стоял с багровым от смущения лицом, уперев глаза в землю.
Берестяница уже открыла рот для гневной отповеди, но так и не произнесла ни словечка. Она и сама не могла понять, что же ей помешало. В одночасье навалилась какая-то слабость, да еще нахлынула сладко щемящая боль внизу живота. Немного помолчав, она вздохнула и лишь вымолвила тихонько:
— Ты бы не спешил такими просьбами бросаться. Я тебя, почитай, на два лета старее, если не на три. Нешто тебе девок юных мало?
Тогда только и посмотрел на нее Ожиг. Посмотрел и диву дался. Оказывается, не он один под стать своему имечку ликом полыхает, хоть лучины поджигай. Берестяница тоже вся зарделась. Неужто она… Но тут, как на грех, подъехали люди Константина, мол, пора отправляться, сам государь тебя ждет.
А когда он шел, услышал тихое:
— Я обожду…
Ожиг даже споткнулся от таких слов на больную ногу, так что не он на коня садился, а дружинники его в седло водрузили, как старую квашню. Ох и осрамился! Это ж Берестяница увидела, что за жених к ней присвататься решил — с конем совладать не может! Обернулся — так и есть, стоит, усмехается — и полоснул плетью наотмашь ни в чем не повинного жеребца, чтоб вскачь и куда подальше. Пропади ты пропадом, жизнь злосчастная.
Потом, уже по дороге в степь, до него дошло, что ведь совсем ничегошеньки не сказал ей, да и срок не назвал — на сколько он уезжает. Неотступная мысль об этом преследовала его все то время, что послы жили в ставке Чингисхана. Перед их отъездом он, правда, осмелился и изложил свою просьбу хмурому боярину Лазарю. Мол, упредить бы ненароком, что не на месяц отлучка его и даже не на год. Да и кто знает, вернется ли он вообще. Так что пусть она сама решает, только ведает, что он ее всю свою жизнь до самого последнего вздоха не забудет.
Правда, последнюю и решающую фразу произнести у него язык не повернулся — это он уже в грамотке отписал. И опять дурень забыл, что сам же Берестяницу буквицы учил разбирать, да так и не успел. Снова на душе расстройство. Да и на что ей Ожиг сдался? Вон как она усмехалась, когда дружинники подсаживали его на коня.
Теперь же, сидя в юрте и под заунывный вой ветра неспешно выписывая свои буквицы — чтоб одна к одной, — впервой подумал: «А может, и не усмехалась она вовсе? Может, просто улыбнулась по-доброму, а я худое возомнил?»
Но от таких мыслей ему еще сильнее захотелось домой, в Березовку, а ждать оставалось не меньше двух с половиной лет, да и то если следующее посольство прибудет вовремя, а если нет?..
Он вздохнул, протянул, не глядя, свободную руку к чашке, ощупью ухватил горсточку изюма, бросил в рот и еще проворнее заскрипел пером по белоснежному листу самаркандской бумаги.
Буквицы становились одна к одной, складываясь в строки: «А исчо у великого Чингисхана имеются молодшие братья. Я слыхал про троих. Именуют же их Джочи-Хасар, Тэмугэ-отчигин и Белгутай-нойон, кой оному Чингисхану токмо единокровный, но любит он его пуще прочих. У первого из них ведомы мне шесть сынов — Агулдар с сыном Жиркитаем, Туку с сыном Эбугеном, Есунгу с сыном Амаканом. Еку имеет двоих — Тайтака и Харкасуна, Каралджу пока вовсе молодой и Курджи тоже, но евоная баба уже на сносях. А у Белгутай-нойона я слыхал токмо про Джауту…»
Тут он остановился и нахмурился. «А чей же это Джаута будет? Не спутал ли я? Может, он сын Тэмугэ-отчигина?»
Он плюнул с досады и проворчал:
— Вот же нелюдь нерусская. И удумают себе имечки подобрать — не разберешь ничего. Да православный человек собаку так не наречет, — однако зачеркивать ничего не стал, вовремя вспомнив, что ошибки нет и написано все правильно.
«Пишу и пишу, — вновь поползли унылые мысли. — Уже с полгода пишу, а государь возьмет да и запамятует, что им тут такой Ожиг оставлен».
Он еще раз тоскливо вздохнул и вновь взялся за перо. Буквица к буквице, строка за строкой, изо дня в день, из месяца в месяц…
На самом деле Константин не запамятовал. Однако Ожиг, сам того не ведая, вел стратегическую разведку, рассчитанную на долгие годы. С ним спешить было нельзя, особенно сейчас, после того, как от русичей потребовали дань. Лучше уж в следующий раз появиться там после смерти Чингисхана. Поэтому Константин больше помышлял об остальных двух посольствах, направленных им к Джучи и Джагатаю.
Договориться со старшим сыном Чингиза Джучи шансы были. Константин не без оснований предположил, что у сынка со своим суровым папашкой непременно имелись какие-то конфликты, причем достаточно серьезные. Ничем иным нельзя было объяснить то обстоятельство, что после завоевания Средней Азии он получил так мало, ведь при дележке ему достались глухие степи, Арал с прибрежными солончаками да увесистый кусок южной тайги. И это первенцу!
Причем Чингисхан официально вроде бы не обидел своего старшего сына, отдав ему столицу громадного Хорезмского государства Гургандж[33]. Только вот от некогда цветущего города теперь осталось практически одно название. После того как были взломаны дамбы на реке Джейхун[34], он целиком ушел под воду, а над речной гладью возвышались лишь самые высокие башни и купола минаретов. По слухам, вода эта до сих пор не спала, не торопясь расставаться с захваченной землей.
Потому Джучи и избрал в качестве столицы маленький полуразрушенный Сыгнак, стоящий на Сейхуне, что больше ни одного приличного города в своих владениях не имел. А что такое этот Сыгнак по сравнению с той же Бухарой или Самаркандом? Пигмей, не больше. Его иначе как медвежьим углом и не назовешь.
То ли дело Джагатай. Пусть он и не объявлен наследником, но зато оторвал себе практически все обильные людьми города Мавераннагра и земли кара-киданей.
Да и Тули, четвертый сын, не остался в обиде. Ему в долю, как младшему, по монгольскому обычаю, досталось родовое гнездо, то есть коренной монгольский улус. А уж про Угедея — наследника — и вовсе говорить не приходится. Верховный каан!
«Эх, знать бы, из-за чего папка на Джучи окрысился», — мечтательно вздыхал Константин.
Возможных причин отцовского гнева было несколько. Одна из них заключалась в том, что сынок был живым укором для него, ведь молодой Темучжин не сумел уберечь свою жену от меркитского плена, а отбил ее потом, причем беременную. Когда Чингисхан обсуждал с сыновьями вопрос наследства, злобный Джагатай откровенно заявил, что не станет подчиняться сыну неведомого меркита.
Другая заключалась в том, что у отца и сына были разные взгляды на отношения с завоеванными народами. Сын предпочитал действовать кнутом и пряником, а отец вообще не считал нужным баловать сладостями новых подданных. Эта причина, при условии, если только она истинна, была бы наиболее благоприятной.
Но имелась еще и третья, самая худшая. Джучи, больше всех похожий на отца, как ростом, так и манерами поведения, мог быть отодвинут в самый дальний угол огромных отцовских владений из-за того, что Чингисхан подозревал своего первенца-приблуду в возможном перевороте. Особенно после того, как официальным наследником был объявлен веселый беззаботный Угедей.
В этом случае тоже все сходилось. Попробуй-ка собрать в этой глуши войско. Умучаешься. А сколько времени дорога займет? Половины пути не пройдешь, как суровый батька на пути объявится, а у него шлепком по попке не отделаешься.
Вот все это и предстояло выяснить наверняка, памятуя, что Чингисхан, очевидно желая утешить Джучи, подарил ему право покорить все земли, лежащие западнее его владений, то есть половецкие степи, Волжскую Булгарию, Русь, ну и прочую мелочь, вроде Европы.
Прояснилось это довольно-таки быстро, но, к сожалению, далеко не лучшим образом. Послы, вернувшиеся из Сыгнака, только смущенно разводили руками. Надменный Джучи даже не стал с ними разговаривать, заявив, что он может принять только самого хана Константина, да и то лишь с веревкой на шее[35].
Текст грамотки, привезенной ими, гласил то же самое: «Если ты подчинишься, то обретешь доброжелательство и покой. Если же посмеешь поднять на своего хана меч, то лишь бог всевечный знает, что тогда с тобой будет».
Правда, внизу был оттиск синей, а не красной печати[36]. Ну что ж. Как говорится, и на том спасибо. Следовательно, верной причиной размолвки отца с сыном оставалось признать третью. Жаль, конечно, но что уж тут поделаешь.
Вопреки ожиданию послов, несколько опасавшихся реакции государя на это унизительное изгнание и на оскорбительный текст грамотки, весь гнев Константина обрушился на высокомерного Джучи. Сурово подняв вверх руку, царь громогласно, в присутствии всего своего Малого совета, пообещал, что не пройдет и года, как кара божья непременно обрушится на того, кто осмелился так пренебрежительно разговаривать с его посланниками.
Некоторые из присутствующих отнеслись к этому проклятию скептически, решив, что тут царь, несомненно, перебрал, тем более что, по рассказам тех же послов, Джучи был в самом соку — лет сорок, не больше, да и здоровье у него крепкое, лучше не пожелаешь.
Когда же через два года заезжие купцы привезли на Русь весть о том, что старшего сына Чингис-хана больше нет на свете, Константин напомнил усомнившимся о своем проклятии:
— Выходит, дошли мои слова до всевышнего. Милосерден господь к нам, грешным, но и его терпению наступает конец. Но Джучи сам виноват — негоже посланников божьего помазанника в шею со двора прогонять.
Никто не проронил ни слова, лишь простодушный Добрыня Златой пояс изумленно крякнул, выражая общую реакцию присутствующих.
Позже всех прибыло третье посольство. На обратном пути их дважды грабили, невзирая на охранные грамоты, на которые местному разбойному люду было ровным счетом наплевать, равно как и на самого Джагатая.
Затем, в довершение всех бед, они еще и заблудились в горах, спасаясь от преследования очередной бандитской шайки, и лишь чудо спасло их от смерти.
Помогала золотая пайцза с изображением кречета, извлекаемая в самые критические моменты, наступавшие у них трижды, потому что преодолев горный перевал, они тут же оказались лицом к лицу с воинами Чагатая, настроенными весьма и весьма решительно. А потом люди второго Чингизова сына еще раз повстречались на их пути. И еще…
По прибытию все послы разом бухнулись в ноги государю, благодаря его за маленькую золотую пластинку, которая не раз уберегала их от неминуемой гибели, а сам Константин вспомнил добрым словом купца Ибн аль-Рашида, у которого он ее добыл, и спецназовцев Званко и Жданко, с чьей невинной шалости и началась та давняя история[37].
Но царь напрасно надеялся на то, что хоть третье посольство привезет что-то утешительное. Им также не удалось добиться успеха. Джагатай не собирался вести какие бы то ни было переговоры за спиной отца. Мало того, он еще напомнил русичам про убийство монгольских послов в Киеве.
Чингисхан не зря именно его назначил хранителем Ясы. Джагатаю, склонному к откровенному садизму, доставляло несказанное удовольствие судить своих же людей по ее суровым законам и девять десятых из них обрекать на мучительную смерть.
Правда, справедливости ради надо заметить, что если Яса в отношении какого-либо поступка говорила иное, то Джагатай поступал честно. С теми же русскими послами едва не приключился казус, когда они у себя на подворье «неправильно» зарезали барана, а кто-то, увидевший столь вопиющее нарушение, поторопился донести об этом, рассчитывая на неплохую мзду[38].
Разбирательство длилось целый день. Лишь к вечеру Джагатай пришел к выводу, что послы совершили это по причине незнания, а потому к ним надлежит применить иное положение Ясы. Короче говоря, бояре отделались испугом, хотя и не сказать, что легким.
А потом пришел черед Ожига. Забрали его из Каракорума аж через пять лет — раньше никак не получалось. Но в качестве компенсации Константин заверил парня, что самолично станет его сватом. Пусть Берестяница попробует устоять, когда к ней пожалует сам государь с нарядным рушником, перекинутым через плечо. Однако вначале надлежит сделать дело, а уж потом царь отпустит его до самого лета.
Вдохновившись такой радужной перспективой, Ожиг без умолку трещал целых три дня, поясняя и растолковывая сведения, занесенные мелким бисерным почерком на бумажные листы.
— А вот тут ты пишешь, что Темуге-отчигин трусоват, хотя и жаждет власти. Почему так решил? — следовал вопрос Константина.
— А сыны Джочи-Хасара довольны таким разделом? — это уже спрашивал боярин Коловрат.
Едва успев ответить, Ожиг получал еще один вопрос, опять от царя, затем еще, следовавший от молодого, но дородного боярина по имени Любомир, затем еще… Словом, дней пять он вертелся, как карась на сковороде, аж упарился.
Правда, государь не обманул, сосватал Берестяницу, как и обещал.
— А я и без царя согласная была, — тихонько шепнула ему на ухо смущенная невеста, отчего Ожиг еще больше возликовал, купаясь в потоке счастья.
Медовый месяц длился у Ожига целых полгода — и здесь Константин сдержал свое слово, а потом вновь последовало дальнее путешествие в составе очередного посольства, правда, на сей раз уже первым помощником у возглавлявшего его боярина Липня. Потом было еще одно, затем еще, на которое Ожиг ехал уже в чине боярина, но ощутимых результатов по-прежнему не было, да и не могли они проявиться вот так сразу.
После того как клин вбивается в трещину и поливается водой, нужно время, чтобы разбухшее дерево углубило раскол в каменной глыбе. Иной раз на это хватает часов, а подчас мало и суток.
Но то простой камень. Для гранитной плиты монгольской державы нужны были годы и годы. Во всяком случае, один вывод напрашивался сам собой — пока Угедей жив, все прочие будут ходить под ним и раскола ждать глупо. А вот когда его не станет — тут уже как посмотреть.
Очень ограниченное число людей знало, что клинышки, вбитые Ожигом, ко времени смерти Угедея непременно дозреют. Надо только дождаться кончины третьего сына Чингисхана. Остальные же знали иное. Государь просто так боярскую шапку никому не вручает. Раз дал, значит — по заслугам.
Ожиг и впрямь ее заслужил, потому что сделал все, что было в его силах, выполняя задачу Константина — пока Угедей жив, оттянуть падение империи чжурчженей. Пусть каан обращает поменьше внимания на север и гораздо больше — на юг, а также на запад.
Рассказы боярина Ожига Станятовича о неисчислимых сокровищах индийских государей так вскружили голову приближенным великого каана, да и ему самому, что Угедей, оторвав от боевых действий в империи Цзинь несколько туменов, направил их на Делийский султанат, тем более что путь туда был не нов. В свое время, сразу после разгрома основных войск государства хорезмшахов, там уже побывали воины Чингисхана, дойдя до Мультана, Лахора и Пешавара.
Однако правитель Кашмира Раджадева, вовремя предупрежденный купцами и тоже не без участия Константина, и владыка Делийского султаната Илтутмиш сумели оказать достойное сопротивление. Первые два тумена нашли свою бесславную кончину в Хайберском проходе, ведущем из Кабула к Пешавару. Следующие два — чуть дальше, в междуречье Чинаба и Джелама, еще на подходе к древнему Лахору, который, по преданию, основал сам легендарный Лох — сын Рама Чандры, чьи подвиги воспевались в «Рамаяне»[39].
Лишь третья по счету экспедиция сумела взять Лахор, Мультан, Нагаркот и Дибалпур, расположившись на самом южном притоке Инда Сатледже и готовясь к решающему прыжку на Дели и города, стоящие в верховьях Ганга. Но тут пошел сезон дождей, в стане завоевателей начались эпидемии, из-за чего монголам вновь пришлось отступить.
Благодаря всему этому падение империи Цзинь было несколько отсрочено, чего и добивался Константин, зная, что, пока она не рухнула, Угедей никогда не даст свои войска в помощь сынам Джучи.
Однако, несмотря на весь титанический труд и отвлечение части сил каана монголов, прогнившее северо-китайское государство все равно погибло и теперь было неизвестно, чего ждать от Угедея, но вдруг, как подарок судьбы — мир с Бату, который заключался не просто по согласию хана, но и по его инициативе. Ну как тут не радоваться, как не веселиться.
— Батюшка, я только об одном твоего дозволения хотел испросить, — несмело начал Святозар, решив воспользоваться подвернувшейся оказией.
— Никак о женитьбе речь поведешь? — угадал Константин. — Неужто доселе не передумал дочку мельника под венец повести? — И на его лицо набежала легкая, еле заметная тень неудовольствия. — Нешто и впрямь она краше всех тех, о ком я тебе рассказывал?
— Не передумал, — подтвердил Святозар, подумав: «Знал бы ты, государь, что не просто не передумал, но не далее как полгода назад, когда ты вызывал меня к себе, уже и сводил».
Но говорить об этом сейчас было бы глупо. Вначале надо получить разрешение. Это гораздо важнее. Тогда получится, будто он обвенчался с ней вроде как и не самовольно. А если сказать, то государь может и осерчать. Не с теми невестами отец в мыслях его судьбу связывал, ох, не с теми.
— Ну, раз не передумал, значит, это любовь, — констатировал вновь заулыбавшийся — пасмурное облачко оказалось небольшим — Константин. — Говорят, что она от бога, а разве можно божьему велению противиться?! Женись, сын, коли так!
Видя такое бесшабашное настроение отца, князь уже открыл было рот, чтоб сказать, что он уже женился. Теперь-то, поди, можно, государь своего слова назад не возьмет. Но подходящий момент был упущен. Константин повернулся к своему воеводе, продолжая неоконченный разговор.
«Ладно уж. В другой раз скажу», — довольно подумал Святозар, оставляя государя наедине с Вячеславом.
— А ты не рано ли ликуешь? — попытался внести трезвую мысль воевода, когда Святозар вышел. — Вспомни, что говорил Торопыга. И про курултай заодно, на котором поход объявили. А на кого поход-то?
— Так ведь я не собираюсь ни войска с рубежей снимать, ни крепости рушить, — улыбнулся тот другу. — И Бату только в одном верю. Ему главное — время выгадать, спину свою уберечь. Я даже не верю, что он на братьев собрался идти. Может, совсем иное у него в мыслях. Да разве в этом дело?! Мы из него два-три года выжали — вот в чем суть!
— А потом?
— Потом должны умереть Чагатай и Угедей, и тут у наших степных друзей начнется такое веселье, что им будет уже не до Руси! — чуть не выкрикнул Константин, не в силах сдерживать переполняющие его чувства.
— Это ты с господом богом договорился? — уточнил воевода. — Или люди Торопыги сработают?
— Да нет, все гораздо проще. Я в свое время историков наших много читал, вот кое-что и запомнилось, в том числе и даты их смерти. Они как раз на следующий год приходятся, причем сразу у двоих.
— А ты помнишь, что этот мир вроде бы наш, а вроде бы и не совсем? — не отставал Вячеслав. — Вон и Калка по летописи произошла в одно время, а на самом деле совсем в иное. Чуть-чуть не влетели. Гляди, чтоб мы во второй раз на те же грабли не напоролись, — предостерег он.
— Так я же не призываю совсем расслабиться. Бдить будем в оба, а зрить — в три, — весело подмигнул Константин.
— Ох, гляди, как бы твоя радость боком не вышла, — вздохнул Вячеслав. — Чую я, что крутит он, гад, только не пойму, что задумал. Уж больно он хитрожо… гм, короче, тот еще кадр.
— Так ведь и у нас на его хитрое седалище кое-что с винтом сыщется, — подмигнул Константин.
— Сыщется-то оно сыщется, — хмуро пробормотал себе под нос воевода. — Боюсь только, что оно у него с закоулками, и куда винт вставлять — поди разбери.
И приложиша длань свою к харатье мирной сам государь земли русския, ибо возжелаша он мира и покоя в державе своея и позабыта слова писания, кое гласит: «Кто скоро доверяет, тот легкомыслен и возможет быти обманутым».
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 годаИздание Российской академии наук. СПб., 1760
Глава 5
Помощь «другу»
Уильям Шекспир
- Правдивый свет мне заменила тьма,
- И ложь меня объяла, как чума.
Святозар, не раз проинструктированный и воеводой Вячеславом, и Торопыгой, и Евпатием Коловратом, не говоря уж об отце, бдительности не терял, особенно в первое время.
Однако Бату вел себя весьма дружелюбно. Он по-прежнему частенько посылал к Святозару гонцов, вызывая друга для приятного времяпровождения. Более того, хан не раз предупреждал князя о том, что вот, мол, не сегодня-завтра прибудут в эти места тумены, посланные его дядей Чагатаем, вместе с которыми он собирается ударить по братьям, злоумышляющим против него.
А пока войска дядюшки задерживались, Святозар и сам получил наглядное доказательство того, что ближайшие родичи Бату строят против него козни. Это произошло, когда хан повез князя на охоту.
Случилось так, что они остались почти одни, не считая двух десятков ханских телохранителей. Воины, налетевшие на них, по своему внешнему виду практически ничем не отличались от ханских, но зато их оказалось очень много. Так много, что принимать бой было безумием. Спасти могло только бегство.
Нападавшие сходились двумя клиньями, истошно визжа на скаку «Орду! Орду!» — слева и «Шейбани! Шейбани!» — справа. Не надо было быть стратегом, чтобы понять — их хотят взять в клещи, чтобы потом раздавить наверняка.
Бату затравленно посмотрел по сторонам в надежде, что сможет увидеть своих воинов, участвовавших в большой облаве, но затем, коротко выругавшись, махнул своим нукерам, давая команду уходить. Отчаянная скачка длилась недолго. Уже через несколько минут стало понятно, что кони монголов, поджидавших хана и его телохранителей в засаде, намного свежее. Расстояние до беглецов с каждым мгновением сокращалось все больше и больше.
Наконец в их сторону полетели первые стрелы, и раздались жалобные крики раненых. То один, то другой воин на полном скаку вылетал из седла, падая в густую траву, которая никогда не бывает в степи такой высокой и сочной, как по весне. Святозар почувствовал, как две стрелы ударились в его кольчугу и беспомощно отскочили от металла. Изделие ожских кузнецов пока спасало своего владельца.
«Пока. До поры до времени», — мелькнуло в голове Святозара, но он отогнал эту мысль прочь, чтоб не мешала.
О том, что спасение маловероятно, скорее всего, подумал и хан, скакавший рядом. Выпрямившись в седле, он бросил двум нукерам:
— Князя сберегите. Чтоб ни один волос с его головы не упал. А я их задержу, — и, резко поворачивая коня влево, бросил на прощание, смешно коверкая трудное русское имя: — Удачи тебе, Свитозара. Помни, что…
А вот дальше князь не разобрал. Ветер унес последние слова Бату. Святозар поначалу попытался было устремиться следом за ханом — негоже гостю бросать хозяина в такой трудный час, но повернуть не смог. Два нукера, скакавшие бок о бок со Святозаром, выполняя ханский приказ, не дали ему ни малейшей возможности это сделать.
Погоня и впрямь отстала, устремившись следом за Бату и не обращая внимания на трех всадников, беспрепятственно добравшихся до становища, которое через минуту встревоженно загудело, словно пчелиный улей. Тут же почти тысяча воинов, во главе которых скакал Святозар, вихрем вылетела туда, куда ускакал хан с оставшимися в живых телохранителями.
Впрочем, скачка длилась недолго и закончилась радостной вестью, которую принесли всадники, высланные в передовой дозор. Оказывается, как рассказал все тот же Бурунчи, не уставая восхищаться своим ханом, Бату, даже в такой критический момент не потерявший самообладания, увел погоню именно в ту сторону, где предположительно должно было быть не меньше полусотни его воинов. Так оно и случилось.
Кроме того, высоко в воздух немедля взлетели три горящие стрелы, оставляя за собой отчетливый черный след дыма — знак тревоги и немедленного сбора. Повинуясь этому сигналу, хорошо различимому на расстоянии нескольких верст, со всех сторон к хану потянулись воины-загонщики, бросив облаву и выпуская зверье из смертоносного кольца.
Было их не так уж много — всего-то сотни три, но нападавшие, прекрасно сознавая, что совсем скоро из основного лагеря прибудет гораздо более существенная поддержка, после короткой жаркой схватки подались прочь, бесследно теряясь в степи.
Сам Бату оказался ранен в трех местах, но главное — жив. Лекарь успел наскоро перетянуть раны, и только пятна крови, выступившие на повязках, показывали, что они далеко не пустячные, хотя хан и утверждал обратное.
— Теперь ты сам видишь, как далеко у нас зашло, — морщась от боли и осторожно вытягивая левую раненую ногу поудобнее, заметил он князю.
Святозар понимающе кивнул, прикидывая, что именно, но главное — как именно сообщить отцу о сегодняшних событиях.
«Теперь государь непременно повелит мне не удаляться далеко от берега Яика и вообще наложит запрет на участие в любой охоте, — грустно думал князь. — А может, вообще ничего не сообщать? — пришла ему в голову спасительная мысль. — И то правда. Хан-то живехонек, я тоже, так к чему батюшку напрасно пугать?! Решено!»
— Ничего-ничего, — мрачно вздыхал тем временем Бату. — Скоро сюда придут тумены Чагатая, и тогда мы посмотрим, кто станет править. Вот только боюсь, что их сил не хватит. Как ты мыслишь, князь? — спросил он задумчиво. — Стоит ли мне дожидаться помощи, которую должен прислать великий каан Угедей? Конечно, тогда я их одолею наверняка, но Орду и Шейбани тоже будут уверены в том, что с малыми силами я побоюсь выступить навстречу их жалким туменам. Выходит, если я нападу только с теми, кого мне пришлет Чагатай, то для моих братьев это станет неожиданностью. Скажи, как поступил бы ты сам на моем месте?
Князь вздохнул, неторопливо пошевелил большой головней в костре, отчего пламя вспыхнуло еще ярче, и тихо произнес:
— Для начала я бы попытался замириться с братьями.
— Чтобы жить в постоянном ожидании отравы или стрел, которые осенней или зимней ночью пришьют меня прямо к кошме…
— А если они опасаются получить то же самое от тебя? — перебил его Святозар. — Не лучше ли поначалу встретиться с ними и попробовать решить все миром? Братья ведь.
Бату насмешливо крякнул и поучительно заметил:
— У чингизидов нет братьев. Есть только соперники. И кто думает иначе, тот долго не живет.
— Тогда думай сам, что окажется для тебя более выгодным — либо воспользоваться неожиданностью, либо бить, когда этого ждут, но все равно ничего не смогут поделать против твоих полков, — произнес Святозар. — Что из этого лучше, я не знаю.
— Ты уже ответил, сам того не подозревая, — хищно оскалился Бату. — Одолеть врага, пользуясь тем, что у тебя больше воинов, можно, но настоящий багатур поступит иначе. Он ударит малыми силами, но тогда, когда его не ждут, — смакуя каждое слово, произнес хан. — Хоп. Ты здорово мне помог. Вот только тумены Чагатая, — протянул он задумчиво и вновь нахмурился. — Здорово было бы, если бы половине или трети из них можно было перейти Яик, дабы их кони не передохли от голода.
— Если хочешь, я отпишу государю о твоей просьбе, — предложил Святозар.
— Нет, — решительно произнес Бату после недолгого раздумья. — Друг не должен досаждать другу своими просьбами. Степь довольно большая, хоть и с трудом, но мы в ней разместимся. И помни, князь, когда ты увидишь на берегах реки множество воинов, то это — мои люди, которые всегда придут на помощь лучшему другу своего хана. Не сразу, — тут же оговорился он. — Сперва я уведу их на восход солнца, чтобы разобраться со своими врагами. Зато потом ты можешь полностью рассчитывать на мои тумены.
— Они мне пока не нужны, но я все равно благодарен тебе за помощь, — учтиво ответил Святозар.
— Пока не нужны, — многозначительно подчеркнул Бату. — Только Вечному небу ведомо, что будет завтра и кому солнце осветит грядущий день. Я верю, что мы оба созданы для великих свершений.
Окровавленные повязки хан сорвал с себя, едва князь убыл обратно в крепость. Срывал он их небрежно, можно сказать, грубо, причем даже не морщился от боли, которую неминуемо должно было причинить такое неосторожное обращение со свежими ранами. Вот только ран… не было.
Подозвав к себе Бурунчи, Бату коротко распорядился:
— Всем, кто так красиво падал с коней, раздашь по золотой монете. Ну и тем, кто за нами гнался, — по серебряной. Остальное твое. — Он хмыкнул и несколько удивленно добавил: — А ты был прав, когда сказал, что монгол при всем старании не может промахнуться. Да и для конязя оно поубедительнее. Хорошо, что те, кто целился в уруса, били стрелами с тупыми наконечниками.
Бурунчи молча кивнул, на лету поймал туго набитый мешочек, брошенный ему ханом, взвесил его на руке и довольно осклабился, прислушиваясь к мелодичному позвякиванию монет.
Оставшись один, Бату задумался, рассеянно глядя, как яркие языки пламени жадно пожирают сухой хворост.
— Осталось последнее, — произнес он, размышляя. — И если проклятый шаман снова окажется прав, то к следующей весне у каждого моего воина будет по нескольку белых рабынь, они будут лежать в своих юртах не на драном войлоке, а на коврах и шелковых подушках. Каждый, — повторил он.
Предупреждение Бату относительно прибытия новых туменов, которые привели сын Чагатая Хайдар и внук Бури, оказалось кстати. Новоприбывшие заполонили всю бескрайнюю степь, разместившись повсюду, включая пространство непосредственно за Яиком. Их яркие костры особенно хорошо были заметны безлунными ночами. Однако монголы вели себя пристойно, пересечь реку никто из них даже не пытался.
Первую неделю Святозара напрягало такое соседство. Но через десять дней после их появления к нему помимо летучих конных отрядов башкир и половцев подоспели сразу двадцать пеших полков. Окончательно отлегло у него от сердца, когда Бату пригласил князя познакомиться поближе со своими союзниками и устроил по такому случаю большой той.
— Друзья моего брата Бату — мои друзья, — во всю глотку орал пьяный Бури, однако закончил свою речь непонятно: — Когда мы встретимся в бою, то я подарю тебе легкую смерть, потому что ты храбрый воин. А если ты согласишься служить мне, то я сразу дам тебе под начало сотню, а то и тысячу.
Святозар было насторожился, но Бату, оставшись с князем наедине, успокоил его:
— Он пьян. К тому же никто из них не знает, зачем на самом деле прислал их ко мне мой дядя Чагатай. Только тебе могу показать. — Нетвердо ступая, хан повел Святозара в другую юрту, которая пустовала, кряхтя, опустился на корточки перед красивым деревянным ларцом с хищным драконом на крышке и полез за пазуху.
— Только тебе, — повторил он важно, пьяно тыкая маленьким ключиком в замочное отверстие и постоянно промахиваясь.
Наконец очередная попытка увенчалась успехом, и хан, торжественно открыв ларец, достал из него лист пергамента, туго скрученный в трубку. Он небрежно освободил его из тугих объятий шелковых желтых шнуров, увенчанных тяжелыми висячими печатями, и протянул Святозару.
— Надо ли честь? — осторожно осведомился тот, не разворачивая свиток.
— Если у тебя есть тайна от друга, то либо ты сам — плохой человек, либо друг у тебя только по названию, — высокопарно произнес Бату. — Читай.
Князь пожал плечами, развернул пергамент, некоторое время вглядывался в него, затем с легким разочарованием вернул обратно.
— Прости, хан, эта грамота мне неведома, — несколько смущенно заметил он. — Да я же тебе сказывал, что иноземные письмена не разбираю.
— Правда? — изумился Бату. — Я и забыл.
Лгали оба. Святозар, правда, лишь самую малость, поскольку с первой строкой свитка сталкиваться ему уже доводилось. Была она стандартная. Князь впервые увидел ее лет пять назад и поинтересовался у отца, что это за чудные буквы. Константин охотно пояснил, что свиток доставлен ему очередным посольством, которое вернулось ни с чем из ставки великого хана Угедея.
— Пишет мне, будто даннику какому, — мрачно заявил тогда государь. — Видал, с чего начинает, — и отчетливо произнес, указывая пальцем на первую строку, которая была выведена красной киноварью гораздо крупнее, чем последующие строки: — Внимание и повиновение.
— А ты, батюшка? — робко переспросил Святозар.
— А что я — внимаю, как и сказано. Вот только повиновения он от меня навряд ли дождется, — и его мрачное лицо озарилось слабой улыбкой.
Он подмигнул сыну и продолжил:
— С этого великий хан все свои указы начинает. Важничает, собака. Ну-ну, пускай позабавится… пока, — загадочно закончил он.
Святозару почему-то запомнилось начертание этой строки. К тому же чуть позже он еще несколько раз видел подобные грамотки, начинавшиеся с точно таких же слов, так что узнал их сразу.
— Это от моего дяди, великого каана Угедея, да живет он вечно, — пояснил Бату. — Оно не мне, а этим глупцам, которые даже не умеют пить так, как подобает настоящим воинам, — много и не напиваясь. Когда придет время похода на Орду и Шейбани, я покажу им свиток, если кто-то из них заупрямится. Пока же они думают, что их тумены присланы для покорения стран, лежащих на закате солнца.
— А почему ты сразу не объяснишь им, для чего они сюда прибыли? — недоуменно спросил Святозар.
— Что знают трое, о том через три дня будет говорить даже байбак[40] в степи. Тогда я не смогу неожиданно напасть на братьев, — спокойно пояснил хан и тут же поправился: — Хотя нет. То, что я расскажу этим двоим, байбак будет знать уже на следующий день, даже не вылезая из своей норы, потому что их языки длинней, чем их плети.
На самом деле его презрительная усмешка была адресована не двоюродному брату Хайдару и не своему двоюродному племяннику Бури, а человеку, стоящему перед ним, потому что и свиток, и текст, красиво вписанный в него грамотеем-уйгуром, были ложью от начала до конца. Подлинными были лишь печати, которые Бату позаимствовал с другого свитка, присланного ему тремя годами ранее.
«Придет время, и ты поймешь, против кого будут направлены все эти тумены, только вот вряд ли тебе доставит удовольствие, потому что знание хорошо лишь тогда, когда приходит вовремя», — насмешливо подумал он.
Вслух же он произнес лишь заключительную часть своей мысли о том, когда хорошо знание.
— Как говорят твои мудрые шаманы, во многая мудрости есть многая печали, а многие познания лишь умножают скорбь, — добавил он и торжествующе улыбнулся, заметив, как удивленно вытянулось лицо собеседника. — Мне очень понравились эти слова, а потому и запомнились. Я ведь и сам склоняюсь к тому, чтобы принять вашу веру, а своего сына Сартака уже давно крестил. Сам понимаешь, от почитания чужих богов вреда быть не может, а потому я решил, чтобы каждый из моих сыновей обзавелся на небе покровителем, который при нужде может влить новые силы в его воинов и помочь ему убить всех своих врагов. Как мыслишь, твой Кристос прислушается к просьбе моего наследника, если он запалит в ваших священных юртах по сотне свечей?
Святозар уклончиво пожал плечами и заметил:
— Кто может знать, кому захотят помогать боги?
— Я могу, — безапелляционно заявил Бату. — Тому, кто сам сделал все, чтобы победить. Боги любят уверенных.
— А ты можешь сказать, что уверен в своих силах?
— Конечно, — хищно улыбнулся Бату и весело добавил: — Ты даже не представляешь, как неожиданно я нападу на своих врагов.
Святозар вспомнил его слова через несколько месяцев, когда Бату неожиданно появился под стенами Оренбурга. Вид у него был совсем не тот. От обветренного злыми степными морозами красноватого лица веяло унынием и печалью. Два десятка нукеров, сопровождавших его, выглядели не лучше.