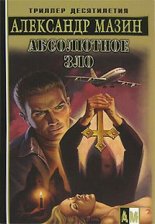Сокол против кречета Елманов Валерий
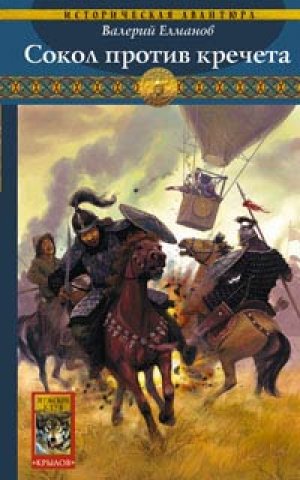
— Обмыслить надо все, боярин, — неторопливо протянул он. — Князя-то государь и простить может — сын ведь. А нам пути назад будут отрезаны. Если мы к твоему хану перейдем, то нас только веревкой пеньковой благословят, не иначе.
— Хоп, — согласно кивнул Бурунчи. — До утра обожду. А пока думайте. Только хорошо думайте. А твой сосед чего молчит? — подозрительно покосился он на Прока, опешившего от такого поворота событий. — Ему что, не надо думать?
— Надо. И ему тоже надо, — торопливо ответил за товарища Гавран. — Вместях оно как-то сподручнее Русь предавать — одному тяжко на такое идти.
К счастью, дар речи вернулся к Проку гораздо позднее, когда темник, удовлетворенный исходом дела, вернулся вниз, а самих пленных его крепкие сноровистые люди быстро, но уже гораздо вежливее, отволокли обратно в подвал.
— Ты вовсе с ума сошел! — завопил Прок на товарища.
— Цыц ты, а то кудахчешь, как курица, когда яйцо снесет. Или невдомек тебе, для чего я время подумать просил?
— Для чего? — озадаченно спросил Прок, совсем сбитый с панталыку уверенным тоном Гаврана.
— Для побега, для чего же еще, — пояснил тот. — Нам теперь на все надо соглашаться, лишь бы к своим удрать поскорее.
— Мыслишь, что нам так сразу и поверят? — усомнился Прок.
— Надо, чтоб поверили, — наставительно заметил Гавран. — И чтоб оружие вернули, — добавил он, и Прок даже в кромешной тьме почувствовал, что его товарищ улыбается.
— А если его только перед самым боем вернут? — попробовал он остудить не в меру размечтавшегося приятеля, но тот бодро напомнил:
— Забыл, как верховный воевода нас бою учил, чтоб, ежели что, пускай даже голыми руками, но ворога одолеть? Мне-то без интересу было, потому и не усвоил толком, а ты, помнится, из лучших был.
— Поначалу от пут надо освободиться, — заметил Прок. — А с нехристями я могу потолковать. Пяток, может, и не одолею, а с парочкой управлюсь. Ну а если ты додавить их подсобишь, то и трех свалю, — уверенно пообещал он.
— Да, с тебя прок большой, — намекнул, в свою очередь, Гавран на имя[51] товарища. — Хотя думку ты мне знатную подкинул. Ежели ее обмыслить как следует, то и я не одного нехристя завалю, — протянул он, о чем-то напряженно размышляя. — Ладно. Спи покамест. Нам сил набираться надо. Вскорости они нам ох как понадобятся.
Бурунчи же, доложив Бату о том, что пленные стали колебаться, еще раз восхитился ханской мудростью.
Впрочем, он пришел бы в еще больший восторг, если бы знал о подлинных намерениях Бату, которые тот пока держал в секрете. Хан как раз рассчитывал именно на то, что, скорее всего, хотя бы один из них даст свое согласие лишь на словах, а на деле попытается воспользоваться первым же удобным случаем, чтобы бежать на Русь. Бежать для того, чтобы предупредить о случившемся под Оренбургом, а также — и это было самым главным — сообщить об измене Святозара. Вот тогда у князя и впрямь будут отрезаны все пути назад.
Хану оставалось лишь правильно выбрать время для побега русичей. Отпускать их слишком рано тоже было нельзя. При этом терялась бы неожиданность — такая замечательная помощница любого полководца. Ведь пока еще русичи не знают о случившемся. Пользуясь этим, можно взять оставшиеся шесть крепостей, грозно высившихся над полноводным Яиком. А помочь их взять, по хитроумному расчету Бату, окончательно уверившегося в безукоризненном плане старого шамана, должен был Святозар, пусть того вовсе и не желая.
Глава 8
Вначале было смешно
Вальтер Скотт
- Над замком был приспущен флаг;
- Ни барабан, ни лай собак
- Не возвестил, что близко враг,
- В одежды друга облаченный…
Когда Бату во время их последней встречи в пещере, произошедшей всего полгода назад, пожаловался, что молодой русский князь подружился с ним, стал доверять, но о власти, следовательно, об измене отцу, вовсе не помышляет, Горесев лишь ненадолго задумался, после чего неожиданно ответил:
— Ну и пусть.
— То есть как это пусть?! — возмутился такой загадочной уступчивостью старика хан. — Ты же сам говорил мне…
— Я говорил, что он в любом случае поможет тебе, — бесцеремонно перебил его тот. — От этого я не отказываюсь и сейчас. Он и впрямь поможет, — и тут же поведал хану новый план: — Своих сотников и тысячников, которые пойдут за камнем, ты пришлешь мне завтра. Я надену на них волшебные обручи и магические цепи, которые помогут им быть смелыми и не успокаиваться, пока они не достигнут цели. Ты же возьми от меня вот это, — он протянул Бату небольшой узелок.
— Что это? — опасливо спросил хан, стараясь не касаться свертка.
— Не бойся, — усмехнулся старик и развязал узелок, показывая его содержимое. — Это всего лишь снадобье. Будешь давать его Святозару, когда он окажется в твоем плену и потребуется, чтобы он выполнил твою волю.
— Оно заколдовано тобой или духами? — поинтересовался Бату, принимая от старика сверток. — Я это к тому, что даже великий шаман может ошибиться. Кто знает, на кого тогда накинутся духи, которые сидят в этих шариках.
Старик устало вздохнул.
Ну как объяснить этому глупцу, что даже человеческая мысль имеет вес, хотя и разный? Как растолковать, что любое слово имеет силу, но не каждое, а строго определенное, произнесенное в нужное время в нужном месте, как еще в детстве учил его отец?
— Эти знания перешли ко мне от предков, которые с помощью простого слова могли творить такие чудеса, что нам с тобой и не снились, — будоражил он воображение сына. — Я знаю лишь крохотную частицу того, что было ведомо им. Но и она неизмеримо больше всего того, что известно этим глупцам, согласившимся заживо и добровольно замуровать себя в горных пещерах. Они утверждали, что это запретный источник, вода которого отравлена, потому мне и приходилось пить из него украдкой. На самом же деле они просто не могли его освоить, боясь зачерпнуть оттуда хоть пригоршню, а когда узнали о моих успехах, в их сердцах разгорелась черная зависть, поэтому мне пришлось бежать. Я стар, но успею научить тебя всему, что знаю сам, и ты вернешься туда, но вернешься победителем, чтобы отомстить за нас обоих. Пока же накрепко запомни главное. Нет ни колдовства, ни волшебников, ни магии, ни ворожбы. Нет и не было ни джиннов, ни мангутов, ни дэвов. Просто если люди не могут что-то объяснить, то они начинают бояться. Пусть. Не пытайся им ничего объяснить, ибо они все равно не поймут и никогда не поверят. К тому же именно в их страхе заключается твоя главная сила. Сам же запомни, что в этом мире есть только знание. Когда ты столкнешься с непонятным, не пугайся и не думай, что увидел колдовство. На самом деле ты увидел то, чего просто не можешь объяснить, потому что не знаешь.
— Но отчего от одного твоего слова происходит то или иное? Разве это не заклинание? — робко спросил тогда юноша, ставший ныне таким же стариком, и получил горький ответ отца:
— Мне жаль тебя разочаровывать, но я знаю только, каков будет результат, если я произнесу тот или иной набор слов. Причины же, по которым все происходит, мне неведомы. Это не значит, что их нет. На самом деле всему есть объяснение, только я его не знаю. Вот за это я еще больше ненавижу глупцов, которые, сидя у источника Древних, не желают пить сами и не хотят дать пригубить страждущим. Если бы я смог беспрепятственно погрузиться в него, то знал бы не только это.
— А что еще? — затаив дыхание, спросил сын.
— Постигнув причины, я сумел бы сам составлять новые слова и достичь таких высот, о которых теперь могу только грезить, да и то очень редко.
— Это когда ты глотаешь вот этот шарик? — вновь задал вопрос сын, вспомнив, что именно тогда у его отца во время сна лицо становится блаженно-счастливым. Происходило это редко, не чаще раза в месяц, но тем отчетливее помнилось.
— Да, это случается именно тогда, — подтвердил отец. — Но нельзя забывать об осторожности. Сам подумай, если даже наши слова и мысли имеют силу, подчас огромную, то какой мощью обладает все, что нас окружает. Мне, увы, не дано разбудить силу, таящуюся в этом камне, — он небрежно хлопнул рукой по граниту стены. — Или в том, или, вон, в другом. Само по себе оно достаточно просто, но только если ты знаешь, как это сделать.
— А они разные?
— Они очень разные. И далеко не все зависит от величины самого камня. Бывают не столь большие, но такие, по сравнению с которыми мощь, таящаяся во всех этих скалах, — ничто, — он вновь похлопал по граниту. — Все равно, что сравнить еле видимую букашку с пардусом[52], которого мы не раз видели, гуляя среди скал. Это не простые камни. Впрочем, они все не простые, как и остальное, что окружает тебя, но эти выделяются даже среди них. Уничтожь их — и к народу, который живет в том месте, одно за другим будут приходить беды и несчастья. Но это еще полбеды. Люди утратят волю и не смогут противиться ударам судьбы. Они станут похожи на перекати-поле на степной равнине. Куда подул ветер — туда послушно покатится и она. Не знаю, сколько таких камней на земле. Думаю, немного, но где находится один — мне ведомо доподлинно. Еще лет двадцать-тридцать назад я мечтал дойти до него, чтобы уничтожить, но сделать это надо чужими руками, а меня волхвы русичей сразу почувствуют, едва я отойду от этих гор.
— Я выполню твою мечту, отец, — горячо заверил юноша.
— Только чужими руками, — строго напомнил тот. — Тебя распознают так же быстро, как и меня, и помешают это сделать. Вот мы и вернулись к тому, с чего начали, — горько усмехнулся он. — Я знаю, где этот камень, мне ведомо, что он дает людям, и мне доподлинно известно, что будет, если его разрушить. Но мне не дано понять тех сил, которые кроются в его глуби. Никогда.
— А эти шарики, они что — твои обереги?
— Нет. Просто в них тоже кроется сила. Но это — страшная сила. Она обволакивает человека ласково и нежно, подобно первым лучам летнего солнца, когда оно только появляется в небе. Зато потом, стоит человеку разомлеть, как случается страшное, и он уже становится не властен над собой. Их добывают из растений и цветов, которых здесь не увидишь. Лишь далеко-далеко за горами, — он небрежно указал рукой на юг. — Его привозят мне купцы. И странное дело, одно из этих растений цветет и там, на Руси, но в нем нет такой страшной силы. Возможно, как раз камень-оберег и защищает людей от нее, обезвреживая ростки еще в зародыше. Я расскажу тебе, как использовать эти шарики, чтобы люди стали податливы, словно кусок влажной глины в руках гончара.
«Теперь пришла пора научить правильно пользоваться этим снадобьем неукротимого злобного монгола, который, при всей своей храбрости и отваге, побаивается и меня самого, но особенно тех духов, которых я могу вызвать. Пусть боится и дальше, — мысленно улыбнулся старик. — Тем охотнее он проглотит любую нелепицу, которую я ему скармливаю вперемешку с правдой. Например, о том, что наши с ним жизни неразрывно связаны между собой».
— Слушай внимательно и не вздумай ошибиться, — строго произнес он. — Духи, которые заключены в этих шариках, очень строги и не потерпят ни одной ошибки. К тому же они своенравны, так что будь очень осторожен. Ты должен…
Едва показалась следующая после Оренбурга крепость русичей, названная ими простенько — Яик, как Бурунчи протянул Святозару один из полученных шариков.
— У тебя болезненный вид, — озабоченно произнес он. — Съешь его и сразу почувствуешь себя гораздо лучше.
Князь искоса посмотрел на небольшой катышек, который протягивал ему темник. Почти сразу в нем вспыхнуло немедленное желание взять его и быстро проглотить. Вот только он почему-то чувствовал, что сегодня этого делать не стоит.
Однако легкая ломота в костях, которую он ощущал с самого утра, так и не проходила, а катышек и впрямь помогал, хотя только на время. После того как князь его проглатывал, боль почти сразу же отступала, куда-то далеко в сторону уходили тоска и печаль, начинало казаться, что не все еще потеряно, что все еще можно исправить, что ему непременно удастся убежать из плена, что отец все равно его простит, не может не простить, что… Впрочем, можно сказать и одним словом — ему становилось хорошо.
К тому же к нему приходило не только душевное и физическое облегчение. После того как на третий день он принял очередной катышек, князю приснился дивный сон, наполненный такими радужными красками, которых не бывает даже наяву.
Но главное заключалось даже не в сочных ярких красках, а в том, как проходила его встреча с отцом, который был весел, еще веселее, чем год назад, в то время, когда он заключал мирный договор с Бату. Он улыбался, шутил, понимающе кивал, когда сын винился в том, что проиграл битву, утешал его, говоря, что никто не сумел бы сделать больше, чем Святозар.
Затем отец величаво снимал со своей головы царскую корону, которую надевал лишь при приеме иноземных послов, — во всех остальных случаях он обходился тонким венцом, а то и совсем узеньким золотым обручем с маленьким гордым соколом спереди, — и торжественно надевал ее на сына. Этот сон приходил к князю особенно часто, хотя были и другие, не менее приятные. Вот только пробуждение после увиденного становилось еще более горьким и безотрадным.
Однако сейчас он чувствовал, что нужно отказаться — слишком настойчив был темник, слишком слащаво он разговаривал со Святозаром. Словом, все было слишком, даже — чересчур. К тому же, даже если он и проглотит этот горьковатый на вкус катышек зеленоватого цвета, поспать ему все равно не удастся. И князь, уже инстинктивно потянувшийся к маленькому комочку, пересилил себя и презрительно отвернулся в другую сторону.
— Боишься, что отравлю, — усмехнулся Бурунчи. — Но ведь ты уже принимал это снадобье и всегда чувствовал себя гораздо лучше. Мне гораздо проще убить тебя, приказав зарезать или удавить.
— Я лучше потом, — проглотив слюну, стойко ответил Святозар. — Ближе к вечеру. К тому же вас все равно в крепость не пустят, а ночевать в чистом поле — невелика радость, — и злорадно ухмыльнулся, заметив, как разочарованно вытянулось лицо Бурунчи.
— Почему же не пустят? — осторожно осведомился темник. — Испугаться они не должны, ведь нас не столь уж много. Я повелел остальным тысячам отстать на целых два дневных перехода. К тому же с нами еще и ты.
— Вот я и повелю, чтобы вас не пускали, а встретили калеными стрелами, — пояснил Святозар.
— Ну что ж — нет так нет, — равнодушно пожал плечами Бурунчи. — В поле, так в поле. Только где бы мы ни ночевали, но если ты сейчас его не съешь, то вечером все равно ничего не получишь.
— Это почему же? — забеспокоился князь.
— Потому что я его сейчас выброшу, — мстительно выпалил Бурунчи и злорадно ухмыльнулся — стрела его слов пришлась точно в цель. Чтобы понять это, достаточно было посмотреть на лицо Святозара.
— Не надо выбрасывать, — глухо попросил князь, сам стыдясь этого унижения, но не желая лишиться заветного катышка.
Успокаивала его лишь мысль о том, что, может, и впрямь хорошо его принять. Мгновенно уйдет ломота в костях, ощутимо прибавится сил во всем теле, а там как знать, авось удастся удрать от назойливого конвоя. Пришпорить скакуна и — поминай как звали. До стен рукой подать — версты две, не больше.
А не выйдет — ну что ж. Воин, да еще русич, должен понимать — раз не вышло, стало быть, не было суждено. Стрела, пущенная вдогон, это больно, он знает, даже когда она впивается в руку или в мякоть бока. Но выдержать боль он сумеет, не впервой. Правда, если под лопатку, то это гораздо больнее, зато недолго терпеть, да и лучше смерть, чем такая жизнь.
— Давай его сюда, — произнес он почти весело, окончательно успокоившись и твердо решив попытать счастья.
Все произошло как он и ожидал. Ломота и впрямь ушла, наступила какая-то легкость во всем теле, и даже глаза стали видеть зорче. Или это показалось? Да неважно. Гораздо хуже оказалось другое. Стоило ему только напрячься, чтобы с силой ударить коня в бока, как тот же Бурунчи справа и еще один — как его, Кайшу, вроде — слева, плотно стиснули Святозара с обеих сторон, а темник на всякий случай еще и перехватил поводья княжеского коня.
— Не балуй, — предупредил он чуточку насмешливо.
Да Святозар и сам видел, что «баловать» не стоит. Во всяком случае, не сейчас, потому что спереди, будто спинами почуяв что-то неладное в княжеском поведении, сгрудился добрый десяток всадников, а у него… у него даже сабли под рукой нет. С одной лишь легкостью в теле через этот десяток не пробиться, каким бы ты ни был богатырем.
— Ишь, какой норовистый, — с удивлением заметил Бурунчи. — Я хотел было дать тебе еще один, — он разжал кулак и показал другой катышек, который выглядел даже покрупнее первого. — Темнеет, — пояснил темник причину своей щедрости. — Вдруг и впрямь придется в степи ночевать. Не хочу, чтобы ты заболел. Теперь боюсь. Если у тебя добавилось столько сил от одного шарика, сколько же появится от двух? Пожалуй, нельзя его тебе давать.
«А если и впрямь прибавится? — мелькнуло в голове у Святозара. — Может, тогда получится вырваться? Как говорила мать великого воеводы, чем черт не шутит, пока бог спит, а когда он спит — никому не ведомо».
— Испугался, значит, — усмехнулся он, стараясь, чтобы это выглядело как можно презрительнее. — Не думал я, что у Бату служат такие трусливые темники. Одного безоружного русича целая тысяча стережет. — Он оглянулся назад. — Да что тысяча. Почитай, цельных две, и то боишься, что не удержишь.
Бурунчи помрачнел.
«Ага! Не понравилось!» — возликовал Святозар и с невинным видом добавил:
— Наверное, если бы я ехал вместе с еще одним из своих воев, так Бату все четыре отрядил бы нас сторожить.
Сотник заметно колебался. Его рука с катышком уже потянулась к князю, но в нерешительности застыла на полпути и стала понемногу двигаться обратно.
— А может, он тебе не доверяет, а? — быстро выпалил Святозар и тут же сам ответил: — Ну, точно, так и есть. Как это я сразу не догадался?!
— Ничего я не боюсь, — рявкнул Бурунчи и резко протянул катышек князю. — На, бери. Подумаешь, багатур сыскался. Да я, если хочешь, еще один тебе дам, и все равно ты никуда от меня не сбежишь. Видал я таких.
— Может, и не сбегу, — примирительно заметил Святозар, и осторожно, чтобы не уронить, взял зеленоватый шарик. Мешкать он не стал, а то еще передумает нехристь, и мигом кинул его себе в рот. Жуя горькую, вязковатую, как глина, массу, он с удовлетворением убедился, что глаза его не обманули — второй катышек и в самом деле был гораздо больше, чем первый. Теперь осталось не спешить, дождаться, когда пойдет прилив сил, а уж потом и действовать.
Но перед глазами князя все вдруг поплыло, ему стало неожиданно весело, да так, что он заливисто засмеялся. Чудные проплешины на снегу и впрямь были смешными, напоминая что-то забавное, но что именно — вспомнить никак не удавалось.
Святозар хотел было спросить об этом у своего спутника, едущего рядом, — может, тот припомнит, но, глянув на Бурунчи, засмеялся еще сильнее. Уж очень глупо выглядело его удивленное лицо, полуоткрытый щербатый рот, в котором не хватало зуба. Ха-ха, кто же его выбил-то? Кулаком, что ли? Вот бы посмотреть! Хотя зачем смотреть, если можно представить. Это же так легко. Вот Бурунчи, славный малый, а вот кто-то большой с огромным кулаком, ой, сейчас умру от смеха.
Святозар склонился к луке седла и задыхался от гомерического хохота, настолько ему было весело.
— Я не обиделся, — вкрадчиво прошептал ему на ухо темник. — Мы же друзья, да? А разве на друзей таят обиду, правда?
Князь, икая, только молча кивнул, полностью соглашаясь с этим чудным добродушным человеком. Действительно, как можно сердиться на друзей. Может, и он кому-то покажется смешным. Он же не видит себя со стороны. А интересно было бы посмотреть на себя. Святозар на секундочку представил, как бы оно выглядело, и впрямь сумел увидеть себя чуть сбоку. Зрелище показалось настолько забавным, что он вновь согнулся от очередного приступа хохота.
— А в крепости тоже сидят твои друзья, — вкрадчиво нашептывал сотник. — Сейчас мы въедем туда, и они тоже посмеются вместе с тобой. Крикни им, чтобы они открыли ворота.
— А и правда, — икнул очередной раз Святозар. — Вместе смеяться еще веселее, — и в перерыве между приступами весело и громко гаркнул:
— Открывай ворота! Кто-кто — я это! Сейчас… — Он хотел тут же, не дожидаясь, пока ворота откроются, поделиться своим хорошим настроением, но забавные фигурки на стенах так чудно засуетились, что он успел лишь приветственно махнуть им рукой и вновь в приступе хохота склонился к луке седла.
Тяжелые, щедро обшитые кованой медью, створки ворот Яика с протяжным похоронным скрипом стали открываться, впуская князя, необычайно веселого сегодня.
— С победой, Святозар Константиныч, — поздравил его препотешный ратник у ворот. — Никак…
А больше он ничего не успел сказать, потому что гости, едущие с князем, приступили к своему традиционному веселью, едва первые десять рядов втянулись в крепость. Впрочем, гадюке не обязательно вползать целиком в горницу. Она может кинуться кусать и с порога — была бы добыча. Здесь же добычи хватало.
А князь все смеялся и смеялся. Люди так чудно бегали друг за другом, так бестолково отбивались, забавно падали со стрелами в спинах, неуловимо напоминая ежиков, только старых, у которых осталось совсем мало иголок. Один уродливо растопырился посреди дороги, так забавно кричит, разевая рот. Жаль только, что среди всеобщего шума и гама не разобрать слов. Очень жаль. Они же, наверное, ужасно смешные. А если прислушаться?
Князь напряг слух, и вдруг прямо в его уши врезался последний выкрик:
— Будь ты проклят, Иуда!
И почти сразу же откуда-то сбоку, словно отголосок эха, еще один голос, звонкий, пронзительный и резкий, как удар сабли:
— Вовеки проклят!
«Это они кому? — опешил Святозар. — Не может быть, чтобы мне. Они просто не поняли, а я не успел им рассказать, как смешно на все это смотреть. Ну, к примеру, вон на того, который еще отмахивается от трех наседающих на него монголов… Они же все друзья. Это же все для смеха, как бы шутейно. Непонятно лишь, почему он сам не смеется, а кричит так, будто его князь совсем глухой. Нет, Святозар вовсе не глухой, он прекрасно слышал, что тот выкрикнул перед тем, как упасть: «Проклят!» А кто? За что? Ничего не сказал. Загадка? Для смеха?»
Святозар оглянулся по сторонам и вдруг как-то неожиданно осознал, что ничего смешного тут нет, да, пожалуй, и не было. И кровь, и стоны, и стрелы в спинах — это все настолько всерьез, что дальше некуда, что павшие не поднимутся с земли, как и раненые, потому что вот эти поганые вонючие басурмане сейчас обходят их и деловито добивают стонущих.
«Да кто же их впустил в крепость?! — возмутился он, побледнев от негодования. — Как эти жалкие человечишки сумели оказаться внутри?!»
И тут же вспомнил: «Ворота! Они сами открыли для них ворота! Господи, какие глупцы! Они, что — ослепли?! Они не видели, кто перед ними?! Кто повелел так сделать?!»
И в ту же секунду к нему пришел ясный четкий ответ: «Ты!»
Поначалу он даже отмахнулся от этой беспощадности, но внутренний голос не утихал, звеня и перекликаясь, то звонко-насмешливо, то грозно-негодующе: «Ты! Ты!! Ты!!!»
В ужасе князь заткнул уши, но ему стало еще хуже, потому что раздался выкрик, который он на самом деле слышал последним:
— Проклят! — И тут же с разных сторон, наперебой: — Вовеки проклят! Будь ты проклят, Иуда!
«Это я — Иуда?!» — возмутился он, но тут же обмяк, с ужасом осознав, что да, именно он и никто другой, и именно Иуда, и еще Каин, потому что сейчас на его глазах убивали его братьев по оружию, по тому истинному боевому братству, которое не сравнить и не спутать ни с каким другим, потому что оно выше любого. Выше, чище, красивее и горделивее. Их убивали, а он и пальцем не пошевелил в их защиту. Их убивали, а он в это время… смеялся.
«Господи! Да я ли это был! Мне ли виделось все таким забавным?!» — взвыл он.
Лицо его словно окаменело, цветом уже ничем не отличаясь от девственно чистого снега, который намела недавняя вьюга в крепостной ров с замерзшей водой.
Где-то глубоко внутри него уже клокотал дикий звериный крик, который все шел, но никак не мог вырваться наружу. Святозар знал, что когда он вырвется, то ему полегчает, пусть немного, самую капельку, но хоть сколько-то. Ведь нельзя же держать в себе такой огромный воз боли, такую дикую ярость, злобу и ненависть, направленные только против себя самого, потому что истинно виноватых, кроме него, нет.
Монголы? Бурунчи? Да, они враги, подлые и грязные. Они и действовали, как им надлежит, — подло и грязно. Тут как раз нечему возмущаться и не на что злиться. Они поступили согласно своей породе, потому что змея одинаково кусает и тех, кто наступит ей на хвост, и тех, кто отогревает ее на груди. Но вот он, Святозар, князь и сын царя всея Руси Константина Володимеровича…
«Стоп! А как же батюшка?! Его-то я за что опозорил?! Ему же теперь вовеки от клейма отца Иуды не отмыться! Господи! — взмолился он, устремив налитые слезами глаза в небо. — Услышь меня! Пускай потом муки адские! Так мне и надобно! Но сделай ты хоть что-то сейчас со мной! Нешто можно такое стерпеть!»
Святозар же иуда, корыстию влекомый, повелел пустить нечестивых в град Яик, и вошед в детинец поганые и избита воев Яика, а Святозар зрил оное и ликовал великыя радостию и смехом громким. Тако оному человеку и на роду бысть начертано, ибо сказано в Писании: «от греховьнаго бо корени злу плоду бысть».
Из жития самодержца Константина, писанного Софронием РязанскимИздание Российской академии наук. СПб., 1805
Глава 9
Союз против союза
Н. Заболоцкий
- И бегут, заслышав о набеге,
- Половцы сквозь степи и яруги[53],
- И скрипят их старые телеги,
- Голосят, как лебеди в испуге.
Мультек — властолюбивый брат хана Волжской Булгарии, не угомонился и после того, как стало окончательно ясно, что на ханском престоле ему не бывать. Одно время он еще питал надежду на то, что является наследником брата, у которого нет сыновей.
Но вначале родила старшая дочь Абдуллы, вышедшая замуж за царевича Святослава. Потом, буквально на следующий год, две жены Абдуллы с разницей в пару месяцев осчастливили его сразу двумя сыновьями — Алимбеком и Алтынбеком. Это был полный крах.
Мультек затих, но успокаиваться не собирался. О том, чтобы совершить переворот самостоятельно, он даже не помышлял, ибо — глупо. Брат показал себя властным, но рачительным хозяином, да и не на кого Мультеку было опереться.
Купеческое сословие, которое всегда было весьма влиятельной силой в торговой Булгарии? Об этом не стоило и мечтать. Они-то как раз чуть ли не самыми первыми оценили все выгоды мирного соглашения с Русью и воцарившиеся на Волге порядок и спокойствие. Пусть за это надо отдельно платить русскому царю, но эти гривны себя полностью окупали.
Особенно их потрясло, когда за разграбление бул-гарского каравана люди Константина, не долго думая, вздернули на крепких пеньковых веревках лихих новгородских ушкуйников, пойманных на татьбе с поличным. Коли русичи вешают русичей за обиду, причиненную булгарину, это дорогого стоит. К тому же больше грабежей не было.
А взять волок между Волгоградом и Волгодонском, благодаря которому можно было неизмеримо быстрее попасть в тот же Константинополь и другие города Средиземноморья. За счет такого удобного пути времени экономилось чуть ли не втрое, а что такое скорость оборота — скажет всякий маломыслящий в торговом деле.
Помимо этого каждый булгарский купец имел немалые льготы. Все, кто получал от Абдуллы особую грамоту с внушительной ханской печатью, платили меньше пошлин. На самом деле скидка была не ахти какая — с двух десятков кун экономилась от силы одна, а то и того меньше, но зато какую гордость испытывали они, протягивая на переволоках эту грамоту. Мы — не кто-нибудь, а из Волжской Булгарии, за нашей спиной не только хан, но и русский царь.
В свое время Зворыка пытался урезонить Константина, говоря о том, что легота своим купцам — дело доброе, но зачем же давать ее булгарам, пусть и гораздо меньшую? Мол, не погорячился ли ты, царь-батюшка. Разговор был один на один, а потому старик получил достаточно откровенный ответ:
— Зверька, особенно если он тихий, лучше приручать лаской. И быстрее, и царапин меньше, — заговорщическим шепотом произнес Константин и хитро подмигнул.
Зворыка только крякнул от неожиданности — ишь как далеко глядит государь — и больше разговоров об этом никогда не заводил.
Словом, с купцами о таком лучше не заикаться, потому что если не этим вечером, так следующим наверняка о его неосторожных словах будет знать ненавистный Абдулла. Тогда что? Попытаться обратиться к духовенству? Мультек попробовал, осторожно давя на то, что его брат стал некрепок в вере, коли позволяет строительство храмов для иноверцев, да еще оплачивает его из собственной казны.
Но и тут его ждала неудача. Настоятели мечетей и прочие духовные лица, разумеется, морщились, когда в их городах стал раздаваться радостный звон колоколов, зовущих православных на службу в храм. Морщились, но натравливать прихожан на иноверцев не спешили.
Купцы немало понарассказывали об ужасах, которые творились в Бухаре, Самарканде, Ходженте, Мерве и в прочих местах, на которые вихрем налетела прожорливая монгольская саранча. Да, конечно, потом Чингисхан повелел не трогать мечети, ма-зары и другие святые для мусульман места, но поначалу его воины несли только кровь и смерть, огонь и разрушение, оставляя за собой горы трупов и огромные пепелища.
А для кого поставлены эти храмы? Разумеется, в них может помолиться любой человек, исповедующий православие. Но в первую очередь они выстроены для русских воинов-пушкарей, то есть защитников булгарских городов, и настраивать против них жителей не собирался ни один имам.
Тем более что в каждом городе три четверти населения так или иначе завязаны на торговле — либо изготавливали товары, как ремесленники, либо напрямую осуществляли торг ими. Если сегодня пушкарей изгнать из города, неизвестно, что сотворит в отместку царь Константин. Хотя, нет, это как раз известно. Нехорошее он сотворит, очень нехорошее. Такое, что мало никому не покажется.
Нет уж, пусть себе звонят колокола, и пусть в православных храмах молятся люди, закосневшие в своем невежестве, почитающие человека не за пророка, пусть и великого, равного самому Мохаммеду, но за бога[54]. Им же хуже, ибо на том свете, под тяжестью своих грехов, они непременно свалятся с Сираха[55] и никогда не смогут упиться благоуханным райским вином и насладиться пышногрудыми красавицами гуриями.
У Мультека оставалась только одна надежда. В каждом государстве, как бы оно ни процветало, как бы хорошо ни жили его граждане, всегда есть недовольные, причем не те, кто пребывает внизу, но те, кто вверху. Завистливые по своей натуре, они всегда будут возмущенно ворчать, считая, что их незаслуженно обошли, обделили, а другим дали гораздо больше.
К сожалению для Мультека, помимо злого языка, они не имели никакой реальной силы. Но зато кто-то из них в недобрый час сумел подсказать брату хана неплохую мысль — если Абдулла имеет сильного союзника, то и ему, Мультеку, неплохо обзавестись таким же. Тогда один союз нейтрализует другой. А еще лучше, если не только нейтрализует, но и перевесит силы прежнего.
Особого выбора Мультек не имел. Лишь одно государство было настолько мощным, что могло не просто на равных соперничать с Русью, но и одолеть ее. Во всяком случае, он, Мультек, не слыхал, чтобы эта держава хоть раз проигрывала, кто бы ни был ее врагом. Отдельные битвы — да, это случалось, но войну в целом — никогда.
Словом, не прошло и полугода, как эмир послал первого тайного посла к великому каану Угедею, затем второго, третьего… Наконец Бату, два года назад прибывший из далеких земель бывшей империи Цзинь, прислал с надежным арабским купцом ответную тайную грамотку. В ней говорилось о том, что правитель улуса, которому его великий дед подарил земли всех этих стран, включая Волжскую Булга-рию и Русь, готов милостиво склонить свое ухо к просьбам Мультека.
Более того, хан Бату готов выслать свои тумены, дабы скинуть непокорного Абдуллу, а заодно и Константина, которые забыли, что даже дышат лишь потому, что это дозволяет им его дядя — великий ка-ан Угедей. Но он, Бату, мириться с этим не желает. Однако и Мультек должен быть готов оказать ответную помощь. Разумеется, хан справится со своими врагами и без него, потому что никто и никогда не сможет устоять перед неустрашимыми монгольскими туменами, но в этом случае эмир не должен ни на что рассчитывать.
Переписка длилась вплоть до злополучной битвы близ Оренбурга, после чего очередной вестник на словах передал Мультеку краткое повеление Бату: «Я уже иду. Делай то, что обещал».
И Мультек начал делать. Сперва он уговорил брата Абдуллу остаться в Биляре, ссылаясь на то, что если тот покинет столицу, то в городе незамедлительно начнется паника.
— Но кто поведет наших воинов, если не я? — растерялся хан.
— А если Бату окажется хитрее и сумеет перехватить их на полпути к Сувару? — коварно осведомился Мультек. — Это же верная смерть. И на кого останется вся страна? Или ты предпочитаешь доверить двух сыновей мне, своему брату? — И проницательно посмотрел на Абдуллу, заранее зная, что тот ответит.
Угадать и впрямь было не трудно. Хан, да простит ему аллах такие греховные мысли, скорее согласился бы доверить сыновей иблису, чем своему единокровному брату Мультеку.
— Хорошо, полки поведешь ты, — кивнул Аб-дулла.
— Я сделаю все, чтобы задуманное осуществилось и победа была одержана, — торжественно поклялся Мультек, но Абдулла даже не понял, насколько двусмысленно прозвучали слова брата.
В полной мере хан осознал это, лишь когда до него дошла горестная весть о том, что Мультек намеренно подвел войско вплотную к туменам Бату и потребовал от воинов, чтобы они принесли присягу ему, Мультеку, который обещает защитить и их, и страну от монгольского разорения. Часть недовольных была быстро перебита, а остальные, видя плотное кольцо окружения, готовое вот-вот раздавить их, выбрали жизнь, хотя вместе с нею им пришлось принять еще и предательство.
Первая встреча с Бату не обрадовала булгарина. Хан вел себя с Мультеком надменно, как с обычным данником. Зато он привел с собой огромное войско, самодовольно похваставшись, что это лишь половина его воинов, а остальных Гуюк, Кулькан, Менгу и прочие чингизиды увели прямо на Рязань. — Но для твоего брата вполне хватит и моей половины, — усмехнулся Бату.
Увидев, сколь велика даже эта половина, эмир Волжской Булгарии понял, что не ошибся и сделал правильный выбор — такой силе противопоставить навряд что возможно.
Первое, что потребовал монгольский хан от Мультека, так это то, что Сувар должен дать дань и открыть ворота. На последнем Бату не настаивал бы, но Сувар имел на стенах пушки, а что такое «огненный бой» в умелых руках, Бату успел понять еще летом, когда русские полки, присланные на учебу к берегам Яика, устроили небольшую пристрелку.
— Грохоту много, и если человек труслив душой, то напугать его это может. Но испуг быстро проходит, а если у воина храброе сердце, то его не будет вовсе. Тогда зачем все это? — снисходительно усмехнулся Бату, уже сталкивавшийся с подобным в ходе войны с чжурчженями[56].
Те тоже бестолково суетились возле своих деревянных колод, туго стянутых веревками, что-то там поджигали внутри, после чего стволы иногда разрывались, а иногда оттуда вылетали мелкие камни и прочая дребедень, которую туда закладывали.
Летели они недалеко, да и причиняли в основном легкие ссадины и царапины. Лишь в очень редких случаях, ну, скажем, когда камень попадал в висок, следовала смерть человека. Бату впервые повстречался с ними при взятии одной из столиц империи Цзинь, то ли Кайфына, то ли Цайджоу, и вначале пришел в восхищение.
Однако оно быстро развеялось. Для этого хану хватило всего одной короткой беседы с даругачи[57] камнеметчиков Аньмухаем, который имел золотую пайцзу с головой тигра[58] от самого Чингисхана. Со-трясатель вселенной не раз советовался с ним, какие камнеметы лучше применить при взятии того или иного города.
— Они подобны глупому зверю, который, рассвирепев, может убить как своих, так и чужих, — презрительно отозвался об этих китайских колодах Ань-мухай. — Куда лучше огненные стрелы[59], которые ты запускаешь своей рукой и можешь поджечь ими дома в любом городе.
Его поддержал и Сили Цяньбу, пояснивший, что те же огневые кувшины[60] приносят гораздо больше пользы, а закинуть их в город может любой камнемет.
— А если надо пробить стену или взломать городские ворота, то тут тоже лучше хуйхуйпао[61] ничего не найти. Он мечет камни недалеко, но зато очень тяжелые, в пятьдесят — шестьдесят и более дин[62], а что может это ничтожество?
Бату вопросительно посмотрел на Аньмухая. Си-ли Цяньбу происходил из змеиного племени тангу-тов. Он добровольно перешел на службу к его деду, но юный хан тангутов не жаловал и, как следствие, не больно-то им доверял. Аньмухай же был чистокровным монголом из рода баргутов, и его словам можно верить, к тому же он даругачи всех камнеметчиков, а значит, стоит выше Сили Цяньбу. Но Аньмухай подтвердил истинность слов тангута, и Бату их запомнил.
Поэтому он сперва и отнесся к русским пушкам так насмешливо, сочтя всю эту пристрелку лишь жалкой попыткой произвести на него впечатление, но Святозар искренне обиделся и предложил Бату проверить орудия в деле:
— Поставь в то место овечью отару, если тебе ее не жалко.
Хан пожал плечами, но на следующий день через русского князя приобрел у местного племени — не везти же скотину через Яик — два десятка овец. Сразу после первого выстрела Бату смог убедиться в том, что картечь сделала свое дело, повалив больше половины отары.
«А если бы на том месте были кони, а на них — мои люди? — подумал хан. — И ведь с одного-единственного раза. Бр-р-р», — и передернулся.
Было с чего.
С таким грозным оружием каан Руси Константин и его люди и впрямь могли держать голову высоко и никого не бояться. До поры до времени.
Он тут же отправил гонца к Угедею с просьбой прислать ему вместе с обещанными туменами еще и мастеров камнеметного дела, которые, как пообещал хан, смогут не только помочь, но и сами кое-чему научатся.
Великий каан не поскупился, выслав ему Сили Цяньбу, Сюэ Талахая и многих других знатоков этого дела. Правда, Аньмухай не прибыл, но зато прислал вместо себя сына Тэмутара, которого Бату, не долго думая, назначил даругачи надо всеми остальными.
Они-то и должны были после взятия Оренбурга как следует разобраться в устройстве пушек и решить, как их дальше использовать. К сожалению, после одержанной победы в живых не осталось ни одного русского пушкаря.
Когда последовал стремительный удар в спину русского войска, то две сотни воинов, которые предназначались для защиты пушкарей, несмотря на внезапность, сумели на какие-то секунды сдержать натиск врага. Этих коротких секунд воеводе Богораду, началующему над всеми пушкарями, хватило на то, чтобы подбежать к запасам огненного зелья и ткнуть в него горящей головней, выхваченной из костра.
Его не смутило, что почти все пушкари находились поблизости от саней с припасами, а некоторые, чтобы лучше разглядеть творящееся впереди, даже забрались на них. К тому же у него имелся строгий приказ государя, который и без того мог быть выполнен лишь наполовину — пушки все равно попали к монголам. Но уж вторую половину Богумир выполнил — попасть-то они попали, но без огненного зелья и без единого умельца, способного на первых порах разъяснить мастерам-камнеметчикам, как с ними обращаться.
Про Оренбург же Бату и не давал никакой особой команды относительно пушкарей — кто ж знал, что их не удастся заполучить в том войске. Получалось, что надо разбираться самостоятельно, а это гораздо дольше.
Бату на всякий случай повелел опросить урусов, уцелевших после резни, учиненной в крепости. Повелел, даже не надеясь на что-то хорошее, но тут судьба преподнесла ему подарок. Знающий человек и впрямь нашелся. Назвавший себя Гайраном в обмен на жизнь и мешок золотых монет пообещал научить монголов «огненному бою».
О том, что случилось дальше, хан не хотел даже вспоминать. Страшное зрелище предстало перед глазами Бату, когда он, услышав чудовищный грохот, самолично поднялся на стену. Какую именно каверзу сотворил пушкарь, было неясно, а узнать не у кого — Гайран погиб вместе со всеми китайцами, чжурчженями и прочими знатоками камнеметного дела. Не нашли даже его тела. Да и немудрено. Он находился ближе всех к злополучному орудию, а потому ему и досталось побольше остальных. Впрочем, это было слабое утешение, поскольку прочим тоже перепало изрядно.
Кислый запах огненного зелья витал в морозном воздухе, смешиваясь с тошнотворной вонью человеческой крови и вырванных внутренностей. Не уцелело ни одного человека из числа тех, кто находился рядом с пушкарем, включая Тэмутара, который руководил всеми.
Гайран все рассчитал отменно. Он поминутно спрашивал у Тэмутара, не обманет ли его великий хан при расчете, сдержит ли свое обещание про мешок золота, да как велик этот мешок, вызвав к себе легкую брезгливость и окончательно притупив бдительность. К тому же знатоки не боялись страшного грохота, поскольку и раньше не раз сталкивались с порохом, а потому все, как один, пожелали присутствовать на испытаниях.
К тому же он так важно распинался о том, как хорошо он ведает в пушкарском деле, так деловито рассказывал о всех пропорциях, которые нужно закладывать, что не верить ему не имело смысла. Не утаил он и об особенностях стрельбы.
— Ежели надобно отбиться от воев, лезущих на стены, — тут послабже заряд, — вещал он уверенно. — А ежели огнь требуется вести тяжелыми чугунными ядрами, дабы пробить ворота али сотворить дыру в стене, — тут уж от души бухай, но тож с умом. Однако у нас в народе сказывают, что лучше разок узреть самолично, нежели сто раз про то услыхать. Вот я покажу, а вы и сами все поймете.
Проведав, что Тэмутар у монголов за главного, Гайран сделал все, чтобы тот погиб в первую очередь, поставив его рядом с собой. Да и остальных он разместил таким образом, чтобы шансов на спасение у них не осталось. Что уж он там им наплел — теперь не расскажет никто, но воины из числа часовых, стоящих неподалеку, видели, что храбрый Тэмутар даже нагнулся к орудию, когда пушкарь поджигал фитиль.
Это был уже второй выстрел — первый произвели картечью. Затем, чтобы показать наглядно, как ядро сносит ворота, Гайран попросил установить в степи их подобие, после чего заложил в пушку целых пять мешочков с порохом.
Он не допустил ошибки. Никто из монголов не мог и предположить, что в каждом из этих кульков уже содержится строго отмеренное количество пороха, достаточное для выстрела, что закладка даже двух мешков одновременно уже чревата, невзирая на имеющийся у пушек запас прочности, а пять — это чистой воды самоубийство, причем самоубийство, совершаемое наверняка…
Но всего этого Бату не знал и потому, справедливо рассудив, что где сыскался один Гайран, там непременно найдется и второй, решил поступить следующим образом. Оставив пять сотен в Оренбурге, он, не желая тратить время, забрал с собой все пушки и ядра, которые имелись в крепости, а Святозара вместе с княжичем Николаем направил в Яик. Их сопровождал тумен Бурунчи.
Темника он строго-настрого предупредил, чтобы тот не поступал так безрассудно, как тысячник Кар-ши, не вырезал всех огульно, а часть оставил бы в живых. Главное же, чтобы он как зеницу ока берег самого князя, которому теперь отводилась чуть ли не самая главная роль как в захвате Яика, так и в последующей работе с пленными пушкарями, которых надо заманить, улестить, соблазнить и прочее — лишь бы они согласились вступить в монгольское войско.
Срок хан отвел для Бурунчи на все про все самый малый — две недели. Учитывая, что расстояние до Яика составляло не меньше шести дневных переходов — и впрямь впритык. Бурунчи клятвенно заверил Бату в том, что управится, но что еще ему оставалось?!
Пока же они не прибыли, Бату мог только пугать противника этими пушками, которые он вез в своем обозе, а вот воспользоваться новым оружием — увы. Дожидаться же Бурунчи ему не хотелось, тем более представлялся удобный случай овладеть крепостью без боя.
Немного подумав, он смягчил требования для жителей Сувара:
— Ворота пусть откроют лишь для того, чтобы выдать мне русичей, вместе с их пушками и припасами. Сам же я заходить в город не собираюсь.
Обо всем этом Мультек и сказал старейшинам и имамам. Ну и от себя немного прибавил — не без того. Мол, не глупцы же вы — пропадать из-за каких-то русичей. Пользуйтесь, пока хан такой добрый.
По здравому размышлению жители так и поступили бы. В конце концов, своя рубаха к телу завсегда поближе. Коли чужой жизнью можно откупиться — цена невелика. Потом что угодно кричи, предатели, мол, клятвопреступники и прочее. Ответ на все это готов — зато мы живые.
И про предательство, если уж так разбираться, — напраслина. Они сами ничего никому не обещали и клятвы на верность не давали. Хан Абдулла с царем Константином уговор заключал — вот с него и спрашивай. А мы что ж — люди маленькие.
Да и кто сумеет отбиться от такой силищи? Вот и выходит, что этим пушкарям, когда город возьмут, все одно пропадать, только тогда уже вместе с ними самими. А не лучше ли, чтобы эти русичи, как оно в их святых книгах прописано, сами на себя мученический венец надели? Их пророк Христос, которого они по недомыслию считают богом, за такое на том свете непременно всем воздаст, да еще с лихвой. Стало быть, и им хорошо будет на небесах, и нам неплохо.
Но Мультек забыл одно. Дело-то происходило в Суваре. В любом другом городе, кроме разве что Саксина, именно так все и вышло бы, а тут…
Давняя это история. Когда-то булгары жили вроде и дружно, но каждое племя все равно на своей территории. Барсилы больше селились по правобережью Камы, они же основали и город Биляр. Эсегелы жили вниз по Итилю[63], их столица называлась Ислой или еще Ошелем.
Сувары же размещались чуть южнее барсил, но севернее эсегелов. Словом, посередке. Самый главный град у них так и назвался по имени племени — Сувар. Напротив них, на правом берегу Итиля, сидели бургасы, о прочих же говорить долго, да и ни к чему. Речь о другом.
В те же стародавние времена у племен шел негласный спор — какое из них главнее. А как его разрешить? Да проще простого. Из какого племени эмир или хан, как его в народе называли, у того и старшинство. И как-то так вышло, что ханы все больше из барсил были. Они и сами о том не забывали, именовали себя ханами булгар и барсил, то есть все прочие племена в кучку, а свое — наособицу. А потом для солидности и еще кое-что придумали — мы-де из рода серебряных булгар. А все прочие — медные, что ли?
Дольше всех этому возвышению барсил противились именно сувары. У вас Биляр, а у нас Сувар, вы в Булгаре, а мы в Саскине. Однако лет двести назад и они сдались, признав над собой верховенство властителя Булгара.
Но при правлении последнего хана в них вновь проснулась гордость, поскольку по отцу Ильгам ибн Салиху Абдулла был самым настоящим барсилом, зато по матери он доводился сродни жителям Сувара.
Если бы у Мультека мать тоже была суваркой, тогда еще куда ни шло. Но у них с Абдуллой родство имелось лишь по отцу, а потому очень уж обидно показалось горожанам. Пришел из степи какой-то неведомый чужак и начинает свой порядок устанавливать — ни за что одного хана скидывает, другого ставит, дань требует, да еще с Русью рассорить норовит.
А наш родной хан Абдулла, между прочим, старинную клятву дал князю Константину, который тогда еще в князьях хаживал, да не простую, а священную[64]. Ее нарушить нельзя, Аллах не простит.
Так что теперь получается — камень всплыл, или, может, хмель утонул? А если нет, тогда разве могут они с русичами так поступить? Или суварцы наособицу от хана? Да нет, наоборот как раз.
Начинались разговоры тихо, мирно, степенно, без излишней суеты, как и подобает торговым людям. Закончились же криком, шумом, гамом… как и подобает торговым людям. Словом, отправили горожане людей Мультека обратно несолоно хлебавши. Можно сказать, послали, и лишь Аллаху ведомо — куда именно. Ишь, нахватались от пушкарей.
К тому же хан Абдулла по совету и примеру русского друга успел за два десятка лет одеть стены самых крупных своих городов в каменные рубашки, хотя сделать это было задачей не из легких. Абдулла из-за этого вынужден был даже отказаться от строительства насыпных валов по рекам Черемшану, Кондурае, Ику и Шешме.
А куда деваться, если только периметр стен столицы Булгарии — Биляра составлял около шести километров, а у града Булгара и того больше. Но чего у местных жителей было не отнять, так это трудолюбия. Если уж даже лентяй, когда речь идет о сохранении собственной жизни, не задумываясь, закатает рукава и будет вкалывать до седьмого пота, то что уж говорить о булгарах.
У хана Абдуллы стимулов имелось целых два. Помимо того, что камень и впрямь прочнее дерева, царь обещал выделить на каждый из перестроенных городов не меньше десятка пушек, отливать которые булгарские ремесленники еще не умели, а Константин учить их этому не спешил.
Слово он свое сдержал с лихвой. Для Сувара государь дополнительно выделил еще двадцать малокалиберных орудий, специально приспособленных для ведения фланкирующего[65] огня картечью из башен, выступающих из стен.
На Биляр и Булгар он дал и вовсе по пятьдесят, отчего Вячеслав даже ворчал на друга, поскольку такого количества не имели даже его войска. Первую полусотню малокалиберных полевых пушек верховный воевода получил давно, еще лет семь назад, но после этого все орудия отправлялись только в города, да и то…
Санкт-Петербург, Динаминде с Ригой и Ревель на севере, Судак, Азов, Корчев и еще пяток городов в Крыму, а также Дербент на Кавказе, Ярославль, Червень, Ростиславль Красный на Пруте и Дунайск в устье Дуная их имели, а вот внутри страны пушками ощетинились лишь стены Рязани, Ряжска и Ожска, да еще Мурома — из-за близости с неспокойной мордвой, а также Нижнего Новгорода, который также считался рубежным городом.
Восточные форпосты на Волге и Яике, разумеется, тоже получили артиллерию, причем в первую очередь. Сразу после них Константин принялся снабжать орудиями своего союзника, но пушкарским делом в Булгарии заправляли исключительно присланные русичи.
Для их проживания в своих городах Абдулла выделил по целому кварталу. В них же разместились литейные мастерские, в которых десятки булгарских ремесленников трудились над изготовлением гранат и ядер, а также заготавливали порох. В подвалах башен были устроены склады, где все это хранилось.
А еще Абдулла, согласно договора, выстроил в каждом из этих кварталов прекрасную баню, уступающую Ак-пулату[66] разве что в роскоши внешней и внутренней отделки, да в размерах. Там же он поставил каменные храмы, высота куполов у которых была всего на пару-тройку метров поменьше, чем у главного минарета города.
Словом, пушкари жили под двойным благословением. К одному они приобщались в церкви, а другое призывали на них сами горожане, прекрасно понимая, что Аллах слишком далеко и чересчур высоко, так что когда придут монголы, то реальной помощи они гораздо быстрее дождутся от русичей, чем от своего небесного покровителя.
Как назло, именно в то время, когда суварцы решили показать кукиш великому джихангиру, в шатре у Мультека сидел сам Бату. Увидев расстроенные лица послов, он сразу понял, с чем они явились к своему господину и какой ответ с собой принесли. Разве что в словах ошибся, да и то не угадал самую малость.