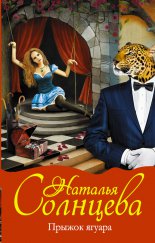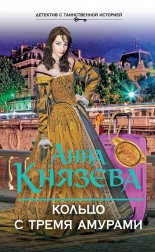Вторая жизнь Эми Арчер Пейтман Р.

– Порно, что ли? – Либби снова зевает.
Я вздрагиваю и чувствую, что краснею. Эсме поднимает глаза от экрана и хихикает:
– От порно меня тошнит.
Она произносит это как бы между прочим, и я тут же чувствую себя старой ханжой. Растерянная, смотрю на Либби. Кажется, ее забавляет мое смущение.
– Мы вместе посмотрели и обсудили, – говорит молодая женщина. – Если поднимать вокруг этого шум, у ребенка только любопытство разыграется, и тогда уж ей точно захочется взглянуть. А так я погасила интерес в зародыше.
Я признаю разумность ее доводов, но стараюсь не показывать, что не до конца с ними согласна. Она сделала так, как считала лучше для своей дочери. Но я бы не хотела поступать так со своей. Правда, Эми вообще не смотрела порно, не говоря уже о том, чтобы успеть пресытиться им.
Если Эсме – это Эми, я приму на себя роль матери и всю связанную с ней ответственность без колебаний. Но остается слишком много вопросов, слишком много сомнений. И чем дальше, тем они больше и серьезнее.
Если Эсме не может доказать, что она Эми, значит остается мне доказывать, что это не так.
– Мир стал совсем другим, – говорю я как можно более небрежным тоном. – Нынешние дети растут быстрее. Они слишком многое видят гораздо раньше, чем мы. В каком-то смысле это, конечно, хорошо, но…
– Что? – спрашивает Либби.
– Ну, он ведь работает в обе стороны? Интернет? Эсме ищет там то, что интересно ей, а если кто-то другой – незнакомый – заинтересуется ею самой?
Эсме отрывается от компьютера и поворачивается ко мне. Глаза у нее какие-то странные, невидящие, будто под гипнозом. Голова девочки подергивается и начинает сильно трястись.
– Эсме? – Я протягиваю к ней руку. – Что такое?
Дрожь сотрясает ее тело. Малышка сползает со стула на пол.
– Эсме!
– Черт! – Либби вскакивает с дивана. – Неужели опять!
Она становится на колени возле дочери, приподнимает ее голову. Я выхватываю из-за спины подушку и подаю ей. Либби просовывает подушку Эсме под голову, вытирает платком пенящуюся на губах слюну. Постепенно конвульсии затихают, спадают, как отлив.
Если это притворство, то сыграно изумительно. Я видела ее фото на сцене. Слышала, как она говорила, что мечтает стать знаменитой актрисой или певицей. Но это слишком хорошо для ребенка, сколь угодно талантливого и хитроумного. Сыграть так прямо передо мной, лицом к лицу, – это надо иметь совсем уж невероятный дар. Правильно?
А если это так, значит Эсме серьезно больна, и дело тут даже не в связи с Эми, но эта болезнь может помочь приподнять завесу ее сознания и понять, откуда девочка знает то, что знает.
Я легонько встряхиваю ребенка – не уверена, хочу ли я вывести ее из этого состояния или погрузить в него еще глубже.
– Врача позвать? – спрашиваю.
– Ни к чему, – отвечает Либби. – Все равно от них толку никакого. Помогите перенести ее на диван.
Ее тон меня поражает. Резкий, холодный, слишком будничный – материнской тревоги не слышно. На бессознательно приоткрытых губах Эсме вдруг чудится усмешка.
Приношу из кухни воду, брызгаю Эсме в лицо. Она открывает рот, пьет. Стакан стучит о ее зубы. Бедняжка хочет что-то сказать, но с губ слетает только вздох.
– Все хорошо, детка. – Либби гладит ее по голове. – Опять то же самое. Уже прошло.
Эсме качает головой:
– Нет. – Голос у нее сухой, дребезжащий. – А как же человек, который не мыл посуду?
– Это просто книжка, – говорит Либби. – Не волнуйся.
– Нет, – отвечает она. – Это не просто книжка.
Рука Либби гладит Эсме по щекам, словно пытается осторожно выманить из нее слова, как джинна из бутылки.
– Он настоящий, – настаивает Эсме и резко садится. – Самый настоящий.
Мысли у меня в голове снова мечутся в полном замешательстве. Что это – настоящее воспоминание Эми или очередная жестокая шутка Эсме?
– Можешь сказать, как он выглядел? – спрашивает Либби.
Лицо Эсме морщится от напряжения.
– Он старый.
– Сколько лет примерно?
– Не знаю, – говорит Эсме.
– Старше меня?
Девочка кивает.
– Старше Бет?
Эсме щурится и медленно кивает снова:
– Может быть, чуть-чуть.
– А что еще? – торопливо спрашиваю я. – Что ты еще видела?
Сама не могу понять, что это – попалась ли я на хорошо разыгранный спектакль или только что получила настоящую весточку от Эми. Мои руки вцепляются в плечи Эсме и встряхивают ее с такой силой, что она подскакивает на диване.
– Бет! Прекратите! – Либби хватает меня за руки.
– Он… – Эсме ерзает на диване. – У него такой странный рот. Губы зашиты.
Либби в недоумении смотрит на меня:
– Вам, Бет, это о чем-нибудь говорит?
Я качаю головой, хотя и догадываюсь, что речь идет о том самом человеке, которого Иан якобы видел в трансе. Тот ведь тоже не мог говорить. Я по-прежнему не представляю, кто это такой, но теперь, по крайней мере, видна какая-то связь.
– Нет, – отвечаю я. – Ни о чем. Совершенно.
– Ну ладно, малышка, – говорит Либби Эсме. – Давай-ка уложим тебя в постель. – Она берет ее на руки. – Ей нужно лечь в свою постель, Бет. Поспите сегодня на диване.
Я киваю и помогаю Либби отнести Эсме в спальню и уложить на кровать. Эсме тут же засыпает. Крепко – дыхания почти не слышно. Она похожа на труп.
Труп Эми.
В животе собирается жгучий комок желчи. Бегу в туалет – и меня рвет горячей горькой струей.
Наутро Эсме встает и одевается раньше всех.
– Знаю я, чего ты хочешь, – говорит Либби, когда дочка наливает ей чашку чая.
– Чего? – с напускным смирением спрашивает Эсме.
– Сегодня суббота. Тебе очень хочется пойти на репетицию.
– Можно? – умоляюще спрашивает девочка. – А то миссис Фробишер будет сердиться. Она говорит, мы и так совсем не продвигаемся. Не хочу всех подводить.
Либби прикладывает ладонь ей ко лбу:
– Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо. Правда хорошо.
– Что скажете, Бет? – Либби оглядывается на меня.
Приятно, когда с тобой советуются.
– А что за репетиция? – спрашиваю я.
– Театрально-танцевальный кружок, пару раз в год выступают со спектаклями, – поясняет Либби.
– Мы готовим «Мулен руж»! Я буду плясать канкан! – Эсме подскакивает, поднимает ногу и выбрасывает ее вперед.
Я видела этот фильм. Героиня Николь Кидман очень убедительно падает в обморок и заходится в чахоточном кашле. Отличный пример для Эсме, для ее вчерашнего маленького спектакля. А может, просто совпадение.
– Выглядит она ничего себе, – замечаю я, – учитывая, как ей было плохо.
– После прошлого припадка она несколько дней в себя приходила, – говорит Либби, – но этот был совсем не такой тяжелый.
– Могу представить, как выглядел тяжелый. И на этот-то смотреть было страшно.
В улыбке Эсме проскальзывает что-то вроде гордости.
– Значит, можно? – спрашивает она.
– Только пообещай, что уйдешь со сцены, если тебе станет хуже, – просит Либби.
– Обещаю!
– Если хочешь, мы тоже придем посмотреть репетицию, – произносит ее мать. – Придется сесть в задний ряд и вести себя тихо. Не сомневайтесь, с миссис Фробишер иначе не выйдет! Господи, стоит только взглянуть, как она там заправляет – прямо Эндрю Ллойд Уэббер!
Значит, у меня будет шанс пообщаться с другими матерями и выяснить, что им известно о Генри Кэмпбелле Блэке.
– Может, я сама Эсме отведу? – предлагаю я. – А вы пока отдохнете. Ванну примете или еще что-нибудь.
Либби потягивается и зевает:
– Звучит заманчиво… Ночью я почти не спала. Вы точно не против?
– Нисколько. – Я ставлю свою кофейную чашку на стол. – Ну ладно, значит, нам пора. Мне же ни к чему навлекать на себя гнев миссис Фробишер!
Эсме выскакивает из кухни и бежит собирать сумку и натягивать пальто. Либби через стол наклоняется ко мне:
– Не вздумайте расспрашивать ее о вчерашнем, пока меня не будет рядом. Я не хочу, чтобы вы к ней приставали вообще, а тем более сразу после припадка. Не обманите мое доверие.
– Ни слова не скажу, – обещаю я. – Не переживайте. Да ведь она почти все время на сцене будет.
Через десять минут мы выходим из дома. Окна в квартире запотели от пара – Либби принимает ванну.
Проходим мимо замусоренного клочка газона. Там на спинке сломанной скамейки сидит стайка ребят постарше. Один, мальчишка лет двенадцати, таращится на нас, особенно на меня. Я и сама чувствую, что выделяюсь среди местных жителей. Местные, которых я встречала, ходят в джинсах или в спортивных штанах, лица у них бледные и изможденные. Все они или шаркают ногами, будто придавленные к земле бесчисленными бедами, или прогуливаются с развязным видом, словно спрашивая: «А ну, кто решится встать у меня на пути?» На мне шерстяное пальто с гладким длинным ворсом, начищенные туфли на каблуке, волосы тщательно уложены.
Мальчишка что-то вполголоса бросает остальным, и они сдавленно хихикают.
– Куда собралась, Эсме? – кричит главарь.
– У меня репетиция, – сухо отвечает та.
– Представление по королевскому указу небось? – спрашивает он, а сам смотрит на меня.
– Благотворительный спектакль, – говорит Эсме. – В пользу людей с проблемами в обучении. Это на всех объявлениях написано. Но не всем понятно – только тем, кто читать умеет.
– Чтобы понять, что это дерьмо, даже читать уметь необязательно, – кричит мальчишка. – Никто на твой паршивый спектакль не придет.
– А ты откуда знаешь, что он паршивый? – спрашивает Эсме.
– Мама сказала. Она раньше танцовщицей была.
– Стриптиз – это не то, что настоящие танцы, – качает головой Эсме.
– А твоя мама – ненастоящая мать.
Эсме наставляет на него два растопыренных пальца. Парень хохочет и отвешивает мне поклон. Мы сворачиваем за угол. Я облегченно вздыхаю.
– Кто это? – спрашиваю я.
– Да так, Билли Гибсон. Совсем тупой. Вечно влипает в неприятности. Отец сидел в тюрьме. И мама тоже. У них всю семью не пускают в «Лидл», потому что они там все время воровали.
– А почему он говорит, что твоя мама ненастоящая?
Эсме пожимает плечами:
– Наверное, потому, что курить мне не разрешает и в школу заставляет ходить. Его-то мама посылает его воровать по магазинам.
Школьный актовый зал находится в обшарпанном одноэтажном здании, бетонные стены все в ржавых пятнах от протекших труб и в выцветших граффити. Пахнет дезинфицирующими средствами и заварным кремом, пол зашаркан подошвами и ножками стульев. На сцене в дальнем конце женщина с планшетом в руке просматривает какие-то записи, а кордебалет девочек никак не может приноровиться махать ногами в унисон.
– Вот так, девочки, – говорит женщина, поднимая глаза от своих записей. – Ножки ровные, прямые. Носочки тянем. Улыбаемся.
Голос у нее усталый, будто она повторяет все это уже в тысячный раз.
– Извините, миссис, я опоздала. – Эсме бежит к сцене, быстро раздевается и остается в одном трико.
Она занимает свое место в кордебалете и машет мне рукой. Миссис Фробишер оборачивается.
– Чем могу помочь? – спрашивает она.
– Я просто привела Эсме на репетицию. Вот и подумала, может, можно остаться посмотреть.
– Посмотреть?
– Мне сказали, что можно.
У нее удивленное лицо.
– Ну что ж, если хотите, можете посмотреть, – неуверенно говорит руководительница. – Просто обычно это никому не интересно. – Она переворачивает страницы на своем планшете. – Хочется думать, что я здесь занимаюсь творчеством, но в основном я просто бебиситтер, только более престижная.
Я оглядываю зал. Взрослых, кроме меня, нет.
– Приятно для разнообразия иметь зрителей, правда, девочки?
Кордебалет кивает. Кто-то что-то шепчет Эсме, кто-то с любопытством улыбается. Я отхожу назад, где стоят в ряд оранжевые пластиковые сиденья.
– Итак, девочки, начали, – говорит миссис Фробишер. – Включаем музыку. О ритме не забывайте.
Девочки пляшут канкан под музыку, такую громкую, что в динамиках трещит. Эсме коротко улыбается мне. Моя ответная улыбка выходит вялой: вспоминаю, как Эми выступала в школьном ансамбле, как прыгала в такт под фортепиано. А рядом Дана делала то же, только все никак не попадала в ритм.
У Эсме, как и у моей девочки, хорошее чувство ритма и способности есть, но ей не хватает мастерства Эми-звездочки. Мысль эта проступает, как синяк на коже – все яснее и четче. Чем дольше я смотрю на Эсме, тем меньше вижу в ней Эми. Внешне похожа, а внутри совершенно другая – такая же другая, как Дана, несмотря на «сходство».
Учителя их постоянно путали. А я никак не могла понять почему. Волосы у девочек были одинакового цвета, но Дана была ниже ростом, черты лица мелкие, фигура неуклюжая. Эми была копия Беби Спайс. Дана же больше походила на Джинджер. Она каждую неделю забывала дома сумку с гимнастической формой, не попадала в ноты, а читая, водила пальцем по строчкам и шевелила губами. Не то что Эми.
Единственный раз, когда я заметила между подругами сходство, – это когда Дана изображала Эми в реконструкции для программы «Преступления в эфире». Сердце у меня разрывалось тысячу раз, когда она появлялась на экране в той самой одежде, в которой я последний раз видела дочку. Тогда этот наряд казался таким обыкновенным! Кто знал, что он на всю жизнь останется в памяти. Оживет в кошмарах.
Дана качалась на качелях – без всякого удовольствия, с пустым лицом, – а я мечтала, чтобы вместо Эми похитили ее. Не хочется себе признаваться, но это правда. Я молилась, чтобы, когда камеры остановятся, из-под капюшона выглянула Эми. Но этого не случилось, а Дана была очень уж неравноценной заменой.
И Эсме тоже. Да, она добрая и умненькая, сообразительная и внимательная, вежливая, искренняя и милая. Но мне все время кажется, что девочка слишком старается, что, тщательно собрав все факты и детали из жизни Эми, она упустила самую ее суть.
Теперь я понимаю, что не чувствовала по-настоящему присутствия Эми с той минуты, как появилась Эсме. Я закрывала на это глаза. Мешало желание верить в лучшее, растерянность, надежда, тоска – и страх. Я слишком увлеклась фактами, деталями и тяжелыми воспоминаниями и не услышала тихий голос инстинкта.
Эсме – всего лишь скорлупа, скрывающая правду, а скорлупу, даже самую твердую, можно проломить. Я не стану бить по ней молотком. Я сделаю это осторожно, так, что она и не заметит. Можно ведь проколоть яйцо булавкой и потихоньку высосать желток.
Когда репетиция заканчивается, большинство девочек уходят вместе. За некоторыми приходят матери, но они просто стоят в дверях и дымят сигаретами. А потом так быстро исчезают, что я не успеваю ни с кем поговорить. Миссис Фробишер не до меня – она выключает свет и запирает двери.
– Тебе понравилось? – спрашивает Эсме.
Лоб у нее мокрый от пота.
– Ты замечательно танцевала, – говорю я и даю ей платок вытереть лицо. – Не терпится увидеть спектакль. Чувствуешь себя хорошо?
– Да, спасибо. Только есть ужасно хочется. Надеюсь, мама приготовила что-нибудь вкусненькое на обед.
– Может, по дороге чипсов купим.
Едва мы сворачиваем за угол, я жалею о решении зайти в магазин. Возле него стоят и курят Билли Гибсон и еще пара мальчишек. Билли толкает приятелей локтями, они хохочут.
– Смотри-ка, кто идет, – говорит он, выдыхая клубы дыма. – Леди Гага и леди Фу-Ты-Ну-Ты.
– Пошел ты!
– Эсме! Пожалуйста, – прошу я. – Не обращай внимания.
Билли заливается хохотом.
– Да-да, пожа-а-алуйста, Эсме, – кривляется он, стараясь говорить с надменными аристократическими интонациями.
– Как же ты меня затрахал, Билли Гибсон! – кричит Эсме.
– Эсме! – Я кладу руку ей на плечо, но она ее сбрасывает.
– Много ты понимаешь в настоящем трахе, а, Эсме? – ухмыляется Билли.
Я открываю дверь магазина.
Предлагаю девочке, чтобы не торопясь выбирала что хочет. Надеюсь, к тому времени, как мы выйдем, мальчишки уберутся. Но вот мы выходим, а они тут как тут.
Эсме проходит мимо. Билли Гибсон гыгыкает и высовывает язык – будто лижет воображаемый леденец.
– Леди Гага! Леди Фу-Ты-Ну-Ты! Лесме!
Я кладу руку Эсме на плечо и увожу девочку, пока она не кинулась на обидчика. Щеки у нее раскраснелись, кулаки сжаты. Она показывает Билли средний палец. Билли хохочет.
– Что, упражняешься? – Его палец дергается вверх. – Леди Фу-Ты-Ну-Ты!
Я иду дальше, не решаясь оглянуться и посмотреть, не увязались ли они за нами. Только повернув за угол, бросаю взгляд назад.
Билли Гибсон показывает мне розовый слюнявый язык. Что-то кричит, но победные возгласы из-за двери букмекерской конторы и грохот неисправной выхлопной трубы автомобиля заглушают его слова.
Не уверена, но мне показалось, что последним из этих слов было «Генри».
В воскресенье утром я выбираюсь из дома, чтобы купить газету. По крайней мере, так говорю Либби. Сама хозяйка их обычно не покупает, – по ее словам, это пустая трата денег. Или чернуха какая-нибудь, или сплетни из жизни так называемых звезд. Вот сплетни-то мне и нужны – только не газетные.
Билли Гибсон сидит курит на том же месте, где я видела его вчера, но на этот раз в одиночестве. Увидев меня, он ухмыляется и выпускает в мою сторону клубы дыма.
Я вытаскиваю из кармана двадцатидолларовую бумажку. У парня округляются глаза.
– Я тебе не мальчик по вызову. А если бы и был, так не стал бы связываться со всякими старыми бабками.
– Ты мне даром не нужен. Мне нужна информация.
Мальчик подозрительно щурится:
– Насчет чего?
– Насчет Генри Кэмпбелла Блэка.
Он подходит и протягивает руку:
– Ты из социальной службы или еще откуда? Из полиции?
– Нет, конечно.
Он хватает меня за руку, вырывает деньги и отскакивает в сторону.
– Ничего я не скажу, – скалится он. – Эх ты, леди Фу-Ты-Ну-Ты! Нефиг на улице деньгами трясти! Профукала двадцатку! – Дразнит меня, помахивая купюрой в воздухе. – Но спасибо. Так легко мне деньги еще не доставались. И плевать, что это называется грабежом.
Грубиян щелчком кидает в меня окурок, хохочет, когда я стряхиваю его, и убегает.
В полицию на него заявлять смысла нет: скажут, сама виновата. Нужно было думать головой, вести себя осторожнее.
Какой-то старик бредет к газетному киоску. Подхожу к нему. Облезлый джек-рассел-терьер, трусящий рядом с хозяином, встречает меня рычанием.
– Генри Кэмпбелл Блэк? – переспрашивает дед, придерживая собаку. – Не слышал про такого. Тут люди все время то съезжают, то новые селятся. Не то что раньше. – Указывает подбородком в сторону киоска. – Попробуйте там спросить.
Азиатка за прилавком так углубилась в чтение журнала, что мне приходится повторять вопрос дважды. Она качает головой:
– Нет.
– А вы не можете посмотреть эту фамилию в списке подписчиков?
– Мы подписку не рассылаем. Мальчишки работать не хотят.
Она поднимает брови, когда я спрашиваю «Обсервер», и бросает сдачу мне в ладонь так, словно боится заразиться.
Неопрятный мужчина в соседнем магазине говорит, что он здесь недавно и не успел еще со всеми познакомиться. Советует расспросить букмекера.
Я иду на угол, но букмекерская контора закрыта, тротуар усыпан окурками. Металлические двери паба «Торная дорога» тоже заперты. Улицы пусты. Окна наглухо занавешены. Чувствую себя как в ловушке. «Цыганская почта», которую обещал мне таксист, не работает.
Таксист…
Достаю из сумочки визитку, которую он дал мне.
– Такси. – Женский голос в трубке – равнодушный, скучающий. – Куда вам надо?
– В центр.
– Откуда?
– От «Торной дороги», – говорю я, глянув на вывеску паба. – Уайтеншо.
– Так. Как вас зовут?
– Бет. А Дэйв сегодня работает? – Скрещиваю пальцы.
– Который? У нас их трое.
– Ой, а я не знаю фамилии… Ему лет сорок с чем-то, волосы черные, короткие, с проседью. Красная машина.
– А-а, это Дэйв Хэдфилд. Мистер Манчестер!
– Он самый.
– Уверены, что вам нужен именно он? У него же рот не закрывается.
– Вот потому-то он мне и нужен.
Она хихикает:
– Мне же лучше. По крайней мере, не будет тут у меня над ухом трещать. – Слышится шелест бумаги. – Он повез пассажира в аэропорт, значит сейчас должен быть где-то недалеко от вас. Минутку. – Диспетчер с кем-то говорит. Треск радиопередатчика. – Порядок, – произносит она. – Через десять минут он вас заберет.
Десять минут тянутся долго. Я будто села на мель. На душе холодно и уныло, как унылы все эти двухэтажки и башенки вокруг.
Дэйв дает гудок, подъезжая к обочине.
– Здравствуйте еще раз, – приветствует он меня через открытое окно. – Ждете, когда паб откроется, или они вас еще вчера выставили?
В машине тепло. Сквозь запах цитрусового кондиционера пробивается легкий аромат сдобы. Дэйв сметает с колен в ладонь крошки и выбрасывает в окно.
– Корнуоллские пирожки. Пища богов. И божий дар замотанным таксистам.
– Несмотря на то, что из Корнуолла?
– Не все хорошее родом из Манчестера. – Он вытирает губы. – Куда вам в центре надо?
– Точно не знаю.
Я никуда не собиралась ехать – мне нужно было его время и информация. Но, оказавшись в машине, я сразу успокоилась. Перестала бояться. Приятно поговорить с человеком, не стараясь отыскать в каждом слове скрытый смысл, ничего не опасаясь. И мужской голос слышать приятно. Его тембр успокаивает, выговор мягкий, ритмичный.
– Опять что-нибудь загадочное ищете? – спрашивает он.
– Да. Удивите меня.