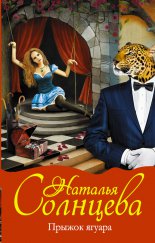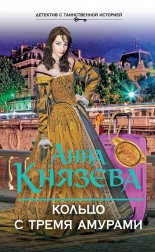Вторая жизнь Эми Арчер Пейтман Р.

Мужчина кивает:
– Ладно. Кинг-стрит вам, пожалуй, подойдет. Там есть чем заняться.
– Например?
– Дорогие наряды, драгоценности. «Кендалл» – прямо через дорогу, а дальше по Динсгейт – «Бартон аркейд» и «Селфриджес». С кредитками поосторожнее.
Машина трогается. Я отправляю Либби эсэмэску – пишу, что пошла погулять, чтобы дать ей побыть наедине с Эсме, – и устраиваюсь на сиденье.
– Не знала, что в Манчестере тоже есть «Селфриджес».
– Даже целых два. А значит, дайте-ка подумать… – Дэйв закатывает глаза, делая вид, что считает. – На один больше, чем в Лондоне. – Он подмигивает мне в зеркало, и я невольно улыбаюсь. – И «Харви Николс» у нас есть.
– А, дизайнерские тряпичные кепки и сабо.
Таксист смеется и прибавляет скорость, проезжая на желтый свет.
– Я бы сказал: они ломают шаблоны.
Мы проезжаем мимо складских помещений из коричневого кирпича, на их огромных окнах – металлические решетки. Стеклянные офисные здания упираются прямо в небо. Дэйв вздыхает: впереди пробка. Выпускает руль, чтобы прикрыть рукой зевок.
– Вот вас отвезу – и, пожалуй, на сегодня с меня хватит. С полуночи катаюсь. Надо бы вздремнуть успеть перед футболом по телевизору.
– А с кем ваши играют?
– Наши-то ни с кем. «Сити» против «Сперз». Хотел бы я, чтобы «Сперз» их уделали! Сразу тебе куча довольных кокни, щедрых от радости, ловят такси на Пикадилли. – Он опять зевает. – Если только не засну. Кофе бы выпить.
– Мне бы тоже. Вы вот местный. Где тут кофе хороший? Я плачу.
Он с любопытством поглядывает на меня в зеркало заднего вида:
– Серьезно?
– Абсолютно. Только чтобы никакой фирменной дряни. Это я где угодно выпить могу. Хочу лучший манчестерский кофе.
Мы приезжаем в кафе рядом с большой площадью. Над площадью возвышается белое колесо обозрения, которое я видела на открытке Эсме.
– До Лондонского Глаза все же не дотягивает, – говорю я, попивая кофе.
– Ну да. Зато что там увидишь с Лондонского Глаза? Один Лондон.
– А отсюда что, видны египетские пирамиды и Ниагарский водопад?
– Понятия не имею. Высоты боюсь. – Таксист рассказывает, что тут все отстроено заново после теракта ИРА в 1996 году. – Пятнадцатого июня. – Он вздрагивает. – Худший день в моей жизни.
– Вас ранило?
– Нет, слава богу. Физически, во всяком случае. Но я был в городе. Как раз выходил из магазина электроприборов, и тут… Бабах! – Дэйв вскидывает руки. – Если бы в магазине стекла вылетели, меня бы на ремешки порезало. – Он качает головой. – А день-то был какой хороший! Небо голубое, солнце сияет. В Манчестере такие дни нечасто случаются, и надо же было ИРА его испортить! Уже этого достаточно, чтобы их возненавидеть. А что они с моим городом сделали! Сволочи! Столько людей порезалось, побилось, от шока в себя прийти не могли. И магазины пришлось закрыть – некоторые потом так и не открылись.
– Ужасно, должно быть.
– А знаете, что мне больше всего запомнилось? – (Я качаю головой.) – Как все небо стало серым. На несколько секунд.
– Да, могу представить. Дым, пыль.
– Да нет. Не дым, – говорит он. – Голуби. Тысячи голубей, и все взлетели разом. Город будто накрыло огромной серебристой волной. – Он поднимает чашку к губам и дует на свой кофе. – Это был знак, вот что.
– Знак чего?
– А всего вот этого. – Дэйв показывает на дома вокруг. Сверкающие стеклом и металлом новые здания резко выделяются рядом с бело-серыми каменными домами Викторианской эпохи. – Возрождения. Денег, что хлынули тогда к нам. Рабочих мест. – Он смеется. – Забавно, правда? То, что должно было разрушить город, возродило его.
Я размышляю об Эми и Эсме, о превращении, возрождении, перерождении. Взрывы, грязь, кровь…
– Вы не думайте, – говорит он, крутя в пальцах ложечку, – меня это тогда тоже из колеи выбило. Просто потрясло. До тех пор я никогда не чувствовал себя в опасности в собственном городе. И сестра моя ощутила то же самое. Она раньше жила в кооперативном доме неподалеку отсюда – хорошее местечко. Но вернуться туда после бомбежки? Черта с два! Так вот она и оказалась в Уайтеншо.
Я и забыла про его сестру.
– Там она чувствует себя в безопасности?
– Да. Уайтеншо-то никто взрывать не станет! Хотя кое-кто, представьте, считает, что это было бы неплохо.
– Так далеко я не захожу, но…
– Не лучшее место для туристов? – со смехом спрашивает он.
– Местные жители попадаются… живописные. Билли Гибсон – просто явление дикой природы.
– Наслышан, – хмыкает Дэйв.
– Знаете его?
– Только по рассказам сестры. Там вся семейка – сущий кошмар, если ее послушать.
Я придвигаюсь ближе вместе со стулом:
– А про Генри Кэмпбелла Блэка ваша сестра ничего не рассказывала?
Дэйв отводит глаза и сдвигает брови:
– Не припоминаю… Имя какое-то аристократическое для Уайтеншо. Там двойные имена не в чести. – Он наклоняется ближе. – А что? У вас с ним какие-то неприятности вышли?
– Просто найти его не могу.
– А, так вот вы здесь по какому делу, – подмигивает он. – А что же он натворил?
– Он друг той женщины, к которой я приехала. Пропал бесследно, вот мы его и разыскиваем, чтобы алименты потребовать.
Дэйв морщится:
– Терпеть не могу, когда парень заделает женщине ребенка – и был таков! Трусы паршивые. С моей сестрой такое же было, до того как она встретила своего мужа. Если бы тот парень не смылся, она бы ребенка оставила. – Он достает телефон, набирает номер и подносит к уху. – Генри Кэмпбелл Блэк, говорите?
Я киваю, ставлю локти на стол и упираю подбородок в ладони. Дэйв кривит губу и качает головой.
– Не отвечает, – говорит он. – Попозже еще позвоню. Дайте мне свой номер – если от нее что-то узнаю, сообщу. – Он с улыбкой записывает мой номер к себе в телефон. – Будем надеяться, моя жена не станет любопытствовать.
Весь день я не расстаюсь с телефоном, играя в «Монополию» с Эсме и Либби. Эсме выбирает себе фишку с цилиндром – ассоциирует его с черно-белыми мюзиклами по телевизору. Либби берет мешок с деньгами. Я – пушку.
Эсме отлично удается избегать клеток с чужой собственностью и выкидывать одно и то же число на обоих кубиках, чтобы выйти из тюрьмы без залога. На ее части поля уже некуда складывать выигранные деньги, и девочка все время перекладывает их, чтобы убедиться, что все на месте.
Когда я попадаю на Бонд-стрит, она, не глядя на карточку, сразу называет размер штрафа. И про остальную свою собственность она тоже все помнит, сколько бы там ни было домов и отелей.
– Ну и оборотистый же домовладелец вышел бы из тебя, Эсме! – говорю я. – Обобрала меня до нитки в моем собственном городе!
– Я и в манчестерскую «Монополию» хорошо играю, – отвечает девочка, жадно складывая деньги в кучку. – Но лондонскую больше люблю. Она как-то гламурнее.
– Что может быть гламурного на Пентонвилл-роуд? Или в «Слоне и замке»?
Эсме берет кубики, подбрасывает в руке:
– На спуске в подземный переход возле «Слона» хорошо было скатываться на роликах. – Она бросает кубик и передвигает цилиндр по полю. – Только там бродяги и пьяницы всегда такие страшные сидели!
Либби бросает на меня многозначительный взгляд.
Звонит телефон. Я вздрагиваю. На экране высвечивается: «Дэйв».
– А, это моя подруга Джилл, – произношу я. – Я лучше в спальне поговорю. Это все про церковную благотворительную распродажу.
Закрываю дверь в спальню, проверяю, не стоит ли кто за ней, и только тогда отвечаю:
– Есть новости?
– А как же! «Сперз» выиграли два – ноль, – говорит таксист. – Чаевые, похоже, весь день будут что надо.
– Отлично, но я спрашивала про вашу сестру.
– Да, понимаю. Извините.
– Она ничем не смогла помочь?
– Даже не знаю, поможет вам это или нет… – Голос у него нерешительный. – Вот уж не думал, что во всем Большом Манчестере найдется хоть один Генри Кэмпбелл Блэк, а их, оказывается, целых двое в одном только Уайтеншо.
– Двое?
– Выходит, так.
– И ваша сестра их знает?
– Одного человека с таким именем знает. Она работала в яслях, когда мой племянник туда ходил.
– Кто, ваша сестра?
– Да нет, Генри. – Он втягивает в себя воздух. – Это женщина.
– А-а… Понятно. – У меня екает сердце; не могу сдержать разочарования. – Вот черт! Погодите, а больше ваша сестра ничего не говорила?
– Вроде бы она хорошо ладила с детьми. Хоть и ковырялка была.
– Кто, извините?
– Лесбиянка. Жирная такая, если судить по той фотографии, что сестра прислала.
– А ваша сестра не знает, где эта женщина сейчас?
– Понятия не имеет. Она просто взяла – и однажды не пришла в ясли. С тех пор ее не видели.
Вот в этом я не уверена.
В голове проносятся разрозненные картинки и обрывки фраз.
Мамаши у школьных ворот, разглядывающие меня украдкой… Ощущение, что я не понимаю чего-то, очевидного для всех… Внезапное недавнее исчезновение Генри Кэмпбелла Блэка из счетов за коммунальные услуги. Слюнявый розовый язык Билли Гибсона.
Он, кажется, что-то такое говорил про то, что у Эсме ненастоящая мама? А когда переиначил имя Эсме, я-то думала, у него просто язык заплетается, но, может, он сказал то, что хотел сказать? «Лесме…»
– Бет? – говорит Дэйв. – Слушаете меня?
Перевожу дыхание. Крепче сжимаю в руке телефон.
– Вы что-то говорили про фото, – напоминаю, щуря глаза.
– Да. Там эта Генри играет с моим племянником в «лягушатнике». Снято, кажется, за месяц до того, как она сбежала.
– Можете мне его прислать?
– Думаю, сестра не стала бы возражать. Погодите. – Слышу голоса на заднем плане; захлопнулась, стукнув, дверца автомобиля. – Надо бежать, Бет. Вызов.
Через несколько секунд мой телефон подает сигнал – пришло сообщение:
Вот оно. Надеюсь, поможет. Когда придет время ехать на вокзал Пикадилли – вы знаете, где меня найти.
Дрожащими руками открываю вложение.
Маленький мальчик стоит в мелком бассейне: глаза зажмурены, рот открыт, на лице восторг – вода льется ему прямо на голову. У женщины, которая поливает ребенка из ведра, мясистые ладони, толстые руки. Остальное тело скрыто под мешковатой футболкой и серыми спортивными штанами.
Вглядываюсь пристальнее. Из-за гривы черных волос и пухлых щек трудно как следует рассмотреть лицо, но, кажется, ей под тридцать, может, чуть больше. Картинка расплывается на пиксели. Но даже на такой фотографии в женщине видна какая-то несвобода, зажатость, надломленность некоей тяжестью. На лице у нее не видно ни радости от игры с ребенком, ни удовольствия от его визга.
Ночью, когда все засыпают, я лежу в постели, пытаясь сложить кусочки в цельную картину. Мысленно уже в который раз перечитываю сочинение Эсме, особенно ту часть, где описывается ее жизнь с Либби в Манчестере. Там кроются какие-то тайны – точно, я чувствую. Так же, как ощутила, что упустила подсказку в документах Либби. Но поймать их я не могу – все слишком быстро мелькает перед глазами, будто пленку перематывают.
Я останавливаю пленку, перематываю назад и снова проигрываю начало.
С миссис Даутфайр, конечно, проще. Она смешная, добрая и все умеет. Взяла – и сделала семью из трех человек по-настоящему счастливой.
Фильм, конечно, немного дурацкий, но я, когда смотрела, плакала. И мама тоже. Я сказала ей, что все будет хорошо. Но миссис Даутфайр больше нет. Молния не ударяет дважды в одно место.
Этот фильм я тоже смотрела не так уж давно, и, насколько помню, семья там состояла из мужа, жены и троих детей. Из пяти человек. И ей помогла няня, похожая на мужчину. Как Генри Кэмпбелл Блэк.
Эсме говорила не о кино. Не над счастливым концом они с Либби плакали. А из-за того, что потеряли свою Генри Кэмпбелл Блэк.
Я встаю, выхожу на цыпочках в коридор. Забираю ноутбук Эсме из гостиной к себе в комнату.
В висках стучит, когда я набираю пароль.
МиссисДаутфайр.
Есть! Экран, «зевнув», открывается, и я начинаю шарить курсором по папкам и файлам, как археолог с лопатой.
В папке «Спайс уорлд» – только фотографии «Spice Girls», тексты песен и ссылки на ролики с «Ютуба». Песни Леди Гаги собраны в папке «Гага4Гага». Больше надежд вызывают «Домашние задания и др.», но там только стихи, глава из сказки про суриката и список учителей Эсме в порядке предпочтения. «Рождество» – списки желаемых подарков на Рождество за несколько последних лет и список покупок для предстоящего. Я тронута – вижу мое имя и чувствую угрызения совести за то, что шпионю за Эсме.
Но это единственное упоминание обо мне и о ее прошлой жизни, которое удается найти. Даже ее сочинения в компьютере нет. Я-то ожидала увидеть папки с информацией о деле Эми, со ссылками на сайты, все о реинкарнации, Кеннингтоне, нераскрытых убийствах и пропавших людях.
Так хочется швырнуть компьютер об стену! Я еле сдерживаюсь. Вместо этого вытаскиваю из чемодана флешку и копирую на нее все файлы подряд. Рисковать нельзя – вдруг Эсме зайдет в гостиную и увидит, что ее компьютера нет. А мне нужно время, чтобы просмотреть все.
Но и скопировав их, не могу отделаться от ощущения, что меня провели. Я не нашла того, что нужно, но опять чувствую, что подобралась совсем близко. Закрываю глаза, делаю глубокий вдох. Пытаюсь влезть в шкуру Эсме.
Девчонка хитра и сообразительна. Все бы предусмотрела. Она догадывалась, что я попытаюсь забраться в ее компьютер. На случай если мне удастся взломать пароль, она сделала бы все, чтобы я не могла легко найти подозрительную информацию. Она бы спрятала ее как можно тщательнее. Сохранила бы на жестком диске, там, куда я точно не стану заглядывать.
Навожу курсор на корзину. Открываю.
Эсме допустила ошибку, как и ее мать со счетами за коммунальные услуги, только другого рода. Сама себя перехитрила. Слишком мудреная уловка выдала ее.
Все файлы в корзине названы вполне понятными именами. Кроме одного.
«HCBLegDict.WMA».
Расширение после точки и иконка программы мне незнакомы. Это не вордовский документ, не картинка —.jpg или. gif. Я копирую файл на флешку, закрываю компьютер и тихонько отношу его обратно на стол в гостиной.
Вернувшись, копирую файлы в свой ноутбук. Собираюсь уже кликнуть по файлу из корзины, но останавливаюсь.
Вспоминаю, что видела свет под дверью, когда Эсме и Либби смотрели что-то в компьютере. Собственно, почему бы мне не включить свой? Можно будет сказать, что тоже что-то смотрела через ай-плеер. Но я не хочу будить в них подозрения…
Залезаю с ногами на кровать, накрываюсь одеялом – и оказываюсь запертой в маленьком жарком домике. В бесстрастном, как судебная экспертиза, свете экрана резко ложится моя тень.
Запускаю файл. На экране всплывает маленькая серая панель. Кнопки и стрелки, как на CD-плеере. Быстрая перемотка. Вернуться к началу. Проиграть.
Треск встроенных динамиков. Громкий, слишком громкий. Я нашариваю регулятор звука. Не знаю, что это, – может, ничего особенного. Но если Либби с Эсме услышат, придется отвечать на неудобные вопросы. Могут даже из дома выставить. А тогда я потеряю след.
Может быть, там окажется что-то совершенно невинное и неинтересное: популярная песня или музыкальная дорожка, скачанная из Интернета. Но в динамиках раздается стук, словно кто-то двигает компьютер и проверяет микрофон. Потом – тишина. Я наклоняюсь к компьютеру и напрягаю слух. Как на спиритическом сеансе. Есть тут кто-нибудь?..
Есть.
Кто-то откашливается, прочищая горло. Звук приглушенный, но слышно, что кашель слишком низкий, не детский. Но и не мужской.
Во рту у меня пересыхает, сердце колотится.
Снова кашель, шорох одежды. И вдруг – голос. Поток слов так стремителен, что я едва разбираю их. Понимаю только одно – голос мне незнаком, но акцент – лондонский.
Ставлю плеер на паузу, перематываю назад и запускаю с начала.
11
Надеюсь, вы это услышите. Не знаю вообще, работает ли эта штука, диктофон, никогда раньше с ними не имела дела. Взяла его на время у одной женщины на работе – сказала, что учу французский и хочу послушать свое произношение, как получается, – она и дала. Поверила. Можно подумать, я и правда стану французский учить…
От всех этих компьютеров, гаджетов и всяких таких штук мозги трещат, но придется, видно, разобраться, раз уж решила рассказать вам то, что должна, и хочу, чтобы вы поняли все как следует.
Записать-то я не могу, понимаете. То есть не то что вообще не могу – писать-то я умею, что бы там некоторые себе ни думали, только не очень хорошо и не сильно-то быстро. А времени мало – поезд где-то через час, надо успеть. Дела у меня. Кое-какие, скажем так.
Но все это надо высказать. Знаете, как бывает, когда тошнит или когда простудишься и сидишь вся в соплях, – в общем, все это в тебе сидит и просится наружу? Но не будешь же блевать у всех на виду, вот и бежишь куда-нибудь в сортир или в кусты. А потом чувствуешь, что стала чище. И тебе лучше.
Ну вот и со мной сейчас так. Нужно выблевать из себя прошлое, вытолкнуть из глотки и все за собой убрать. Дочиста.
Говорю, я не очень-то умею рассказывать, и к книжкам у меня никогда привычки не было, особенно к сказкам и всяким выдумкам, мне другие книжки нравились – заговоры, гороскопы, что-нибудь про ангелов или про то, как сны разгадывать. Вот это мое.
Я столько этого барахла начиталась, что меня можно было бы по телевизору показывать как эксперта – втирала бы всем, что их ждет богатство, шикарные квартиры в Нью-Йорке и Лондоне, дома на пляже или виллы на Барбадосе. Не жизнь была бы, а мечта – с кучей друзей и отличным парнем, который любил бы меня как сумасшедший, с послушными детишками, чаем по утрам – все как в книжках.
А у меня ничего такого нет. И не книжки тут виноваты. Просто я их неправильно поняла и перепутала все, как всегда.
Но вот одна книжка все-таки и правда здорово изменила мою жизнь. Тот парень, что ее написал, прямо под кожу мне влез и закрутил все по-своему, по крайней мере на время.
А книжка-то была даже не моя. Я ее нашла на прилавке в «Литтл шеф» на А-435 – два студентика-мажора ее забыли, пока разбирались, кому сколько платить. Нет бы поделить счет пополам, по-дружески, так они давай высчитывать, с кого за что причитается, до последнего пенни. Не знаю уж, что они там в своем колледже изучают, но явно не математику – битый час сосчитать не могли.
В общем, я ждала-ждала, пока они расплатятся, и вижу: книга лежит – прямо на прилавке, говорю же. Я ее и взяла, потому что имя на обложке понравилось. Генри Кэмпбелл Блэк. Я почему-то подумала, там будет что-нибудь про черную магию, заговоры, вуду, всякие там зелья, чтобы оградить себя от темных сил. Страницы в ней были разбиты на колонки, аккуратные такие черные ряды слов, как патроны в коробке – бери и стреляй.
А оказалось, никаких там заговоров нет. Там всякие юридические словечки, объясняется, что они значат. В общем, для мальчиков-мажоров и всяких там умников. Не для таких, как я.
«Юридический словарь» – так было написано на первой странице. «Определение терминов и выражений американской и английской юриспруденции, исторических и современных. Составитель – Генри Кэмпбелл Блэк, магистр гуманитарных наук».
В общем, чушь несусветная, как алфавит в школе.
Алфавит этот у нас в классе на стенке висел. Ох и пугала меня эта штука, я вам скажу! Там еще такие картинки были маленькие… ну, знаете – мячик, часы и все такое, а в самом конце зебра. Чтобы алфавит был как игра и его легче было учить. А на самом деле это была просто ловушка, как та машина в кино «Пиф-паф-ой-ой-ой» – там тебе и конфеты, и цветные ленточки, все такое веселенькое с виду, а на самом деле это просто черный «воронок» для детей – хватает и увозит в тюрягу.
Картинки-то на этой табличке даже я все знала, а вот буквы… Палочки, крючочки, кружочки. Я в них ни хрена не понимала. Яркое зеленое яблоко в начале было как здоровенный камень на дороге. Не суйся. Хода нет. Отвали.
Но мисс Клэптон помогла мне его обойти. Сказала, будет помогать. Я оставалась после уроков, как будто в наказание, и занималась отдельно от остальных, как какая-нибудь заразная. Учила стишки и упражнения, делала примеры, пока голова не начинала так болеть, что хотелось напинать по заднице эту чертову букву «К» с ее пинучими ножками.
Но я все-таки добилась своего. Разбиралась в буквах мало-помалу, пока не научилась различать их, складывать в слова и писать правильно. Были слова легкие, как, например, «друг», а были такие, как «любовь», – я все никак не могла запомнить, как они пишутся.
Теперь я таких слов вообще не говорю, хотя и умею их писать и знаю, что они означают. Теперь у меня на языке совсем другие слова: «месть», «правосудие» и «смерть».
Убей, не вспомню, какое там было первое слово в юридическом словаре, но первую клетку алфавита вижу как сейчас. Она останется у меня в памяти навсегда. Другие-то все перепутались – я так и не запомнила, в каком порядке идут буквы. У меня свой алфавит, свой порядок, и картинки в нем другие… Таким картинкам место в суде, а не в классе.
Но первая буква все равно «А». Только не «apple» (яблоко), а «Archer». Эми Арчер.
Имя дочери, произнесенное незнакомым безликим голосом, – как удар! У меня перехватывает дыхание. Снова останавливаю плеер, отбрасываю одеяло, хватаю ртом воздух. Но не забываю прикрыть экран ноутбука, чтобы не светился. Не знаю, кто сделал эту запись и зачем, но там наверняка содержатся ответы на вопросы, которых я так отчаянно доискивалась все эти десять лет. Я не могу этим рисковать.
Снова натягиваю одеяло на голову, смотрю на тень своей дрожащей руки и нажимаю кнопку воспроизведения.
Неудивительно, что ее фамилия начиналась с «А». Первая буква в алфавите, в любом алфавите мира… Она привыкла быть первой. Буква-зазнайка, буква «Смотрите, вот она я!». Она же и лучшая оценка в классе… Не про мою честь, конечно. Они все доставались Эми.
Моим родителям не так повезло: их буква в алфавите всего лишь вторая. Да и неудивительно – если честно, они ведь и правда ничего не знали и ни в чем не разбирались. Они считали, что в жизни никогда ничего не меняется и глупо на это надеяться, поэтому в их жизни ничего и не менялось никогда. Надеяться было безнадежным делом. Будь доволен тем, что имеешь, лопай, что дают, не хнычь и не жалуйся.
Вот и мне не досталось ни фамилии, ни хотя бы имени на «А». Всего лишь «D».
Дана.
Дана.
Я снова выныриваю, чтобы глотнуть воздуха. Тянусь за телефоном, лежащим на туалетном столике. На экране все еще светится фотография Генри, играющей с малышом в яслях. Фотография Даны.
В тяжелой, унылой фигуре пытаюсь разглядеть девочку, которую знала когда-то, но это трудная задача. Возможно, что-то знакомое есть в разрезе глаз и форме носа, но все заплыло жиром и смазано из-за плохого качества фотографии, так что с уверенностью сказать трудно. Она выглядит старше своих лет. Я-то считала, что ей под тридцать, а на самом деле только двадцать, как Эми. Как Эми было бы. Встреть я Дану на улице – прошла бы мимо и не узнала.
Снова ныряю вместе с телефоном под одеяло, отматываю запись немного назад и нажимаю кнопку воспроизведения.
…Всего лишь «D».
Дана.
Маленькие засранцы в школе сразу переделали это имя в «дыню». А потом, на испанском, одна очкастая выдра с брекетами и косичками додумалась переставить слоги, и вместо «Дана» получилось «Нада». Nada. Ничто. Какое имя, такая и жизнь…
У меня не было ни одного – самого дохлого – шанса… с такими-то генами. Папа – почтальон. Он никогда ничего не читал, кроме надписей на конвертах, да и те с трудом.
Смешно и грустно… Он разносил письма по адресам, а на самом деле это они носили его, куда хотели. От писем в его сумке зависело, где он будет и когда, и он не мог вернуться домой, пока все не разнесет.
Если на него рычала собака, когда он просовывал письма сквозь щель в двери, он останавливался и рычал на нее в ответ. Гав, гав… Сонный придурок. А эти красные ленточки, которыми перевязывали почту? Другие почтальоны просто бросали их на пол, а мой отец тащил домой, скатывал в шарики и швырял из окна с десятого этажа. Шарики разлетались, как в пинболе. Я смеялась, а он смотрел так, что казалось, будто он сам хочет улететь куда-нибудь.
Мама работала на полставки в занюханном обувном магазинчике на Уолворт-роуд. Она не очень-то любила эту работу и терпела только ради скидок для персонала. Вообще-то, оно того стоило… Если бы не эта двадцатипроцентная скидка, я бы ходила в школу в одних носках и у одноклассников был бы лишний повод для насмешек.
– Будь поаккуратнее, – говорила мама. – Туфли береги. Деньги с неба не падают.
Сбитые места я закрашивала черным карандашом.
Обувной магазин был рядом с «Ист-стрит маркет», сразу за углом, так что было очень удобно покупать продукты по сниженным ценам в конце дня. Капусту мы никогда не покупали – мама говорила, что запаха потных ног с нее и на работе хватает. Зато она всегда брала клубнику. Посыпала сахаром, и мы ели ее, как римляне виноград. А родительница сидела за столом с глупым выражением лица – жадным, капризным, расплывшимся в улыбке. Потом делала гримасу, когда откусывала стебелек и сплевывала. Я не могла понять, почему не отрезать стебелек сразу, пока мама сама не сказала.
– Так я ела клубнику в самый первый раз. Мы ее таскали у одного парня из ящика на окне. Так прямо сразу в рот и пихали. А один раз он меня поймал. Перепугал до смерти.
На самом деле ей просто нравилось плеваться…
Папина мама была, говорят, совсем другая, но она сыграла в ящик, когда я еще даже не родилась. Наверное, просто не хотела меня видеть. Рассказывали, что она стояла на стуле, вешала на кухне выстиранные занавески, и тут бац – ни с того ни с сего – кровоизлияние в мозг. Соседи снизу слышали грохот, когда она упала, но подумали: просто мебель двигает. Дедушка нашел ее, когда пришел с работы.
– Вся запуталась в этих занавесках дурацких, – говорил он. – Холодная, как ледышка. Для меня это было как день свадьбы, только лучше.
Они поженились только потому, что она от него залетела. Ребенка потеряла через месяц после свадьбы, но деваться было уже некуда, так и жили по привычке, как все в моей семье, как я сама…
Дедушка не вылезал из паба – он там был капитан команды по дартсу – и из букмекерской конторы – там его всегда были рады видеть… Клиент номер один как-никак. Бабушка отсиживалась в «Стритхэме», где всегда был «Бейбишам»[11] и всякие пижоны.
Дедушка считал, что ему не надо было жениться… Не на бабушке, а вообще. Говорил, что недаром потерял половину безымянного пальца, когда служил в армии. Один обрубок остался. Вот он и придумал, что это был знак: никогда не женись, оттого-то и получилась у него не настоящая семья, а вроде половинка.
Инвалид – так он про себя говорил. И по-моему, имел в виду не палец, а женитьбу. Деньги зарабатывать ему это не мешало – он был кондуктором в автобусе на третьем маршруте – и выбивать в дартс сто восемьдесят очков тоже.
Мой отец говорил: «Чудо, что у них вообще появились дети». По его словам, они вдвоем-то в одной комнате не оставались так долго, чтобы успеть детей наделать. Да еще и скандалить когда-то умудрялись.
– Слава богу, что он послал мне тебя и твоего брата, – говорил дедушка отцу. – Если бы не вы, в жизни бы нам не выбить в муниципальном совете трехкомнатную квартиру.
Мой дядя смылся из дома при первой же возможности. Ушел в армию. Мама с папой поженились через год после этого. У них не было денег… Сроду не было, где им было наскрести на собственное жилье… Да они об этом и не думали. Муниципальная квартира – это максимум, на что они могли надеяться, все, о чем мечтали. Но, как всегда, даже эта мечта накрылась медным тазом: желающих было много, а квартир мало. Папа говорил, что это все из-за узкоглазых, а мама – что все из-за паков. Мы все говорили – все из-за того, что жизнь такая.
Дедушка, правда, был доволен как слон. Ему-то хорошо: мама с папой платили за квартиру. И в пабе ему денежки капали, и в букмекерской конторе. И удобно было, что в доме есть кому приготовить и прибрать. Дед все время отпускал идиотские шуточки, как хорошо иметь рабыню. Мама никогда не смеялась над этими шутками, и я тоже…
Потом с дедушкиного маршрута всех кондукторов сняли, и пришлось ему искать другую работу. Можно было водителем устроиться, но он был такой тупой, что не мог научиться водить… Да и вообще ничему не мог научиться, если уж начистоту. Так что устроился в мою школу сторожем. Из-за него все надо мной издевались.
– От тебя воняет, ты, наверное, умываешься блевотиной, которую он подтирает!
– Кому охота к тебе в гости ходить. У вас на столе одни объедки из школьной столовой!
А вот Эми меня любила. Бог знает почему: я совсем не годилась в друзья звезде класса с фамилией на «А». Она была из богатой семьи, умная, популярная, а выбрала меня… Иногда казалось, что она играет со мной просто из жалости, а еще потому, что рядом с таким ничтожеством, как я, она сама кажется еще лучше, да и учителя ее хвалят за доброту. Но она и правда была доброй.
Давала мне списывать на уроках… Говорила всем, чтобы оставили меня в покое… Отказывалась играть, если меня в игру не принимали. Даже от роли Габриэль в рождественском спектакле отказалась, чтобы мы обе с ней были овечками. Моя мама умилялась, а вот мама Эми была очень недовольна.
Ей не нравилось, что мы играем вместе, и точно так же не нравилось, что сидим за одной партой. Она говорила дочке, чтобы не давала мне списывать, говорила, что нам обеим было бы на пользу, если бы нас рассадили, но Эми не слушала.
Мое имя всегда было первым в списке гостей, приглашенных на ее день рождения, и только меня одну она звала в гости с ночевкой. Мы устраивали полуночный пир, обменивались «Скиттлз» и «Спейс даст», наряжались в «Spice Girls» и танцевали перед зеркалом. Конечно, Беби Спайс всегда изображала Эми – она была и красивее, и волосы у нее светлее, да и белое боа из перьев тоже было ее.
У нее вообще было больше одежды, чем у меня… и из таких магазинов, в которых вещи упаковывают в фирменные пакеты с названием. «Гэп», «Дизель», «Дольче и Габбана» и так далее. А мне вещи покупали в простых мешках, каких на всех рынках полно… Ну, знаете, такие, которые сразу рвутся. А иногда и вообще без всякого пакета – значит, подделка.
Иногда я надевала вещи Эми – правда, только у нее в комнате. Приходилось их снимать, когда я собиралась домой, и миссис Арчер стояла на страже у двери, высматривая дизайнерские этикетки под моим тряпьем с рынка.
Некоторые думали, что мы с Эми близнецы… Миссис Арчер это бесило до ужаса. Она каждый раз делала кислую гримасу и говорила: «Конечно нет, какие близнецы, с чего вы взяли!» На самом деле мы и правда были похожи, только я дешевая копия, некачественная подделка.
Однажды мы с Эми выцарапали наши инициалы у миссис Арчер на крыльце… Она тогда здорово отшлепала нас. Аж ноги горели… но, по-моему, мне больше досталось, чем Эми. Это же ее крыльцо как-никак. Мои инициалы были словно дьяволова метка или еще хуже – дурное предзнаменование. Потом оказалось, что так и есть…
По-моему, миссис Арчер меня и раньше не очень-то любила, до того, как Эми пропала, но вот потом, когда я была жива-здорова, а Эми… Если бы Эми не дружила со мной, она вообще никогда не оказалась бы на той площадке. Но Эми дружила со мной, и она там оказалась, а я нет.
– Где ты была? – каждый раз спрашивала миссис Арчер. – Ты же ее подругой считалась!
Отец говорил ей, чтобы она оставила меня в покое. Дедушка говорил, что так нельзя.
– Дана в себя прийти не может, – твердил он. – Ночами не спит из-за кошмаров. Девочка и так чувствует себя виноватой, а тут еще вы ее допекаете.
Дедушка был прав… Но и миссис Арчер тоже. Это я виновата. И я не могла эту вину искупить, как ни старалась. Я изображала Эми для «Преступлений в эфире». Они там, в полиции, сказали, что я просто ее копия. Миссис Арчер это наверняка было поперек горла. Уверена, ей было поперек горла, что только я могла помочь найти ее дочь… И наверняка она думала, что я легко отделалась.
Я хотела помочь, но боялась. Думала: то, что случилось с Эми, может случиться и со мной… Казалось, если я буду изображать саму себя, то можно будет изменить сценарий и все переиграть. Я не стала бы ссориться с Эми, не дала бы ей уйти. Я была бы рядом… на страже… сделала бы все, чтобы мы вернулись домой вместе с дедушкой, как собирались…