Тайны русских волхвов. Чудеса и загадки языческой Руси Крыласов Александр
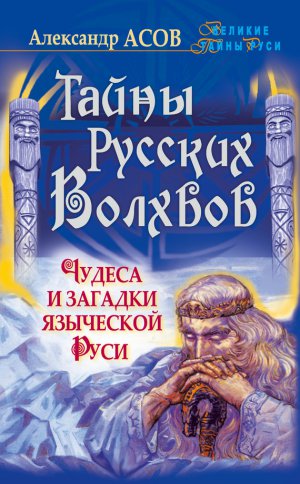
– Нет, нет! Совсем не холодно! – поспешно ответила она. Силуэт покачнулся, развернулся и пошел в другую сторону.
– Так бы и сказала… Я только это и хотел… А то… может, думаю, пиджак одолжить? Может, думаю, холодно? Зачем обо мне так…
Из потока машин вынырнул и затормозил рядом с Машей черный вытянутый кадиллак. Распахнулась дверца, и показалась улыбающаяся яйцевидная голова.
– Маша, мышонок! Прошу!
Сев рядом с Кириллом, Маша восхищенно ахнула:
– Откуда у тебя?..
Кирилл Витальевич довольно щурился; он нажал какие-то кнопочки, и в машине заработал кондиционер, включились встроенные стереоколонки, открылся небольшой с зеркальными стенками бар.
– Прошу! У меня остался коньяк… Лей – тебе необходимо согреться… – Кирилл нажал другие кнопки, переключил скорость, – машина, загудев шмелем, мягко оторвалась от асфальта, поднялась над улицей; разноцветные фонари, городские огни канули вниз, а навстречу летели, закручивались в спирали, подмигивали другие огни – россыпи звезд, галактики…
– Добралась-то до меня как? – крикнул из кухни Кирилл Витальевич. – Неужели пешком?
Маша очнулась.
– А… Нет, подкинул меня один жигуль. Водитель… добрая душа – всю дорогу расспрашивал, потом хотел зазвать в гости. Но – заметь, я не поддалась. Вот еще!
Кирилл вошел с подносом, на котором дымился кофе. Он сел и, стукнув себя ладонью по колену, сказал:
– Ну, ладно, мышонок. Скажу тебе прямо – жена мне сегодня устроила нелепую сцену и ушла к теще, представляешь? Собрала чемодан – и уехала! Так что ты сегодня можешь не уходить. Да и не отпущу я тебя… – он хитро прищурился, – такую…
Маша возмутилась:
– Тебе не понравилось мое платье?
– Что ты! Платье потрясающее! Великолепное платье. Особенно драконы…
Кирилл сел рядом и заговорил с нею, почти сюсюкая, как с малым ребенком: – Ух, какие драконы! А? Потрясающе! Разумеется, все это сама сшила? Потом – на выставку? Нм… А не кажется, что это слишком… мим… вольно?
Маша пересела на колени Кириллу и обвила его шею рукой, – в другой она держала кофе.
– Не кажется…
Кирилл погладил ее по щеке, тихо дотронулся губами до лба.
– Ладно-ладно… Мои вкусы в этом вопросе несколько старомодны…
– Зато в других вопросах!
Они вместе расхохотались и стукнулись лбами.
– Милый, милый мышонок!.. Кстати, – оживился Кирилл Витальевич, – а у меня для тебя есть сюрприз!
– Сюрприз? Обожаю сюрпризы!
– Я, наконец, закончил работу… – Он кивнул на кипу целлюлоидных листов. – Да-да, ту самую…
– Что… «Мышонка»?.. Нет, правда? Кирюша! – Маша чмокнула его в бритую щеку.
Кирилл приложил руку на место поцелуя, будто почувствовал легкий ожог, краска прилила к его довольному лицу.
– Идем… – заторопился он, – я покажу…
Он встал и, пошатываясь на расслабленных ногах, повел Маш в гостиную – во дворец Шарлоттенборг.
– Марат, Марат! – позвал он. – Иди сюда! Мультфильмы! За ними, высунув язык, вбежал Марат.
– Марат любит мультфильмы, – объяснил Кирилл Витальевич, включив видеомагнитофон. – Он мой главный ценитель… Я стал замечать, что у него прекрасный, развитый вкус.
Маша улыбнулась Кириллу и погладила Марата по лохматой умной голове, которая со всем вниманием уставилась в экран. Побежали титры:
«МЫШОНОК»
На экране появился облезлый пес, который вздрагивал от холода и старости, – чем-то он напоминал одновременно Марата и Кирилла. (Марат, глядя на него, подвыл.) Рядом веселились мультяшечные щенята, котята и поросята. Они прыгали, визжали, срывали цветы, пели песенки, кружились в хороводе – иногда забегали под ноги старому псу, который, по-старости, не обращал на них внимания. Наконец, один котенок подошел к псу и спросил звонким голоском – такой голос получают, ускоряя запись:
– Ой, как жалко-то! Дядя, а что это с вами такое? Почему не поете, не пляшете? Ах, сегодня такой солнечный день! А, может быть, вы больны?
– О-хо-хо… – ответил пес. – Нет, я не болен… Просто я очень, очень старый…
– А что это значит – старый?!
Пес закашлялся.
– А это значит, что я уже не могу ни плясать, ни петь…
– Ой, как жалко-то! А что теперь делать?
– Ну, что с этим поделаешь… Говорят, правда, есть где-то целебный… – пес смахнул лапой слезу, – красный цветок, только поди достань его… Нет, видно не придется мне ни петь, ни плясать… Кха… кха… Ста-а-арость!
– Ой, как жалко-то! А давайте… мы этот цветок – отыщем!
– Давайте, давайте! – запрыгали щенята и поросята.
И вся эта забавная компания двинулась на поиски цветка. А идти пришлось по оврагам и болотам, переходить опасные ручейки, потом стемнело, взошла на небо и зевнула луна, ухнув, пролетел филин – стра-а-ашно! А они все шли и шли, только глаза во тьме светились… Вдруг – тонкий писк:
– Ой-ей-ей!
В темноте они на кого-то наткнулись и разбудили. Загорелся огонек, и высветилась маленькая мышка со спичкой в руке.
– Ты кто? – спросил заводила-котенок.
– Мы-ы-ышка!
– А что здесь делаешь?!
– Сплю!.. А вы что делаете?
Тут котенок стал размахивать руками, объяснять:
– Понимаешь, мы ищем красный цветок! Там – старый, больной пес… И так его жалко! так жалко! А помочь ему может только этот самый цветок!
– Я знаю – где он! – пискнула мышка.
И в самом деле, та мышка привела их к цветку, – цветок был нарисован в виде мерцающего красного сердечка.
Следующий кадр:
Мышонок принес цветок и протянул его старому псу. Пес понюхал, забавно пошевелив носом – потянулся за цветком, схватил его и… начал прыгать, визжать, кружиться, размахивая ушами, высунув язык, делая разные неловкие, не по возрасту, движения, а вокруг него закружилась в хороводе малышня.
– Ах, как хорошо!!! – хрипло с энтузиазмом воскликнул он. Вот и все, потом выскочили мурзилочные буковки:
«Конец»
– Ну как? – спросил Кирилл Витальевич.
Маша молча поднялась, подошла к Кириллу и – дала звонкую пощечину.
– Ма… – опешил Кирилл. – Что с тобой, Маша? Тебе… не понравилось?
Маша скинула с себя халат, бросила его в лицо Кириллу и побежала в мастерскую.
– Маша! Маша! – побежал следом Кирилл, а вслед за ним затрусил и залаял Марат. – Маша, ты… что? Я хотел… тебе подарок…
Маша надела свое платье и пошла к двери. Кирилл встал на пороге, преградив ей путь. Завозился и заскулил пес.
– Нет, я тебя никуда не пущу. Давай объяснимся.
– Нечего объяснять. Прощай.
– Нет, подожди!
Маша замахнулась на него зонтиком:
– Пусти, говорю!
Кирилл отшатнулся, и Маша бросилась на лестничную площадку, чуть не сбив с ног соседку, которая стояла за дверью, прислонив ухо к замочной скважине.
– Ох ты, боже мой! – отпрянув, воскликнула соседка. – Уже голышом от любовников бегают!! А я вот – к участковому!..
Кирилл выбежал следом за ней в одном халате. Марат тоже выскочил на площадку и стал яростно лаять на соседку, – та отступила за порог своей квартиры, хлопнула дверью:
– Развели собак, жить невозможно!
Кирилл выбежал на улицу и остановился в тапках посреди лужи. – Маша, я не понимаю… Его хлестал дождь, он заслонялся рукой от летящего снега.
Но Маша не смотрела в его сторону, она ничего не слышала, она махнула рукой – тут же остановилось жигули, распахнулась дверца.
И вскоре Кирилл уже не мог различить за дождем жигули, в котором уехала Маша, оно стало незаметным в потоке машин. А он все стоял и стоял, ему было холодно и горько.
К нему подошел пес, поскулил – Кирилл наклонился, погладил его… Что теперь поделаешь…
– Ну, что, лохматый? Пошли что ли домой?
И сам же ответил:
– Пошли.
1989 г. Москва-Геленджик
- На дне, где стылая вода,
- нора есть под корягой.
- Там рак отшельничал всегда…
- Миляга!
- На берег как-то погулять
- он, задом пятясь, вылез…
- А там все лилии опять —
- раскрылись!
- Подполз поближе рак к одной
- и шепчет:
- – Извините!
- Похожи вы… О боже мой!..
- на Нефертити!..
- Он пел стихи, а время шло,
- за днями – дни, недели…
- Все лепестки…
- пока… не облетели!
1982 г.
О море, море!.
Из сборника «Дивноморье»
– А ветер с моря заходит. Во-о-он рябь…. – Ромка по прозвищу «Галс» приложил ладонь козырьком к глазам и опечаленно вздохнул.
Томившийся у причала тучный гражданин теребил кепочку в руках, мялся, с сомнением щурил близорукие глаза в сверкающую даль. Над утренним морем висело розоватое перекрученное облако, живо напомнившее ему чучхелу (А и в самом деле… что-то такое… Нет, определенно там блики… рябит…).
– Но ведь у вас – объявление, прока-ат… – протянул он с надеждой в голосе.
– Ну и что же что объявление? – Рома снова заложил руку за голову. – Но по утреннему бризу выходить… как раз в мол впечатает! – Рома присвистнул и показал двумя пальцами шагающего человечка. – Идите… поищите другие яхты! Была еще охота рисковать! Да даже если и выйдешь… Ра-а-аз! И на камни бросит! Вот там, справа, под водой очень нехорошие скалы… Сколько яхт побилось… в мелкие щепы! – Ромка скорбно покачал головой. – Вот так вот выходят; кляк-мляк, что нам ветер? Нам, де, море по колено! А ветер их на скалы и бросает! А там-эть и впрямь по колено! Дальше что, а? А дальше – хрясь! То-о-онем!
И тут Галс кивнул на догнивающий рядом баркас с разломанным бортом.
– Вот пожал-ста! Баркас – атас! Ему что правый, что левый галс!
Когда у Ромки нет желания, донимать его – себе дороже. Всегда жди неприятность: то вдруг ветер не с той стороны зайдет, то волна велика… А он будет полеживать на песочке и пальцем не шевельнет.
Но вообразим другую картину – ветерок легок и свеж, будто из-под облачка машут опахалом, и приятно сквозь полуопущенные веки смотреть на лиловый хребет, подступивший к бухте, по коей лепестками цветов разбросаны паруса яхт и виндсерфингов… А рядом раскачивается чаечкой, просится в море его яхта, привязанная канатом к причалу…
И представим далее, что со стороны порта, где разбиты цветники, пахнуло розами и жасмином… Тогда-то и происходит вполне обыкновенное и то и дело повторяющееся чудо: неожиданным порывом с ближайшей клумбы срывает и переносит на причал платьица-бутоны (невесомые платья, сшитые явно из лепестков, бутонов, опрокинутых вниз, – из-под них выглядывают тычинками стройные ножки…).
Разумеется, тогда погода улучшается!
Ромка подает руку, и цветы, ахая, прыгают на качающийся борт яхты.
– Ах-ах! А… мы не перевернемся?
– Что вы! Э… Разве это волна? В легкий бриз выходить – милое дело! Да… и он вот-вот стихнет – смотрите: во-о-он рябь!..
Рома отдает швартовы, выбирает якорь, – яхта медленно отваливает от берега. Он бросатся к фалам и подымает стаксель. Железное кольцо с углом стакселя летит вверх по тросу. Стаксель вбирает в себя ветер, выгибается – и яхточка не спеша, плавно качаясь, оставляя за собой тающий на воде клин, разгоняется.
Ветер явно крепчает, – несмотря на предсказания Ромы. Он набирает силу, резкими порывами перебрасывает парус.
– Э-эх! Хороший ветер! Кто ж и выходит в штиль! – Он подмигивает бутонам, закручивает ус. – А что? Подымем и грот! – Рома выбирает гротофал и грот, гремя, взлетает вверх.
Яхта заскользила веселее, накренилась, так что вода поднялась вровень к борту. И яхта боком, чуть не черпая, запрыгала с волны на волну, – одну протаранила, обдав брызгами взвизгнувших девиц.
– Мелисема… мелисема… – запевает Рома какую-то греческую песню, из которой он знает пару слов, да зажигательный мотив… – Это я пою по-гречески! Похоже? И разве я не вылитый Одиссей?.. Опа-опа, та бузуки… изма, изма сарастуки!
– А Пенелопа у Одиссея есть? – спросил вдруг цветок постарше – темный, томный тюльпан. Второй цветок – молоденькая, в белых кудряшках, астра, прыснула смехом, уткнулась в плечо подруге.
– Э-а… Зачем спрашиваете? Если и есть Пенелопа, все равно она будет ждать… Даже если Одиссей где-то в Тмутаракани загостился у Цирцеи! – Он подмигнул тюльпану. – Или там у прекрасной Калипсо… – Он улыбнулся и астре.
И тут Ромка раскурил капитанскую трубку и стал дымить, словно пароход.
Рядом пролетел на доске виндсерфинга, высоко взлетая на волне, выгнувшись длинным, черным от загара телом, местный жиган Гена. Он пересек курс у самого носа и крикнул через плечо:
– Эй! Галс, закладывай галс, а не за галстук! А где твои дизель-шкоты?!!
– Эть, жухлявый жихарь! – буркнул в нос Рома. – Вот попадет в тень от паруса, встанет, я ж его и расшибу! Да кто ж так близко…
Рома выбил промокшую трубку и, снова закурив, пустил дым в пышные, неотразимые усы. Яхта же шла, качаясь на волнах; сидящие на ней видели: качается не только яхта, но и весь мир – бухта, море, горы, – от этого кружилась голова, будто раскачиваешься одновременно на качелях и кресле-качалке…
Впереди показалась яхта Митрича, старого морского волка, точнее не волка, а медведя – судя по его фигуре и волосатой груди.
– А вот кого мы сейчас!.. – обрадовался Рома и стал колдовать со шкотами. – Так… так… А мы его бабочкой! – Рома поставил стаксель и грот бабочкой – паруса захватили ветер с обеих сторон.
Яхта потянулась, полетела быстрее, а Митрич, разомлевший, задремавший на солнце, почти остановил свою яхту, стаксель у него болтался тряпкой.
Когда яхта Галса на хорошей скорости пронеслась мимо Митрича, Ромка не удержался, снял шляпу и поставил ее на ветер, – это яхтсменский жест: смотри, мол, – под шляпой иду! Мальчишество, конечно, но – разве удержишься?
Митрич подпрыгнул, так что корма его яхты глубоко окунулась, кинулся к шкотам. Ну, теперь держись! Паруса-то у Митрича поболее, да корпус легче…
Эх, помогай, Морской бог! Так-так… Что ж теперь делать? Рома щурит глаза, прикидывает: там, вроде, ветер сильнее, вот его бы поймать…
Ага! Начавший было догонять Митрич, снова отстал, попав в безветренную щель, его паруса заполоскали. Мирич заложил галс, поймал ветер…
– Эй, капитан!.. – тронула Рому за руку девушка-тюльпан. – Смотри-ка, он что-то тебе показывает, кричит.
Рома обернулся… Митрич в самом деле кричал и размахивал руками, но – что, за ветром было не разобрать. Рома огляделся – и тут он все понял. В бухту уже вошла, поднявшись на ножках, напоминая гигантское насекомое, комета. Она шла на хорошей скорости своим курсом к главному причалу порта. Впереди, как раз на ее пути, спиной к комете стоял Генка.
Митрич сделал поворот и пошел в ту сторону. Рома достал ракетницу, поднял – раздался выстрел, ракета полетела вверх. Услышав выстрел, Генка обернулся, испугался, хотел селать поворот, но, видимо, поспешил – и выронил парус.
Издалека показалось, что комета накрыла его, Рома даже закрыл глаза, но когда открыл – увидел, что Генка стоит на прежнем месте и уже пытается поднять парус, а комета тормозит, разворачивается на подходе к порту.
– О, Морской бог… чуть не поседел! Пороть таких, а им паруса дают!.. Опа, опа та бузуки… Выпалить бы из базуки!…
Рома повел яхту вокруг бухты. Мимо проходили берега с домиками, пансионатами, утопавшими в зелени, с причалами, на коих за голыми телами не видно было песка.
Ветер постепенно стихал, пришлось опустить стаксель, медленно идти под одним гротом, который при заходах ветра перебрасывался то в одну, то в другую сторону, грозя сбить размечтавшегося тяжелым гиком.
Девушки легли впереди, у самого носа, они скинули лепестки и загорали – ничего так, приятный обзор по курсу яхты образовался… Судя по всему, они решили во что бы то ни стало сегодня сгореть.
Рома тоже прилег, надвинул на глаза шляпу и задремал…
– А жена сейчас на работе, – думал он, – с курортниками преругивается. Вас-де много, а я одна с борщами! А вечером заберет Бориску, прижмет его крохотульку со слезами и начнет – совсем нас папка забыл, не любит… Морякам-де нужно вообще запрещать жениться!.. Ничего-де хорошего из этого не выходит… Пенелопа!.. Да, теперь я понимаю Одиссея: сам, верно, сбежал от жены, сначала на войну, потом, под благовидным предлогом – боги, де, попутали, – стал путешествовать… От иной Пенелопы впрямь на край света сбежишь! И потом – романтика дальних странствий… Э-эх… бросить бы все, и в море! И пойти вокруг шарика! А что… и пошел бы! Ванты укрепил – и пошел… При любом ветре! Встречный, так встречный, попутный, еще лучше – и шел бы так год… А вокруг ни одного человека, ничего, только море, океан… вода-вода-вода…
Ах, море, море! Беспокойная смена настроений, – то вдруг разъярится неизвестно с чего, то стихнет и едва дышит, парит, томится, – то вдруг ощерится под свежим бризом, и яхта летит, прыгает, режет волны… Все резкие краски, крики чаек, пряные запахи, корабли и паруса, все это звало, шептало об островах и пальмах, о солнце, поднимающемся в золотом, розовом тумане, о звездах, пляшущих в бурной ночи, о расстояниях, измеряемых месяцами томительной качки…
…Ветер стих, гик стало пербрасывать из стороны в сторону – его пришлось закрепить, яхта остановилась почти посередине бухты.
– Теперь жди вечернего бриза, – сказал Рома. – Есть не хотите?
– Хотим, хотим! – донеслось с носа.
Порывшись на камбузе, Рома загремел кастрюлями и мисками, стал выкладывать все на палубу; потом зажег примус, поставил воду.
– В штиль, конечно, готовить легко… а вот в шторм – это да… – Рома прищелкнул языком.
– Так вы что – и в шторм готовите? – спросил, свесившись сверху из люка, улыбающийся тюльпан.
– Приходится… С пустым желудком как укачивает? А? Голова от мыслей тяжелая – вот ее и бросает из стороны в сторону. Не голова – маятник… Мозги взбалтываются, как гоголь-моголь… Но – поешь, сразу чувствуешь себя устойчивее: центр тяжести в живот перемещается, – Рома похлопал себя по животу и показал большим пальцем вверх. – А? Хорошо!
В люке показалась и улыбающаяся астра.
– А как же вы готовите – если качает?
– Как-как… морская смекалка! – Рома стал помешивать в котелке и балагурить. – Вот, помню, прижало нас крепко посредине Черного моря – шли мы тогда на регату в Болгарию… На катамаране – не на этой яхте… И как нас не расколотило тогда? По всему было видно – конец. Несло четверо суток под одною мачтой, а волны – выше краспиц! Ну, значит, пристегнулись. Сидим в спас-жилетах, ждем, когда перевернет либо расколет катамаран на два поплавка: один пойдет в Турцию, другой в Крым. Я тоже сижу, приготовился прыгать на тот поплавок, который в Крым. Турция – это, конечно, интересно: минареты там, янычары, а особенно турецкие бани – после шторма бы да в баньку! Но… все же лучше податься к родному берегу, – у янычаров-то ятаганы, аллах их знает, какие у них там в бритой голове мысли? Так вот… сидим, аппетита нет, но есть-то надо, иначе обессилеешь, да и если за борт попадешь – неизвестно, сколько потом на одном планктоне жить будешь… Кстати, гадость ужасная этот планктон, между нами говоря… Не завидую я в этом смысле китам, – чем им приходится питаться! Готовить, словом, надо – а как? Яхта чуть не переворачивается, на камбуз заглянуть страшно, все разорено, воды по колено, в воде плавают продукты – и запах за четыре дня… залетишь на секунду и наверх, подышать. Но тут смотрю – мук упала в воду, перемешалась – получилось отличное тесто, зачерпнул я тесто в котелок, подвесил над плитою, рядом повесил бутылку с маслом, потом зажег газ, поставил сковородку – а сам наверх. Дышу… Э-эх, как дело весело пошло! Яхта качается – то тесто капнет на сковородку, то масло. Блин поджарится с одной стороны – толчок! – его на другую сторону переворачивает… Потом забежишь на камбуз, а там блинчики горкой в тарелочке, маслицем политы, с правой стороны нож, с левой – вилка! Все качка разбросала по своим местам… Так вот и выходили из положения. В море без смекалки нельзя!
Рома стал накладывать в миски и протянул ложки девушкам:
– Держите-ка весла, дамочки, и гребите на себя!
…Сейчас Роме легко балагурить, а тогда – в шторм…
Погода изменилась, когда никто не ждал. Только что яхта покачивалась, почти не двигаясь, при полном штиле; закидывали лески и вытаскивали бьющуюся серебристую ставридку; прогноз, который сообщило по радиосвязи судно, обещал, что погода в ближайшие сутки меняться не будет, – и, вопреки прогнозу, край неба тут же потемнел, быстро стала надвигаться обложившая весь горизонт темная туча.
Яхтсмены собрались на палубе, смотрели на нее – вокруг было безветрие, яхта шла медленно, а на горизонте, казалось, море встало на дыбы. У всех лица будто посерели… Был почти штиль, но все понимали: это – сюда, этого миновать не удастся…
Туча надвигалась, захватывая новые области неба. Верх тучи сверкал, искрился в лучах солнца, купающегося в его снежной, дыбящейся массе, похожей на всесокрушающую, неправдоподобно медленно, как в бреду двигавшуюся, клубящуюся лавину; под тучею все было черно, там рвали, пучили, разрывали поверхность моря ожесточившиеся, ошалевшие ветр, – эта черная, взрыхленная полоса неотвратно близилась.
Закрепили, зарифили паруса, а когда налетел шквал, Рома попытался уйти по грозовому фронту на маленьком штормовом стакселе, но продержался недолго, через пару часов пришлось убрать и его.
Туча проглотила небо, и сразу, будто их снули в мешок, стемнело. Теперь яхта шла под одной мачтой. Массивная, широкая мачта гнулась под ветром, грозила либо вылететь из шарнира (тогда поплавки катамарана, крепившиеся к мачте вантами, разломали бы все балки и связи), либо перевернуть катамаран, – что лучше, сказать трудно, – в такую погоду, при таком ветре, любого, оказавшегося за бортом, оглушило бы и отнесло от яхты бог весть куда…
Рома прислушался к себе… Нет, ничего не должно случиться. Откуда-то у него появилась уверенность, что из этой передряги он выберется. Будет тяжело, но все обойдется. И еще он подумал: «Зачем волноваться прежде времени, вот окажемся за бортом, тогда… А вот тогда точно беспокоиться будет поздно, да и незачем!»
Задачка была проста – нужно было лавировать с волны на волну, не позволяя яхте становиться к волне лагом. И Рома, одурев от качки, направлял поплавки под углом. Оба носа высоко взлетали над водой и тут же падали, разбивая волны, которые хлестали сквозь сеть, протянутую меж корпусами, окатывая всех на палубе.
К ночи следить за волнами стало невозможно, электричества в аккумуляторах хватало только на сигнальные огни, но не на освещение, и приходилось полагаться на свою интуицию… Рома боролся с волнами половину ночи, потом пришла смена – оставшуюся часть ночи он провел тут же на палубе в полузабытьи…
Четверо суток прошли в изнурительной, однообразной борьбе. Все были измучены, но двигались, делали то, что было необходимо, либо лежали пластом на палубе, а ветер и волна не утихали, не давали передышки. Море показывало, что ему ничего не стоит в щепки разбить ненадежную яхту, смять, оглушить, выбросить за борт жалкую кучку людей…
Последняя ночь была самой тяжелой. Рома отлеживался в каюте перед своей вахтой, то проваливаясь в сон, то просыпаясь от грохота швертов, бившихся после каждого падения с волны в швертовом колодце. Казалось, кто-то грозный ломился в каюту, обещал все разломать, сокрушить…
Рома поднялся и, упираясь в стены, полез на палубу. Когда он открыл люк, его окатила вода, обрушившаяся на него и вниз, по ступеням, в каюту.
– Э-эй! Как там? Слушай, до Турции далеко? – прокричал он рулевому.
– Аа?!! – не слышал рулевой.
– Говорю – смена пришла! – проорал он в ухо. – Отдыхай!
– Какой отдых! Глянь, что делается! – Их снова окатило, и совсем рядом в волну, сопровождаемая пушечным выстрелом, разрядилась ветвистая молния.
Рома скатился вниз и стал поднимать всех, используя морские, походящие случаю трехпалубные выражения и соленые словечки.
– Свистать всех наверх! Робяты, вышибай дверь – вас заклинило!..
В заклинившую дверь ударилось плечо – она вылетела вместе с петлями.
– Не робей, – авось, пронесет! – Рома стал помогать облачаться в спасжилеты. – Если яхту опрокинет – всем цепляться за канат, вяжись к чему попало! Катамаран не утонет, его только поломает даже при оверкиле! Но при шквале он и вверх дном улетит – без подводных крыльев не нагонишь!
Молнии на миг освещали поверхность моря, – было видно, как с волн протянулись водяные нити – это ветер, проносясь над хребтами, сшибал вершины и пену. Этим туманом заволокло все, а волны становились выше, грознее.
Пристегнувшись карабинами к канату, все легли на палубу, а Рома сел у балки, крепившейся к румпелям. И тут он заметил на краспицах голубоватое сияние…
– Эльм! Огни святого Эльма! – он толкнул лежащего рядом, показал вверх: – Эй, Морской бог нам весточку шлет – буре скоро конец!
Волны не становились меньше, но через несколько часов неожиданно тучи рассеялись, их очень быстро отнесло куда-то в сторону, а над еще грозным, дыбящиеся морем открылось звездное небо, показался мученический лик луны.
Теперь, когда яхта взлетала на гору и отрывалась от воды так близко к луне, казалось, немного, один толчок… и – она не упадет обратно, а, приобретя первую космическую, преодолеет земное тяготение…
Вверху и внизу разверзлась бездна, лунная дорожка рассыпалась, – в ней плескались, играли звездами золотые рыбы.
Море успокаивалось, край горизонта светлел…
– Что, Одиссей… – буркнул Рома, – выбрались мы с тобою…
Стемнело… От городских огней на черную воду лег разноцветный, бегущий серпантин. Приемник поймал танцевальную мелодию, и девушки, распустив длинные, русалочьи волосы, затанцевали на корме.
Рома встал на носу и рыбкой нырнул в ошпарившую при падении воду, вынырнул – вокруг вода светилась, зажигались и гасли огоньки.
– Девочки, вода – чудо что такое!
Следом за ним упали два тела. Рома полежал на воде, глядя на небо с огромными, яркими звездами.
– Да… – подумал он, – а мир все-таки устроен неплохо… Да… И значит – будем жить!..
Июль 1989 г. Геленджик
- Лихо моё лихо…
- Ты погодь манихонько..
- Дай маненечко дохнуть —
- Недалече держим путь…
- По морю, по синему,
- по волне, по крутенькой…
- На досочке гниленькой,
- погоняя прутиком…
- Только край засинееет,
- неба край засинеет,
- И судьба-судьбинушка
- нас уже не минует…
- Ой, да что-то застит,
- как слеза – глаза…
- Может, то ненастье,
- близится гроза…
- Ой, да разгуляется
- непогодушка…
- Ты погодь, хоть малость,
- погоди немножко…
- Там, за краем облака,
- Ветка да травиночка
- мне тогда приснилися..
- Ой, ты ветка клёна,
- не роняй листок!..
- Не клони былинку,
- ветер-ветерок…
Июль 1989 г.
Магиструс
Мистерия морей и луж – или история о том,
отчего бывает на душе сушь…
Жарко сегодня, жарко и пыльно. Над горячим, проминавшимся асфальтом – дрожание: восходили, клубились нагретые струи, по стенам окрестных домов бежала зыбь. Едкий пот застилал глаза; плыли, мрели миражи – как в пустыне: изнываешь от жары, жажды – только бы дойти, доползти, окунуть иссохшие губы и пить-пить-пить… Но – увы! Даже автоматы с газированной водой, попадавшиеся по дороге, были неисправны, глотали мелочь, плевали и трубили в стакан; марево, манившее издали, растаяло; озеро не оставило даже мутной, солоноватой лужицы, – никаких перемен: все те же раскаленные пески, все то же бессмысленное, жестокое солнце.
– Уф-ф! дошел… – Илья Иванович Петрищев промокнул платочком красный, лоснящийся от пота затылок и свернул за ограду под тяжелые, нависшие над душным, тесным двориком, пыльные липы.
Илья Иванович – дэ-фэ-мэ-эн: доктор физико-математических наук. Солидная комплекция, солидные труды… Старательный, пунктуальный во всем, он всю жизнь посвятил морю, растратил, пытаясь зажать его между страниц монографий, препарировал его формулами и системами уравнений; и, казалось, стихии было невыносимо тяжело в замкнутом, затхлом пространстве его кабинета, она, чуть не до смерти замученная, чуть не зарезанная на его столе, вырывалась на волю, плескалась, пускалась в загул, и вечно в голове ее шумел ветер, вечно она увлекалась, неслась куда-то, безоглядно, опрокинув каноны, не подчиняясь общепринятым нормам и правилам, обоснованным точной наукой.
Откроем любую страницу его научных трудов и попробуем прочитать, крепко держась за челюсть, чтобы не раззеваться: турбуль… буль… – чтобы правильно произнести, наберем в рот воды – турбулизация… Крупный специалист! Так говорили о нем и вспоминали его многоярусный лоб, – не лоб, а лбище: рвы, изгибы, вмятины, наплывы и наросты… Перепаханный, изуродованный нелегкой жизнью, глубокими – как яма, в которую сам-то и попал, – раздумиями, плодотворными трудами на поприщах… И думалось, здесь, в паутине ветвящихся морщин – а не где-то там в сумерках за черепною костью, в тех извилинах! – здесь, как в гамаке, пружинила, давила чугунным ядром, довлела, глобальная мысль… И тут же вспоминалась парящая над всем, ясная, отсвечивающая нимбом, вздувшаяся пузырем лысина с прилизанною прядью и пришлепнутые по бокам, вялые уши с пробивающейся седою щерстью.
Тяжело переваливаясь, колыхаясь плавящимися жирами, он проплыл в душной, пыльной тени – мощный, грузный, с бухающим в затылок сердцем – мимо детской площадки, мимо малышей, возившихся в песочнице (игрушечными, смешными рядом с ним показались лесенки и грибочки), пересек двор и двинулся к входу в родной НИИ. Обычно Илья Иванович поднимался к себе, усаживался у окна, выходящего во двор, и с удовольствием разбирал бумаги – сортировал, раскладывал в папочки, а папочки завязывал шелковыми тесемочками. Иногда отрывался от дел, подходил к окну, поливал кактус и смотрел во двор, – во дворе дети играли в песочек, лепили блины, копали совочками, – и было умилительно до слез наблюдать, как они сосредоточенно трудятся…
Но сегодня Илья Иванович не дошел до двери. Вдруг вокруг тени стали резкими; световые пятна замельтешили, ослепили его – солнце сорвалось и разбилось о его голову. Он боком, неловко, осел на скамейку, с силой рванул ворот – отлетела пуговица. Его рука сползла по телу, длинная прядь неряшливо свесилась с лысины.
Последнее, что он увидел, – была песочница; мнилось – близко она, только руку протяни… но – не дотянешься, будто в бинокль смотришь… Сначала изображение было размытым, – он делал усилие, вглядывался… – теперь все хорошо различимо: вышитый на панамке цветок, совочек… Малыш поднял голову – лицо его знакомо, – да-да, конечно… Илья вспомнил: солнечный день, волжский берег, мелкий горячий песок…
Как давно это было! Время наложилось виток к витку… И вдруг, словно плеснули и смыли все наносное, смели сор, скопившийся за долгие годы, смахнули пыль со стекла… Илья смотрит глазами Илюши, он замер между двумя зеркалами: с двух сторон открылось прошлое и будущее. Перед ним тоннель, – из прошлого тянется вереница людей, стоящих в затылок друг ко другу; кто-то выглядывает из-за спины из уходящего в голубизну колодца:
– Кто ты? отзовись, пришедший на смену! Что сделал ты? Кто пришел на смену тебе?
– Кто я? Илюша… Нет-нет, не Илья! – Он испугался, отшатнулся, когда зеркало на миг показало ему грузного морщинистого человека, полулежащего на облупленной скамейке. – Это не я! Я не виноват! Я играл в песочек, а больше ничего такого не делал!
Илья бился лбом и кулаками о стекло, он уже не мог кричать, доказывать… И вскоре он обессилел, он сползал, падал, оставляя на стекле тающие следы от рук. Молча, в упор смотрели предки его из-за зеркала и видели за его спиной пустоту, пустыню. Никто не пришел ему на смену, цветущая ветвь рода засохла, осталась торчать под палящими лучами без листьев и побегов… Почему… почему так получилось? Как ты мог, Илья? Ты играл в песочек, но что осталось от песочного города после стольких лет, ветров и дождей?
Илюша играл в песочек… Он помнит: было много, много света, обжигавший пляжный песок, откос, чуть не весь заросший травой, позади плескала и холодила спину медленная, спокойная волжская вода… Он набегался за день, накупался чуть не до простуды, устал, – теперь, сомлев на жаре, присмирев, занялся строительством: он строил песочный город. Отлетели годы, брошен портфель, разглажены морщины, – Илья Иванович, дэфэмэн, поднялся и уплыл голубым шариком… Остался – Илюша, – капает мокрый песок из кулачка, слой за слоем растут стены… Уже закручиваются улитками крыши, поднимаются сталагмитами храмы, капители колонн пускают листья аканфа…
– Красивый город… Да, очень красивый! И очень похож на всамделишный… Сразу не отличишь…
Илюша вздохнул:
– А я бы не отказался жить здесь… Нет, не отказался бы! Даже если не в центре, а на окраине… Тринадцатый этаж, лифт, мусоропровод… Рядом – булочная, метро… Но… – он опомнился, – а если ветер? или, например, дождь на неделю зарядит? Или пройдет кто-нибудь рассеянный не смотря под ноги и нечаянно растопчет мой дом? Хорошо, что песка вокруг много и вода рядом, можно построить новый! А если пролетит по реке моторка и поднимет цунами, которое обрушится на пляж и смоет город?
Но – что поделаешь? Многое ли зависит от наших желаний… Не спросив: согласны ли мы – вытолкнули нас на свет; не спросив – толкнут дальше. Будем жить там, где предписано!
– Так… – Илюша осмотрел песочный город, – а не заняться ли нам, пока есть время, просвещением? Насадить вон там и там науки и искусства, потом их пестовать, ждать, когда завяжется достойный плод, заколосятся всходы, орошенные из неиссякаемого источника… А потом – придет срок – и потекут молочные реки в кисельных берегах и блага посыпятся, как из рога изобилия…
Просвещение… брожение умов, озарения и открытия… Платоны и быстрые разумом Невтоны… Чтобы они появились на свет, чтобы они родились, нужна Альма Матерь, она будет тужиться, испытывать родовые схватки, когда Невтоны толпами пойдут из ее чрева. И куда же они пойдут? Разумеется, в Академию! Пойдут, щелкая на калькуляторах, посыпая направо и налево терминами, и все, что нужно высоко нести, – они понесут высоко; и все, что нужно широко развернуть, – они развернут широко; и не будет для них узких мест и белых пятен, и на каждый фактик они уверенно повесят свой ярлычок, и на каждый вопросик они без колебаний дадут исчерпывающий, недвусмысленный ответ.
Илюша отжал из горсти грязную воду, чтобы песок капал погуще, стал возводить серые плоскости университетских башен. Поднялся монолит центральной башни – строгий, как формула, без украшений, с ровными рядами окон, стоящий по стойке смирно. Рядом встали конвоем две такие же серые башни, но поменьше и поуже. Перед зданием у входа Илюша установил и посадил безликих чугунных юношей и девушек, – девушек в приличных, застегнутых на все пуговицы блузках и скучных, опущенных ниже воображения, юбках, а юношей в безрукавках, обнаживших литые мышцы, все свои силы отдавших служению науке, ношению толстых, многопудовых томов, напичканных чем-то тяжеловесным, но несомнено приносящим пользу, проливающим свет на тайное тайных, – не потому ли и смотрят они просветленно поверх голов, не потому ли у них одинаково сосредоточенные суровые лица… Закончил строить Илюша, укрепив на главной башне сверкающий шпиль и последней капелькой приладив к нему эмблему.
Потом за оградой, в тени лип, построил особнячок в стиле ампир: Академию – колонны с завитушечками, кудряшечками, маскарадные маскароны, – будто француз, времен империи, напялил на себя маску Тирсиса или Кандида, бряцает бутафорским оружием, клянется Юпитером, а сам – в панталонах и парике и манеры изящные… правда не совсем, что-то в его поведении настораживает, и прононс у этого француза неидеальный, потому, наверное, что учился французскому не в Париже, а у няньки-бонны.
Если внимательно присмотреться к зданию Университета, то можно кое-где заметить ампирные детали – колонночки, барельефы, теряющиеся, подавленные, кажущиеся неуместными, как тапочки и чепчик на солдате, но тем не менее раскрывающие родственную связь Академии и Университета, – становится понятно, что Университет вырос из Академии, просто по рассеянности, да по убогости не воспитали в нем изящных манер, натянули родительскую одежонку, так что все разошлось по швам, налепили кое-где кое-что и на том успокоились.
– Чуть не забыл самое главное! – спохватился Илюша, окинув взглядом берег и пляж. – Город стоит на реке – значит, ему нужен порт! Пусть торгуют с дальними странами, смотрят, как там люди живут, какие там обычаи… Строят ли и там дома из песка… Пусть просвещаются, расширяют кругозор, – это полезно. И потом, порт – значит: выход в море, научные суда, экспедиции, заходы, суточные, морские надбавки… Будет чем заняться в Академии!..






