Тайны русских волхвов. Чудеса и загадки языческой Руси Крыласов Александр
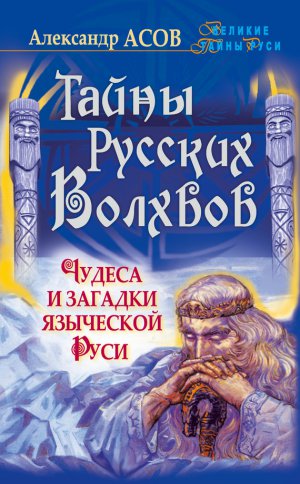
Илюша взял совок, несколько раз копнул и выкопал море, достаточно глубокое и широкое. Он утрамбовал дно, наносил горстями воду… На скалистый берег накатила волна, ударила, выбросила вверх пенные струи. Швырнула привязанную канатами шхуну, откатилась, прополоскав между причалом и бортом горло. Взвыл, наклоняя траву к земле, предвещая бурю, ветер, заплясали, ринулись ордой, с гиканьем, вспенясь гривами, малахитовые волны.
Управившись с морем, Илюша стал рыть каналы и водохранилища. Каналы осыпались, водохранилища зарастали ряской, мхом, становились болотами. В море поднялась муть, расплылись масляные, лоснящиеся болезненной радугой, пятна. Там закручивались щепки, оберточная бумага, кажется – даже листы из его диссертаций; над водами, снижаясь и не рискуя сесть и окунуться, носилась и кричала голодная чайка; на черный от нефти берег выбросило мертвую, вспухшую белобрюхую рыбу. Потом море стало мелеть, отхлынуло от берега и ушло испускать дух за линию горизонта. Осталась грязная соляная пустыня. В пустыне поднимались смерчи, соль завихривалась, шла стеной, сжигала по пути все живое, настигала и погребала под собой караваны, хлестала, проникала в каждую щелку одежды, резала до крови; разойдясь, в бессмысленном гневе, валила с ног, засыпала, хоронила одиноких путников.
Почему так получилось? Почему? Илюша и не предполагал… Ну и что с того, что – ученая степень? Природа настолько сложна, своенравна и в то же время ранима, настолько хрупка, что в царстве природы с любой ученой степенью, будь ты хоть семи пядей во лбу, будешь ворочаться, как слон в посудной лавке. Илья хотел как лучше… Так почему же соль и песок все выжигают, все – мертвят? Почему там, где рокотал, бил прибой, носилась в воздухе пена и перья чаек – ныне раскаленные мертвые пески, скалы, соль…
Нет, нет! Он и не предполагал… Он не виноват! Не он разворочал, перепахал эту землю и вычеркнул море, не он разрабатывал проекты орошения, которые обернулись проектами осушения и опустынивания, осолонения залежных и освоенных земель. Ничего этого он не делал, он только писал статьи, защищал диссертации… Ну – да! Одобрил. Поддержал, подвел научную базу, а потом вы-яснилось, что все его доказательства построены на песке. Но на него же давили – ого-го как! Разве от него зависело что-либо? Если бы не он, это сделал бы кто-нибудь другой, а желающие нашлись бы, только кликнули б, грошиком поманили – толпой бы набежали, затоптали песочный город, забросали, вычерпали море. Было бы то же самое, только грошик достался бы не ему. Он – исполнитель, «стрелочник», надо – значит надо… вот он и выполнил приказ! А в приказе значилось: море сие преступным образом изрядную площадь на карте занимает и переводит в бесполезные колебания и зыбь водные ресурсы, принадлежащие народу. И далее черным по белому с подчеркиваниями и разбиением по пунктам: надлежит, ничтоже сумняшеся, искоренить сию вредную хлопководству и бахчеводству игру природы, а об исполнении – сей же час доложить. Скреплено гербовой печатью, размашистой подписью; сверху мелкими буквами отпечатан гриф: ужасно, ужасно секретно! тсс… чтоб никому ни под каким видом – ни-ни!!!
Разве Илюша виноват? Виноват – большой дядя, а старших нужно слушаться! Будешь себя хорошо, прилично вести – получишь конфету, продвижение по службе, квартиру – пусть на тринадцатом этаже, но с мусоропроводом, и булочная будет недалеко, за углом; а будешь характер показывать – можешь и с ремнем коротко сойтись. Да! Ремень – предмет особенный, годный к употреблению кроме всего прочего и в воспитательных целях. Взыщешь по всей строгости, поставишь в угол – в следующий раз неповадно будет, а как старших зауважаешь – любо-дорого!
Да… Стоит немного мягкие места пообхаживать – и сразу просветление наступает, и ум из нижних полушарий в верхние перемещается. А там и тебя за рассудительность зауважают, – крепок, скажут, такой-то задним умом… А там и расти начнешь, недолго в младших походишь, выдвинешься в старшие научные сотрудники. Сам с ремешочком будешь похаживать, пряжечкой поигрывать… Пока не споткнешься вдруг, ведь трудно же ходить в штанах без ремня…
…Илья медленно завалился на бок и вдруг – почувствовал под собой брусья скамейки…
Он на мгновение понял, что находится во дворе перед входом в НИИ, и что из окон института уже выглядывают. Позвать? Сказать, чтоб помогли, вывели его из подземелья, вызвали скорую? Что-то с сердцем… Илья повел рукой, приподнялся, глотнул воздух и… снова провалился в водоворот мыслей, чувств и воспоминаний…
А почему Илюша занялся морем? Разве он не мог найти другого, не столь пагубного для экологии дела? Например: чистая, высокая математика… Чем не занятие для интеллектуала? Забраться в глушь, отгородиться от мира частоколом формул, Гималаями абстрактных алгебр, посадить на цепь лязгающий челюстями, негуманный, бесчеловечный г-о-м-о-морфизм, затопить все накатывающимися, плещущими тригонометрическими функциями, самому завернуться в матрицу, чтобы практика, членистоногие машины добрались до этого места лет через сто, когда ему будет все равно, а то и – это было бы лучше всего – никогда не добрались бы и не стали выкачивать из его костей, праха и перегноя презренную пользу…
Кто его направил сюда, взял за шиворот и окунул в это море проблем? Кто этот большой и странный дядя, столь похожий на памятник, указующий куда-то в светлое будущее?.. Да и живой ли он? Из чего же он сделан – из песка? из камня? Да и один ли он – тот, указующий перстом, – или «имя им легион»? И каждый и них хватает за шкирку предыдущего и бросает… Куда? В море, или просто в придорожную канаву?
Это же не люди – нелюди! Они окаменели, затвердели, когда их заставили затвердить: всяк, кто устроен не по их образу и подобию, настоятельно рекомендованному в соответствующих параграфах соответствующих уложений, всяк кто оступается, идет не в ногу, забегает вперед или бросается сторону, прыгает выше головы, лезет вперед батьки, не зная броду, – а делает это – всякий, все грешны и одним миром мазаны, – все, значит, и подлежат регламентации, нивиляции и обструкции: т. е. всех следует обстругать, снять стружку, пройтись с наждачком, продрать с песочком, подвести под линеечку, под общий знаменатель, а то и – вычесть, для простоты и общности, рубануть с плеча, чтоб долго не канителиться, не колупать по щепочке…
А как же превратился в живую окаменелость сам Илья? Да-да, и его убили… в него вбивали, вдалбливали: структурные изменения… хладореагент…И так же ходил перед ним лектор, в той же докторской (или судейской?) мантии, в той же четырехугольной шапочке с болтающейся на веревочке кисточкой, – и было это в том же песочном городе через несколько лет, когда он приехал учиться, чтобы стать ученым и двинуть науку, думая, что если ее хорошенько двинуть, то все станут жить лучше, хлеба будет вдосталь, все будут довольны и сыты, и никто не будет никого вести к стенке, поскольку простейший расчет покажет, что выгодней не вычитать, а складывать, потому что, вычитая, можем в конце концов остаться на нуле, а складывая и преумножая – достичь благоденствия.
Он пришел, ни в чем не виноватый, не готовый, не знавший, за что его могут осудить, а его повязали, заключили в четырех стенах, сунули в руки конспект и сказали: пиши! Кибернетика – продажная девка, теория Эйнштейна противоречит основным догматам внеисторического материализмуса, которые голубок нашептал нашему отцу и учителю, всевеликому генералиссимусу… Тсс! Нельзя поминать всуе священное имя его.
Лектор черкал формулы: по доске разбегались диковинные, похожие на скорпионов иноязычные буквы. Они цеплялись друг за друга закрученными хвостиками и ножками. Лектор сражался с бесконечностью – эта опрокинутая восьмерка не давала ему покоя. Он обеими руками ставил ее на попа, подпирал загогулиной интеграла, обливался потом, пыхтел. Когда доска кончалась, он нажимал на кнопочку – со скрипом начинал работать мотор, доска из плотного линолеума перекручивалась, написанное поднималось вверх.
– Докажем, что… – гундосил лектор, – количество чертей, могущих поместиться на острие шпиля Университета, находится в пределах от нуля до бесконечности… – Его кисточка описала восьмерку. – Предположим, что количество чертей больше бесконечности, это утверждение не соответствует истине, так как, если на острие чертей бесконечно много, то было бы весьма проблематично найти еще хотя бы одного черта и затолкать его туда же, даже если там осталось сколько угодно места, его просто неоткуда взять, этого черта… Да и вообще, на какого черта я вам объясняю, когда это и так ясно!
Бежать… Бежать… Уносить ноги из этого сумасшедшего дома… Илья убегал с лекций, шатался по темным коридорам факультета, не находил себе места. Куда бежать? Где лучше? Что с ним будет? Песочный мир нестоек, в любой миг может разрушиться, а что за песочными стенами – кто знает? Нет-нет, придется жить здесь, стараться не попасть под осыпь, искать слабину, понемногу освобождать руки от пут… А пока поищем себе место… Да-да, я попал сюда по ошибке, но именно здесь приходится искать свое дело… Надо приспосабливаться… Надо… надо… надо… Он ходил в темноте, тыкался в стены, заходил в комнаты, в залы, в аудитории… Может быть, мне – сюда? Он входил в зал, в котором дробили ядро, – дюжий физик, с засученными рукавами, бил кувалдой по наковальне, лицо его сияло, пот лил ручьем. На стене грохотал счетчик Гейгера. Рядом парила в воздухе магнитная бутылка, на ней были нарисованы череп с костями и красная предупреждающая надпись: осторожно – термояд! Тут же вытачивали на станке бомбу.
– Да, – радостно объяснял физик, – ежели эта штука жахнет, так жахнет… полетят клочки по закоулочкам!
– Нет, нет… это не по мне… – пугался Илья и отходил в сторону.
Из другой двери Илья вылетел пулей – там настраивали зеркала гиперболоида, причем лазерный луч был направлен как раз на входящих в комнату.
На следующей двери было нарисовано губной помадой огромное сердце, пронзенное стрелой, но туда его не пустили. Его вытолкали на том основании, что вход разрешен только по спецпропускам: но он успел заметить, как перед маститыми профессорами, убеленными сединой, под ритмичную мелодию показывала танец живота продажная девка – кибернетика. Профессора потупляли глаза, страшно смущались, прикрывали глаза логарифмическими линейками.
В других комнатах что-то пыхтело и взрывалось, валили клубы из сосудов Дюара, вращались вечные двигатели, носили ящики с кричащими надписями: «Не квантовать!», кто-то соединял два куска урана и ждал, что из этого выйдет, кто-то бегал с сачком и ловил элементарные частицы, после каждой пойманной щелкая на счетах. В одно крыло здания – ход был закрыт, в дверях цербером сидела вахтерша и никого не пускала, по одним слухам, там смоделировали черную дыру и все, кто туда попадал, исчезали бесследно, по другим слухам – там была просто столовая для избранных и подавали там черную и красную икру. Во дворе время от времени приземлялись летающие тарелки и оттуда выходили зеленые человечки, но, так как встречи с ними не были запланированы, то на них никто не обращал внимания, они чесали зеленые затылки и улетали обратно. Временами здание сотрясалось, когда особенно натренированный физик разбегался и бил ногой по спутнику, выводя его на орбиту. Вокруг здания ходили колонны с транспорантами: «Крепи ряды Фурье! Нет предела нашему интегралу! Наше тело твердое – мы победим!» На самом верху сидел белобородый старец, свернувший трубу из газеты, и смотрел в небо, внизу – кто-то копал ход к центру Земли.
– От этого всего хоть в воду… – мучился, метался Илья. – Нет-нет! Не хочу я, чтобы моя жизнь пролетела в трубу, как у этого чудака на чердаке, и заниматься солнечными пятнами мне не светит… Сражаться с прибором, вооружившись паяльником и инструкцией по технике безопасности, всю жизнь просидеть за кристаллической решеткой… Ну уж нет! Ни за что! Все! Решил. Ухожу в море!
Туда, где свежий ветер надувает паруса! Да, так! И… «пусть ветер гонит парус за белой чайкой вслед… восточному базару подобен белый свет…» Загремела в мозгу фраза из морской песенки, то ли слышанной где-то, то ли прилетевшей из сна…
Морем, а также прочими водами: реками, ручейками и болотцами, – занимались в маленькой, захламленной комнатке в цоколе. Там громоздились остовы приборов, вряд ли бывших когда-то в употреблении, но по инвентаризации зачисленных за этой комнатой во времена оны, свешивались провода, стояла канистра и еще много разных сосудов и сосудиков, в том числе корыто с грязью, имитировавшее дно моря.
Посреди комнаты перед разбитым стаканом сидел профессор Парчевский, вымоченный с ног до головы, и жаловался, что опять эксперимент не удался, потому что снабжают их допотопной техникой, – сколько раз просил, чтобы достали стаканы из закаленного стекла, потому что обычное стекло не выдерживает перегрузок, возникающих при генерации бури в стакане, на что аспирант, стоявший рядом, отвечал, мол, это ничего, бывало и хуже – в прошлый раз, например, когда моделировали цунами, затопили весь этаж, и приходилось добираться до гальюна вплавь.
Илье сразу понравился шум, морские словечки, которыми пересыпали свою речь физики. Например, туалет и буфет, находившиеся рядом, назывались соответствено – камбуз и гальюн. «На камбуз лучше не ходи… Бр-р! Траверз!.. Котлеты по-африкански; съешь – в животе аппартеид начинается. А в кофе – подводные лодки плавают…» Кабинет заведующего кафедрой на втором этаже называли капитанским мостиком; сходство усиливалось оттого, что в кабинете стояли два антикварных компаса, снятые с каравеллы.
Да и сам завкафедрой напоминал капитана, с трубкой в зубах, бакенбардами. Любимая поговорка: ветер в компс – течение из компса, – ударение на предпоследнем слоге; и еще: «я помню метод Макарова-Надсона», – тоже какой-то антикварный метод определения чего-то там в море, ровесник бутылочной почты. Он побывал на всех морях, на обоих полюсах, облазил все пальмы на островах Кука и истуканы с острова Пасхи; и сфотографировался там непринужденных позах – эти фотографии были вывешены на стендах под стеклом; измерил температуру всех океанов, придумал и свой новый океан, потому что старых ему не хватило, и в нем тоже измерил температуру. Он вообще представлялся колоссом, богом морей с трезубцем в одной руке и градусником в другой, – жаль только, что от морского ветра, да от холода на полюсах он почти лишился слуха, но разве слух нужен заведующему, если он все понимает с полуслова, и разве не следует повышать голос, дабы боги вняли тебе?
Чтобы найти общий с ним язык, стали применять морские вымпелы, и вся кафедра обучилась новой грамоте. Если выбрасывался желтый флаг – это означало, что какой-то сотрудник болен, берет бюллетень; если – белый, значит – решили задачу Штурма-Лиувилля; адамова голова с костями – означала, что кого-то прокатили на защите, и так далее. Однажды завкафедрой выбросил флаг штормового предупреждения в адрес Ильи, мол, если еще раз сбежишь с лекции, то…
Лекции… лекции… Как с них не бегать? Когда же учить физику, как не во время лекции, сбежав с нее в библиотеку? Если бы все делалось как положено – физика остановилась бы на Аристотеле… Впрочем, разве нас учат не по методикам средневековых схоластов? Главное – вызубрить, получить отметку, но кто говорит, что главное – понимать? Да, а самое главное – присутствовать на лекциях, – что ты делаешь, спишь ли, читаешь художественную литературу, рисуешь шаржи и сочиняешь эпиграммы на лектора – неважно, – главное присутствовать. Правила игры: вы – студенты, сидите и спите за партами, мы – профессора, говорим и пишем на доске, а за это нам платят «зря-плату»… За что же ее будут нам платить, если вы не будете сидеть и спать?
Так что бессмысленно препираться, упираться… Илья приходил на лекции, садился на последней парте; слова лектора вкатывались в его уши, как чугунные шарики, и, не удержав отяжелевшую голову на слабой шее, он клал ее на парту, отключался от внешнего мира… Во сне он возвращался домой, на берег Волги, и видел он, как мама, Настасья Ивановна, готовила что-то, стоя у печи. Илья даже чувствовал дразнящий запах кислых щей с салом… От этого запаха он просыпался, вспоминал, что стипендию-то он давно проел, в кармане ни копейки, в желудке пусто… Какая наука пойдет в голову, если желудок пуст? Но что до этого заведующему кафедрой?
Заведующий кафедрой командовал большой флотилией научных морских судов. Перед началом навигации в его кабинете собирался весь профессорский состав кафедры: морские волки с обветренными лицами, подвязанными глазами, с кортиками за поясом и трубками. Раскладывалась на столе карта с загадочными очертаниями берегов Европы, с Черным морем, на котором по-древнегречески было написано «Pontos Euxeinos» и нарисован Морской Змий.
Дымили трубки, все вспоминали невероятные происшествия, рассказывали о штормах, о неразгаданных тайнах морских пучин.
– Шли мы как-то, шли… – начинал Парчевский классической фразой, – кругом туман… Вдруг… смотрю – из моря чудище высунулось… Я на него, а оно на меня глядит! А само-то странное до чего: голова козлиная, хвост щучий, во рту зуб, – один, но длинный и острый, как сабля!
– Ну и что? – невозмутимо попыхивали трубкой напротив. – Со мной то же самое чуть ли не каждую навигацию случается… Да! Помню, высадились мы раз на Сейшелах… Вы не представляете, как разнообразен там животный мир!.. Так вот, поверите ли, стали мы забивать там козла, а потом он оказался рыбой!
– Э-хе-хе… – то ли смеялся, то ли кашлял завкафедрой (он как будто ничего не расслышал, а может, просто давно не забивал доминошного козла).
Завкафедрой откидывался в кресле, тоже начинал вспоминать:
– А вот со мной за Геркулесовыми столбами… Да-а-с….был случай… Представьте – подходим мы к острову… Мм… Да-да, припоминаю… к Атлантиде… Так вот – на острове вулкан дымит. Пух-пуф! Пух-пуф! Такие, знаете, клубы… Аборигены ходят сонные с красными глазами… Боятся пропустить начало извержения… Как мы поняли – это у них обычай такой… Не спят – значит, грех проспать, все же – редкое зрелище. Собрались они вокруг нас и лопочут по-своему: помогите, мол. Как не помочь! Задумались мы, сели пить чай – известно, без чифиря ни одна серьезная проблема не решается… Сидим. На плите чайник посвистывает… И тут меня осенило, – снял я свисток с чайника, сбегал на вулкан и приладил его в жерле: как извержение начнется – он сразу свистнет и разбудит аборигенов… Спите – показываю им (завкафедрой положил ладони под щеку) – спокойно! – Завкафедрой чуть сам не заснул, но встряхнул головой и продолжил: – Бр-бл-бл! Ах! Как нас благодарили, как благодарили! Полный трюм бананов загрузили – они потом портиться начали, пришлось часть выбрасывать…
– А вот со мной был случай…
…Поговорив таким образом, наконец решали, что в нынешние времена и вода не так солона, и ветер не крепок, и рыба в морях передохла от химии, и моряков настоящих не осталось. Кто-то вспоминал, что собрались-то они обсудить навигацию, так сказать, вопрос – куда ж нам плыть?
Завкафедрой тыкал пальцем в карту, попадая, как правило, в район пустыни Каракум, и говорил:
– Сюда!
На этом заседание заканчивалось.
Долгие были обсуждения, давали слово каждому профессору, прели до седьмого пота в прениях по докладам. Все выступления протоколировались и подшивались, по всем заседаниям давался подробный отчет в вышестоящих инстанциях, – так и определялся окончательный вариант маршрута.
Затем собирали экспедиционное оборудование: упаковывали ящики всеми приборами, которые пылились по полкам, – их предстояло потом везти на судно и таскать с кормы на нос, а потом с носа на корму – считалось, что это служит развитию физической выносливости, необходимой начинающему физику.
Близилось лето, где-то наверху шла напряженная работа, подписывались и утрясались различного рода документы и справки, занявшие потом отдельный, особенно тяжелый ящик. А Илья одолевал сессию, брал штурмом зачеты и экзамены…
Наконец, все экзамены были сданы (даже завкафедрой, принимавший самый ответственный экзамен, выбросил белый флаг, извещавший о благополучной сдаче), и Илья с радостью забросил конспекты, чтобы никогда больше в них не заглядывать и навсегда начисто забыть все, что он учил и сдавал: сдано – так с плеч долой! Прошло время разбрасывать камни, пришло – собирать: нужно было проходить преддипломную практику, – и Илья вместе с группой, в которой он учился, отправился к морю. Наконец он вырвался из задымленного, зачумленного города с его мельтешением, маетой, с его метро, с его толпами, с низким, тяжелым небом, с его трубами и смогом. Проклятый песочный, каменный город!
Наконец над ним ясное, полуденное южное небо, воздух чист и свеж, пахнет травами, близким морем…
Море! Яркое, живое… Оно развернулось перед Ильею до края неба и из-за крутизны берега казалось почти отвесным, будто тяжелый, подсвеченный изнутри занавес… И, как перед началом представления, Илью охватило нетерпение: когда же… когда начнут?
И вот уже рукоплещет прибой… первый такт… настраиваются, пробуют голоса инструменты… стучит дирижерская палочка…
И – занавес взвился, судно отдало швартовы, погудело, прощаясь с портом, прошло мимо белых гражданских судов, серых, хищных, костистых военных кораблей, прошло между бакенов и, оставляя в кильватере пенную струю, двинулось вдоль побережья. Полетели в лицо соленые брызги, сердце застучало по-особенному… И вот уже кровь кипит и пьянит, и ветер дальних странствий, романтичный и несовременный, треплет волосы.
Все волнуются, и те, кто в первый раз выходит в море, и старые просоленные морские волки. Даже судовой пес повизгивает, бегает по корме и смотрит на кипящую, рассыпающуюся галлактиками кильватерную струю, – а может быть, у него, как и у всех моряков, кто-то остался в порту? Может быть, бегает где-то там по причалу его подружка и жалобно скулит на масляную портовую воду, и даже откажется от прекрасной, жирной колбасной обертки, валяющейся рядом с мусорным баком…
И пошли дни за днями, и море каждый день менялось, то представало в золотистом тумане, выглаженное штилем, то щерилось мелкой рябью, то на горизонт ложилась темная штормовая полоса… И лишь там, где садилось солнце, оно блистало, словно там был золотой остров, где жили в хрустальных дворцах ветры, где Гелиос распрягал своих уставших за день, грызущих удила коней…
А ночью волны бились о борт, как бокалы, и трепали луну, которая элегично пролегла по движущимся, дышащим холмам… И так теснило грудь, что даже тем, кто никогда не пытался слагать рифмованные строчки, вдруг овладевало желание во что бы то ни стало зарифмовать: луна… волна… Но наступало утро, рассеивало ночные призраки и обманы, и приходилось рвать и выбрасывать за борт исписанные листы, – все это оказывалось шутками, светившей отраженным светом луны, тысячи лет заставлявшей человечество искать и находить эту рифму (в которой, разумеется, столько же новизны, как в египетских пирамидах), заставлявшей нашедших ее умиляться и почитать себя поэтами, в то время как они, подобно луне, светили лишь отраженным светом.
Но пусть! пусть! Зато какую ночь переживал счастливец!.. Море и звездное небо легко выливались в рифмованные строки, и как потом свободно и безмятежно становилось душе, когда листы с ними оказывались за бортом, и долго еще можно было наблюдать, как они покачиваются, постепенно намокая, на мускулистых спинах волн…
И наступало утро, и розовое, еще не совсем проснувшееся солнце мазало по морю фантастическими, фейерическими красками – все окрашивалось в розовые, желтые, малиновые цвета… С одной стороны, море было ровно обрезано по темному краю, с другой – громоздились горы со вздыбленными, непричесанными со сна тучами.
И неудивительно, что весь корабль словно сошел с ума. Море и солнце согревали, плавили души, вливали в них расслабляющую нежность и томление. Матросы все как один ходили пахнущие одеколонами, а когда устраивали купания, то они срывались очертя голову с рей в море, вызывая восторг и восхищенный визг слабого пола. И Илья вдруг заметил, что невидные, даже скучные в Университе-те, пишущие аккуратным почерком конспекты студентки, раньше существовавшие для него абстрактно, – ну есть и есть… что с того? – здесь неожиданно преобразились: они, как древние богини, появлялись в соблазнительном ниглиже, открытых купальниках, на которые, хочешь или нет, так и тянуло бросить рассеянный взгляд.
…В тот месяц Илья понял, почему море – соленое. Дело в том, что море кто-то пересолил – рассеянный от любви…
Только почему же он так и не решился подойти ни к одной из богинь-сокурсниц, хоть те изредка бросали и на него заинтересованный взгляд?.. А ведь такое в жизни потом так и не повторилось с ним ни разу…
…Илья очень волновался перед премьерой – первым выходом на работу. Тщательно готовился: первый день очень важен, – как покажешь себя, так потом тебя и будут принимать, в каком направлении сделаешь первый шаг, туда и будешь идти долгие годы, пока не споткнешься и не вытянешься во весь рост.
Перед входом в институт Илья развязал шнурки ботинок – пусть думают, что он настолько рассеян, сосредоточен на научных проблемах, что обыденные предметы для него не существуют, – он постоянно погружен в размышления, перспективен, склонен к теоретической работе, ему можно без колебаний в первый же день доверить – из тех что под рукой – самое важное задание.
Научно-исследовательский институт Илья отыскал не сразу, ему долго пришлось плутать по задним дворам, по переулкам. Он спрашивал прохожих, милиционеров, – все показывали в разные стороны, так как никто толком ничего про этот институт не слышал, но все как могли старались помочь. Отчаявшись, он наконец набрел на особнячок с колоннами.
Вход в него был забит, и Илья хотел было пройти мимо, – но перед этим спросил дворничиху, разбивавшую лед на тротуаре. Она ахнула со всего маху пешней, отломила кусище льда и сказала, вытерев пот на красном лице: «А тута, милый, как во двор свернешь, если, не дай бог, шею не свернешь, так налево – дверка, там твоя наука заседает, – и, размахнувшись, опять ударила пешней, проворчав вслед: – Думают, думают… А чиво думают – сами не знают… уже все мозги продумали!.. придумали б лучше что, чтоб лед силом не долбать…»
Окна института выходили на небольшой дворик. Во дворике вытянулись столбами из сугробов старые продрогшие липы, стояли занесенные грязноватым снегом детские грибочки, под снегом означивался ящик песочницы. Он нашел дверь, к которой вела утоптанная дорожка, открыл, – прошел по темному коридору, заваленному ржавыми приборами, похожими на разобранные стиральные машины и холодильники. Свернул в светлый коридор, – здесь по стенам были развешаны плакаты и стенгазеты с улыбающимися научными работниками, весело разгребавшими кучи мусора во время субботника. Справа и слева находились обитые дерматином двери, – одна дверь его особенно заинтересовала – она была обита железом, с кодовым замком, с кнопочкой и надписью: звонить сюда! Он прошел прямо и остановился перед дверью, на которой висела табличка: директор т. Татев. Он постучал и вошел.
Его встретили на пороге, чуть не раскрыв обьятия, с радушной улыбкой и даже слушать не захотели с каким он делом пришел, а сначала усадили в кресло и долго рассматривали в фас и профиль.
«Какой приятный, обходительный человек – Татев!» – подумал Илья и объяснил цель своего посещения.
– Молодой специалист? Ни слова больше! Отлично! Отлично! – Татев стал потирать руки от удовольствия. – Нам как раз позарез нужны молодые мозги, у нас масса проблем! Масса! – Татев покачал головой, показывая, какие это сложные, посильные только молодым, энергичным людям проблемы. – Есть к чему приложить свои силы, есть над чем поработать головой, – он постучал себя по лбу. – Наш институт занимается глобальными, глобальнейшими! экологическими проблемами… Может быть, – он игриво улыбнулся, как бы снисходя к слабости молодого специалиста, – может быть, и в море сходите… Но не сейчас! не сейчас! Два-три года испытательный срок – проявите себя, зарекомендуете – тогда… А в общем, вам крупно повезло, что вы попали именно к нам! Да-с! Повезло!
Илья был обласкан, его потрепали по плечу. Директор лично отвел его в комнату, где ему предстояло работать ближайшие годы.
– Вот ваш стол, вот стул, – радостно сказал Татев. – Познакомьтесь… – он обернулся к сидевшим в оцепенении, наподобие статуй, сотрудникам. – Ваш новый сосед. Он будет здесь работать. – Татев сделал ударение на первом слове, потом, подумав, поправился и повторил эту фразу, сделав ударение на втором слове, потом на третьем и наконец на последнем:
– Он будет здесь работать! Он будет здесь работать! Он будет здесь работать!
Илья сел на свое место, сложил руки на столе и посмотрел на дверь, в которую вышел Татев. В комнате повисла тишина, в Илью, как будто даже с некоторым суеверным страхом, уставилось несколько пар глаз, как бы не понимавших: как такое чудо могло произойти, как вообще хоть что-то могло произойти, – никого не было и – раз! – кто-то сел. Потом, привыкнув к его присутствию, от него с равнодушием отвернулись и снова – словно окаменели. Долгое время никто не подавал ни звука, все сидели неподвижно, глядя перед собой, ни один мускул не дрогал на лицах, лишь радио, включенное на полную громкость, сотрясало стены и дребезжало в оконных стеклах бравурным маршем. Илья стал было подумывать, что попал в общество глухонемых, и решил, что неплохо было бы вспомнить, как общались с помощью морских сигнальных флагов на кафедре. Но когда он полностью в этом уверился, вдруг один из сотрудников (вскоре выяснилось, что это был Морозильников, самый инициативный, разговорчивый из всех, пребывавших в комнате) широко открыл большой рот и сказал хриплым томным голосом:
– А не попить ли нам чаю?
Во время чаепития Илья со всеми и перезнакомился. В этой комнате работали: во-первых, Морозильников – шатен с рыжинкой, с завитыми от природы волосами; как и все рыжие, он имел язвительный характер, – когда к нему подходил директор и говорил высоким голосом, что он делает что-то не то, он даже осмелился в лицо сказат: а вы сначала обьясните, что значит – то, а потом говорите, что я делаю не то! За этот необдуманный поступок его хотели лишить премии, но поскольку директор забыл напомнить об этой безобразной выходке, то трогать его не стали. Как определили, что директор не придал значения поведению Морозильникова? Очень просто: на следующий день история повторилась, директор вошел, спросил, получил ответ; повторилась она и на следующий день, и стала повторяться ежедневно. Илья сверял по директору часы: вошел – десять тридцать две, спросил – тридцать три, получил ответ – тридцать четыре, повращал глазами – тридцать пять, вышел хлопнув дверью – тридцать шесть! все!
Во-вторых – Эразм Багратионович, старик предпенсионного возраста, поплававший на своем веку по разным морям и океанам, побывавший во многих странах, правда, не видевший там ничего, кроме припортовых кабаков, окурков, покачивавшихся в портовой воде, и нескольких магазинов, где он успешно тратил валюту. Когда его провожали на пенсию, через несколько лет, он всплакнул, растрогавшись от радостных напутственных речей, а вокруг стояли понурые сослуживцы, но у одного, как это всегда бывает на юбилеях и иных торжествах, лицо сияло юбилейным рублем.
Также в этой комнате сидели две полные молодящиеся бабушки – Боженькина и Одуванчикова. У Одуванчиковой на полке стоял толстый том, на котором вязью было выведено: «Мохообразные и другие болотные растения». Боженькина вязала веселенькую полосатую кофточку внуку.
Рядом с телефоном сидела одна особа неопределенного возраста (ее звали Эсмеральда, впрочем, потом выяснилось, настоящее ее имя было Фрося) с заштукатуренным, насурьмленным, нарумяненным лицом, с ярко-алыми губами, накладными ресницами и веснушками, вышипанными бровями, в черном, очень дорогом парике, с длинными фиолетовыми ногтями; на столе ее временами позванивал телефон, – она поднимала трубку и медленно, тонированным под альт голосом переговаривалась с кем-то, занимавшим ей очереди, ждущим ее то у Вернисажа, то у Пассажа.
Когда Илья со всеми перезнакомился, он спросил: чем же они здесь занимаются? – на него долго смотрели, пытаясь понять, что он имеет в виду, – Илья пояснил, – тогда на него посмотрели, как на человека со странностями, а потом налили чаю и сказали только одно: пей! И он понял, что в основном, из имеющего отношение к воде, тут занимаются чаем и кофе.
Питие чая составляет в этой лаборатории отточенный до мелочей ритуал. Запирается от начальства дверь, Эразм Багратионович тянется к сахарнице (он очень любит сладкое, все зубы на сахаре потерял), Морозильников удобно разваливается на стуле, откидывается, будто это не стул, а кресло-качалка. Боженькина и Одуванчикова вынимают плюшки с мармеладом из целлофановых пакетиков, Эсмеральда элегантно подносит к губам длинную сигарету, а Морозильников шелкает импортной зажигалкой. Все этот происходит при полном молчании, только позванивает крышка закипающего чайника. Но вот чай разлит, лица потеплели, и начинается долгий, неспешный разговор, – каждое слово выговаривается степенно, со значением, и тема у разговора важная – говорят о ценах на фрукты; Боженькина и Одуванчикова сетуют, что на базаре цены невозможные; Эсмеральда спрашивает: а арбуз – это фрукт или овощ? Морозильников отвечает, что это все равно, четкой границы здесь нет. «Да! По поводу границы… – не расслышав, встревает Эразм Багратионович, – за границей – фрукты-овощи – первый сорт, бери – не хочу, так в рот и смотрят!»
– Илюша, как ты относишься к чаю? – задается невинный вопрос, и добавляется соблазняюще: – С мя-ятой!..
Ему протягивают чашку, он принимает ее, как чашу с цикутой. И понимает, что он пропал отныне и навеки, и что отказаться невозможно, как невозможно выбраться из омута, если тебя уже закрутило, и остается одно – нырнуть поглубже, – ведь только представить, что произойдет, если начнешь барахтаться и откажешься от этой чашки…
Что произойдет – что произойдет… Да ничего не произойдет! Ну, отказался человек, ну – бывает. Потом одумается – прибежит: «Дайте еще чашечку, ну пожа-а-алуйста, и заварочки… и кипяточку… Нет-нет, спасибо, – сахар не употребляю!» Не прибежит? Э… это как же? Да… тогда это серьезно! Это нельзя так просто оставить! Так сказать, на произвол случая! А если так каждый… кто же тогда чай пить будет? А? Разве так поступают порядочные люди? Все собрались, дела побросали, а один выискался – не хочу! Коллектив уважать нужно! Да! Моральный климат превыше всего! Нет, нет, это – неспроста. Вот с таких якобы мелочей все и начинается. Что начинается? А – все! Сначала человек отказывается пить чай, ставит себя вне коллектива, потом – что ему остается? Начинает употреблять более крепкие напитки. И пошло-поехало: вытрезвитель, профком, местком, партком, – товарищеский суд! Катится человек по наклонной, падают производственные показатели, рушится семья… А потом с коллектива же и спросят: куда коллектив смотрел? почему меры не принял? почему не отнесся со всей чуткостью к опускающемуся в нравственном отношении товарищу? почему не выслушал его на открытом собрании?
Нет-нет, что вы! Илья не такой! Смотрите – он пьет чай… Морщится, но пьет… Ничего – привыкнет! Молодой еще! Всем поначалу нелегко было…
Илья выпил, и тут он понял: дальше все так и будет идти, день за днем. Постепенно нальются от сидения и безделья жиром члены, заплывет жиром мозг. Чай войдет в обмен веществ, отравит весь организм, – он выступит желтыми пятнами на руках и ногах, и кожа набухнет, сморщится…
Где же выход, где прорыв от серости к свету? И тут чей-то голосок, прожужжавший в ухе, шепнул: стань кандидатом! Поскольку знания – это свет!
Кандидатство… Кандидатство… В последнее время эта мысль стала для Ильи неотвязной и мучительной.
Почему, собственно говоря, я не кандидат? Ну кто я по сути? Как это понимать – мэ-нэ-эс (младший научный сотрудник)? И звучит-то, как комариный писк! И оклад комариный, и носки драные, а в кармане – три копейки! А стану я кандидатом – другой коленкор! а у коленкора – другой колер! Совсем другой! И я уже не простой человек с улицы… Да-с! Уважение! Ты меня уважаешь, и я тебя соответственно… твоей степени и окладу! А как обо мне говорить будут: вот, мол, такой-то – достиг! добился! головой поварил, лоб поморщил – и что-то такое умное, полезное открыл, и ничто перед ним не устояло… а ну-ка, милый, расскажи что-нибудь… чтоб дух захватило!.. ну хоть о турбулентности… или там – об уравнении Шези-Меринга (что-то слишком напоминает шизофрению и мерина…).
Кандидатство… ах как хочется! даже пальчики дрожат: так бы и ухватил за хвост Жар-птицу, и выдрал бы золотое перышко, и положил бы его в нагрудный кармашек… Ну пустите! Ну что вам стоит? Я только на секундочку – подбежал, выдрал и быстро-быстро обратно: никто ничего не поймет и не заподозрит! Но, конечно-конечно, понимаю-с… Нельзя так сразу! Нельзя-с… Придется сначала и попотеть, не одну пару обуви переменить, пока пробираешься через леса темные, через овраги да болота, пока взбираешься на научный олимп, не одни брюки сотрешь, пока отполируешь свой стул до зеркального блеска, пока высидишь золотое яичко, из которого вылупится та птичка, у которой нужно будет потом вырывать золотое перышко… Понимаю-с! Но что может быть важнее этой цели? Будет трудно, знаю, придется перелазить через рогатки, препоны, утверждать свои прерогативы, пусть, – я не пойду на попятный двор (да и нет у меня ни кола ни двора)! С легким сердцем, с ясною мыслью встаю на этот путь. Твердо и решительно. Отныне неукоснительно буду шествовать к поставленной цели! Шаг за шагом. Сантиметр за сантиметром. Помаленьку, полегоньку – капля камень точит.
Нда… а пока, до времени, придется исполнять отправление должности, осуществлять самые естественные отправления организма нашего института. Ничего не поделаешь… Но цель поставлена, но цель ясна: засучим рукава и – за кандидатскую!
Для начала Илья просмотрел все диссертации, которые защитили в его институте… и ничего не понял. Эти диссертации походили одна на другую, будто были написаны одной рукой на одну и ту же тему, даже заглавия были похожи: все турбулизация, да турбулизация, – что означало это слово, Илья не знал, но часто слышал его еще на кафедре – ученое, умное слово! Через строчку эти диссертации делали ссылки на различные работы, опубликованные в разные годы, начиная с восемнадцатого, кончая нашим столетием в Академиях наук многих стран, и было непонятно: а что в этих диссертациях нового? Впрочем, все новое – это хорошо забытое старое и дряхлое… да-да, конечно же! Ничего нового нет и быть не может! Все возвращается на круги своя… Хм! А если попробовать вырваться из этого круга? Открыть что-нибудь свое… Не выходя, разумеется, из известных рамок (очень широких, как уверяют: ведь и верблюд как-то раз прошел через игольное ушко, не споткнувшись и не взбрыкнув)… что-нибудь такое… наш институт экологический, вот я по экологии и напишу и опубликую… например, по возможным экологическим последствиям строительства новой плотины где-нибудь! А что – проведу эксперимент: налью в банку воды, поставлю отстаиваться, пока не протухнет, измерю время протухания, помножу на масштаб – и всем-всем на пальцах покажу, что вода-то от неподвижности – протухает! Они плотину строят, а я их статеечкой – плотина-то и рухнет!.. прославлюсь!
Илья налил в банку воду, поставил ее на подоконник и пошел к Татеву излагать смысл поставленной задачи.
– Что ж… ново-ново, – обрадовался Татев, потирая руки, – Работа предстоит важная и интересная! – Он похлопал Илью по плечу, – Не побоюсь этого слова: пионерская! Я сердцем, – он ткнул себя в грудь, – чувствовал, что вы сразу, без раскачки включитесь в работу института и принесете много, много пользы! Но, согласитесь… – Татев подошел к Илье близко, и вкрадчиво, на полушепоте, будто сообщая нечто архиважное, советуя прислушаться к голосу разума, намекнул, – на первых порах вам будет крайне необходим чуткий знающий руководитель…
Илья тоже перешел на полушепот.
– Я понимаю…
– …остерегающий от возможных ошибок и уклонений…
– Согласен…
– …дающий в руки путеводную нить…
– Я ее возьму…
– Ну и отлично! отлично! – Татев в возбуждении потер руки. – А теперь за работу! Только знаете что, – тут Татев наклонился к уху Ильи, – поверьте моему опыту, тему вам лучше несколько изменить – самую малость…
– Да-да, конечно…
– Вода у вас должна не протухать, а… – тут Татев сделал умильное лицо, словно он собрался сказать о приятной, но несущественнной мелочи, – становиться свежее…
– Но…
– Вы хотите со мной спорить?
– Но она же протухнет! Как… так?
– Ладно-ладно. – Татев сделал примирительный, успокаивающий жест, будто оттолкнулся ладонями от чего-то невидимого, напиравшего на него. – Пусть не свежее… это все равно…
Илья облегченно вздохнул.
– …пусть остается такой же… Но большего я вам не уступлю, – Татев шутливо погрозил пальчиком, – ни-ни!
Илья вышел от Татева несколько ошарашеный, сел за стол, посмотрел на банку, в которой становилась свежее вода, и задумался.
– Да-да… безусловно, вода протухает, но с другой стороны: вода протухает не сразу, а постепенно, для этого ей нужен срок – иногда очень значительный. Итак, исходим из того, что вода никогда не может протухнуть до конца, – в каком бы состоянии вода ни была, мы можем утверждать, что она может протухнуть еще сильнее. Делаем вывод, что для того, чтобы вода протухла окончательно, нужен бесконечный отрезок времени. Возьмем любой мыслимый ограниченный отрезок времени – время наблюдения за банкой – и делим бесконечность на этот отрезок… Что получаем? Ту же бесконечность! Значит, по сравнению со временем, за которое вода должна протухнуть, этот отрезок пренебрежимо мал. Так? Логично. Значит, все равно: берем мы очень маленький, ограниченный отрезок или довольно значительный… Но за маленький-то отрезок времени банка не успеет протухнуть! Следовательно, она не успеет протухнуть и за большой отрезок времени! Вот! Вот! Значит, Татев был прав!
– Можно, конечно, доказать – и что вода становится свежее… Но… – Илья с опаской посмотрел на банку, – в данном случае имеем два решения, выбираем из них то, которое лучше отражает наблюдения…
Илья принялся делать расчеты, обложился грудами книг, чем удивил и испугал сослуживцев. Эразм Багратионович подходил к нему и говорил: «Ты эта-а… не сильно напрягайся… да… Поработал-поработал и дай мозгам отдохнуть, сходи покури… Сегодня не получилось – завтра получится». Эсмеральда ничего не говорила, но, когда проходила мимо его стола, пускала особенно изящные кольца сигаретного дыма. Морозильников садился прямо к нему на стол, смотрел долго и безмолвно на то, что Илья пишет, потом нервно усмехался, чесал затылок и отходил, пожав плечами: чудак! Боженькина и Одуванчикова смотрели на него с обожанием и страхом: боялись даже подходить к его столу.
Илья стал неделями пропадать в библиотеках, выписывал себе сотни журналов, книг, брошюр, относящихся к его вопросу, конспектировал, составил каталог (очень впоследствии ему пригодившийся, – когда его спрашивали что-нибудь по специальности, он мог солидно отвечать: да что я буду с вами разговаривать, когда вы даже этой работы такого-то автора не знаете! изучайте источники!).
Правдами и неправдами он пробился к ЭВМ, работал несколько суток, загрузил в нее свои программы, запустил ее на счет, машина долго гудела, собираясь с силами, мигала лампочками, раскалилась до белого каления и наконец выплюнула распечатку, на которой крупно было написано: «ДУМАТЬ НАДО!!!» Обидевшись на машину, Илья пнул ее, – машина, завращав всеми бобинами, замигав лампочками и включив аварийную сирену, вдруг стала выдавать горы исписанной цифрами и значками бумаги. Илья с воплем схватил, оторвал себе часть и прибежал в институт: «Смотрите! Смотрите! Я сделал расчет!»
Встретил его Татев, долго жал руку, поздравлял с успехом, потом забрал у него все расчеты, все материалы – для ознакомления, и Илья сел снова за свой стол. С этих пор Татев, когда подходил к нему, уже не спрашивал: «Как ваши успехи?», а говорил: «Очень-очень интересная работа, но – объем, объем! Да с такой работой не кандидатскую, а докторскую можно защитить! Но время, время… все, знаете, руки до нее не доходят… сами понимаете – какой институт на плечах держать приходится и какие проблемы приходится решать… глобальнейшие!»
Через полгода, когда Илья поинтересовался: а может ли он посмотреть свою работу, – вдруг выяснилось, что она куда-то подевалась. Татев на глазах Ильи перерыл все ящики, открыл шкафы, из которых вывалилась груда пахнущих мышами бумаг, но сколько Илья не искал, он так и не смог найти даже листочка от той своей первой работы. Теперь он стал умнее: к чему идти непроторенными путями? Это трудно, тебя на каждом шагу останавливают, поворачивают в нужном направлении, и потом – ты то и дело вязнешь в топях, тебя критикуют на Научных Советах и в конце-концов заваливают на защите как зарвавшегося и неуважительно относящегося к сединам. Поднимется какой-нибудь старец – песок сыплется – и скажет: «Глуп-п-пже надо, молодой человек, глуп-п-пже!» (А это значит – глупее.) Нет, нет – идти, если хочешь чего-то достичь, предпочтительнее по проторенным путям – как все, ведь получают же здесь как-то кандидатскую степень? Кандидатов-то – пруд пруди, куда ни плюнь – в кандидата попадешь, в пивной подходишь к столику – а там кандидат сидит, очередь в магазин занимаешь – и тут кандидат!
Илья снова и снова разбирал груды чужих диссертаций, думал, думал, и наконец понял, в чем секрет их изготовления. Он сделал себе копии этих диссертаций, взял ножницы и стал не читая отрезать от страниц абзацы, – после этой операции у него образовалась полная корзина вырезок. После этого Илья тщательно перемешал кучу вырезок, направив в корзину струю воздуха от вентилятора, потом не глядя брал их и в произвольном порядке вклеивал в диссертацию – как выяснилось, кроме научных текстов туда попали и тексты газетные, но это тоже сыграло Илье нруку, так как показало направление его мыслей. Поколдовав таким образом, Илья склеил себе диссертацию достаточно внушительных размеров.
Как Илья и предполагал, она удивительно быстро – для этого понадобилось всего несколько лет – прола через Научные Советы и заслужила одобрительные отзывы оппонентов. За это время Илья успел подготовить и опубликовать в соавторстве с Татевым (тоже очень верный ход, если бы он не предложил Татеву соавторство, то никогда бы не опубликовал) несколько крупных программных статей и заслужил этим всеобщее признание. Теперь он сам подходил к Татеву, был с ним на ты, на короткой ноге: «Простите… я вот в этом месте ссылочку на вас сделал… ничего, что под тринадцатым номером?» – «Э-этто нич-чево, нич-чево… Это можно!» Илья хихикал, пожирая глазами начальничка, а если тот вынимал сигарету, сей же момент щелкал дорогой, специально для этого случая купленной зажигалкой. «Э-этто можно… и мы любим пошутить – если по пустякам!» – Татев говорил важно, пускал в лицо Илье ароматный дым от импортного табака.
И, наконец, его диссертация была представлена к защите.
Защита была назначена в скромном старом зале Академии, в котором проходили защиты еще в восемнадцатом столетии, в них принимал участие сам тогдашний Президент Академии наук Шумахер, – рассказывали, что был один раз случай, когда на защиту пришел Ломоносов – вошел, сел, послушал, а потом (вот деревенщина! без соблюдения субординации!) так в лицо Шумахеру и сказал: «Чепуха это все! Бред!» Шумахер позеленел и сломал с досады свою ручку с самопишущим пером – эта ручка теперь хранится в Университете в музее реликвий. А Ломоносов предложил ему свою: «Mоя хоть и не импортная, обыкновенная шариковая ручка, но именно этой ручкой я писал свои труды, попробуйте и вы напишите что-нибудь, – может быть, что и получится, иначе неясно: что вы сделали, как Президент Академии… Может быть, и откроете что-нибудь в области Естественных или Неестественных наук… открыл же я Университет!»
В зале на первых рядах сидели магистры в полном облачении, в париках, лица магистров были морщинисты, будто их долго мяли в руках, а потом забыли расправить. Повыше, на «галерке», собрался народ попроще, без званий и степеней, интересующийся: как испекаются кандидаты? – и прикидывающий: а хорошо ли будут смотреться они, если и они будут когда-нибудь защищаться? Илья развешивал и прикреплял кнопками плакаты и рисунки (предмет его особой гордости – на них он потратил больше времени, чем на диссертацию: магистры ничего так не любят, как раскрашенные яркими цветами картинки). В это время на трибуну, согласно порядку, установленному еще до падения Римской империи, вышел человек со свернутым в трубку свитком. Он дребезжащим голосом стал оглашать правила защиты диссертации:
– Оппонентам, не имеющим степени, возбраня-яется швырять в защищающегося тяжелыми фолиантами… поскольку швыряние – привилегия членов Ученого Совета (Илья сначала порадовался, а потом сник)… Швыряние есть священный обряд, подобный удару мечом при посвящении в рыцари. Если защищающийся не выдерживает удар, значит, он не может претендовать на звание кандидата естественных наук…
Пока он говорил, в зал вошли двое рабочих в промасленных спецовках. Они установили водяные часы, которые применялись для соблюдения диссертантом регламента. Над Ильей повесили ведро, к ведру провели шланг, – по шлангу должна была течь вода: когда ведро наполнялось, оно переворачивалось и выливалось на голову защищающегося. Илья был этим обеспокоен, но потом заметил, что кран-то отвернули, но воды в нем, как обычно, не оказалось.
Началась защита. Илья волновался, за стуком сердца не слышал собственного голоса, заикался, боялся даже взглянуть в зал. Он ходил спиной, протыкал указкой плакаты: «А вот что сказал по этому поводу Зенон Элейский… А это было показано самим Аристотелем…» Боясь остаться непонятым, он пускался в пространные объяснения, в ненужные подробности, исписывал доску формулами, но так как был не совсем в них уверен, то поступал следующим образом: одной рукой он писал, загораживая написанное телом, а в другой держал тряпку и быстро все стирал – в результате сидящие не успевали прочитать ни одной буквы. Под конец он обернулся в зал и только тогда понял, что означали те звуки, которые его сбивали во время доклада….
Весь зал поголовно спал! Сидящие впереди магистры еще старались делать вид, что они заинтересованы диссертацией. Один оперся головой на руки, так что глаз его не было видно и нельзя было с уверенностью сказать, спит он или нет. Другой раскрыл перед собой его диссертацию, склонился над ней и так увлекся чтением, что расплющил об ее страницы свой нос. Остальные магистры спали, непринужденно откинувшись в креслах; у одних отвисла челюсть и показались десны с редкими желтыми зубками, другие завалились на бок. Один спал, широко открыв глаза, – что он спал, можно было понять только по тихому храпу, доносившемуся из приоткрытого рта. А на «галерке» не стеснялись, вынули из дипломатов подушки и удобно развалились, сняв ботинки и закинув ноги на столы.
Илья вежливо кашльнул, стараясь привлечь к докладу внимание. Потом кашльнул посильнее, потом будто невзначай уронил на пол диссертацию. Никто не пошевелился. Илья посвистел в потолок, постоял, потом открыл окно. В то время на улице у грузовика лопнула шина, раздался звук, подобный выстрелу. Сидевший впереди старик ойкнул, – не открывая глаз, поднялся и чуть не повалился обратно, но Илья его поддержал, – он произнес речь:
– Ваша диссертация безусловно является новым впечатляющим вкладом в нашу науку. Вкладом безусловно является новым диссертация ваша впечатляющим в нашу науку. В науку нашу вкладом впечатляющим является ваша безусловно диссертация новым. Ваша в нашу впечатляющим является новым в науку безусловно вкладом диссертация…
Он говорил долго, – и постепенно магистры стали просыпаться, они пялили на диссертанта глаза, старались припомнить, а что они тут делают, некоторые вынимали из карманов паспорта, чтобы выяснить, кто они такие, как их фамилия, женаты ли, есть ли дети, и где они прописаны.
Наконец кто-то сказал:
– А не закрыть ли нам заседание? Темнеет уже, да и спать пора!
– Закрыть! закрыть! – поддержали эту идею остальные.
Все бросились к выходу, на ходу впихивая подушки в дипломаты. Лишь старик, начавший свою речь, решил сначала довести ее до конца.
– Вашу в нашу… впечатляющимся-являющимся… вкладом-докладом… диссертация-новация… безусловно!
Так благополучно закончилась защита.
…После защиты диссертация должна была пройти через Высшую Аттестационную Комиссию, которая находилась в большом сером здании за глухим забором, охранявшимся усиленными нарядами милиции (очевидно, от напирающих толп защитившихся диссертантов). Диссертация Ильи путешествовала с этажа на этаж, ее тщательно изучали, рассматривали со всех сторон – как спереди, так и с тыла. Она обрастала сопроводительными бумагами – их скоро стало больше, чем листов в самой диссертации, – на каждом листе стояли внушительные подписи и печати различных форм и размеров.
Так бы она и пришла к победе, но… Вдруг кто-то, по ошибке открывший его диссертацию, воскликнул: «По-о-звольте! Она полностью состоит из цитат! других!! авторов!!!» Посмотрели в диссертацию, охнули: правда! И – назначили специальную подкомиссию по изучению диссертации. Подкомиссия работала оперативно, – всего несколько лет ушло на то, чтобы разобраться – те авторы, на которых ссылается Илья, тоже на кого-то ссылаются, а те еще на кого-то, а те еще, и еще, и еще… Были перерыты, обработаны сотни трудов, изучены все ссылки и сноски. И, наконец, был сделан фундаментальнеший вывод: «Круг ссылок – замыкается. Если последовательно идти по сноскам, то можно прийти туда, откуда начали». Тут же встал вопрос: а кто же является первоисточником цитат? Были бурные дебаты, – одни склонялись к одному мнению, другие – к другому. Чтобы раз и навсегда решить проблему, поставить последнюю точку над i, в директивном порядке постановили:
«Считать первоисточником – Илью Ивановича Петрищева».
Так Илья стал звездой в научном мире, кандидатом. Но квартиру ему не дали, только переставили из очереди на жилье, где он как простой смертный дожидался светопредставления, и если действительно ключей, то разве что от райских врат, в очередь для олимпийцев, двигавшуюся необычайно быстро, – ожидалось, что всего через несколько лет он получит (тьфу! тьфу! тьфу!) заветные ключи от двери к поистине райскому блаженству.
Цикл работ по материалам диссертации появился при содействии и соавторстве Татева в ряде академических изданий. Потом вышел в свет сборник: «Экологические последствия строительства новых плотин на реках Волге, Ниле и Миссисипи».
Быстро организовалась научная школа под руководством Татева, выступившая за повсеместное строительство новых плотин, на всех реках и ручейках, – обсуждался также вопрос: не зарегулировать ли водопроводную систему, поставив небольшие гидроэлектростанции рядом с водонапорными башнями. Илья вернулся к прерванным когда-то по молодости опытам с банкой воды и доказал, что вода в банке становится свежее. Вскоре в одной из центральных газет появилось сообщение:
СЕНСАЦИЯ В НАУЧНОМ МИРЕ!
Недавно в НИИВоды к.ф-м.н. И.И. Петрищевым проведен блестящий эксперимент по доказательству непротухания стоячей воды. Сенсационное открытие подающего надежды ученого опровергает все существовавшие прежде теории. Проверка чистоты эксперимента еще раз продемонстрировала всему миру, каких высот может достичь наша наука. Вода в банке, которую показал И.И. Петрищев, действительно оказалась свежей. По свидетельствам коллег, Илья Иванович уже много лет каждый день поливает из этой банки кактус, стоящий на подоконнике, и за все это время не было ни одного случая, чтобы вода протухла и зацвела. Отсюда ученым был сделан вывод, что водохранилища, сколько в них вода не будет отстаиваться, никогда не протухнут и не зарастут ряской. А если все же и зарастут, то беды в этом никакой нет, – на образовавшихся болотных мхах можно будет собирать клюкву – потом продавать ее за рубеж на валюту, а на эту валюту покупать мощную строительную технику, с помощью которой осуществлять новые проекты, перегораживать все, что течет, и заставлять течь все, что этому противится.
В это время на Волге уже шли приготовления к торжественному пуску новой плотины. Как главный научный консультат по вопросам чего-то там связанного с экологией на сем пуске присутствовал и Илья.
Сама плотина была уже готова и красочно, со вкусом, отделана: по ее периметру были поставлены скульптуры трудящихся, с гаечными ключами и кирками, женщины с венками на головах, повешены барельефы с эпизодами строительства, – на одном барельефе был высечен в мраморе камаз, сбрасывающий землю, на другом – начальник строительства, указывающий собравшимся вокруг него рабочим генеральное направление, по которому все потом пойдут, – правая рука его была выброшена вперед, и так как на барельефе не хватало места, то казалось, что он задевает рукой впередистоящего, старающегося вникнуть в суть дела, передового рабочего.
Рядом с барельефом прохаживался живой начальник строительства и посматривал на свою мраморную копию, впрочем, без особого волнения, а с чувством достоинства и выполненного долга. Невдалеке сверкал на солнце начищенной медью духовой оркестр. Ждали первого камаза, который должен был сбросить первые бетонные блоки, чтобы укротить отведенную в запасное русло, строптивую Волгу.
В облаке желтой пыли показался камаз, заиграл и стал глушить, давить звуком пространство духовой оркестр; cтроители, стоявшие поодаль, яростно зааплодировали, – камаз с разгону разорвал красную ленточку, развернулся и медленно поднял кузов, – с грохотом, пререкрывшим траурный голос оркестра, более всего походившим на громыхание пустой канистры, бетонные блоки стали падать в темную, тут же побелевшую, вспенившуюся, гневную воду. Через несколько часов все было кончено, вода, встретив преграду, встала, начала прибывать, а камазы все шли и шли, поднимали плотину, все было завешено желтой и белой пылью; посмотрев издалека, можно было подумать, что здесь кипит сражение, – здесь действительно сражались, здесь укрощали, побеждали Волгу-матушку, здесь приносили ей дань, сбрасывали в нее, но не персидскую княжну, как бывало прежде, а бетон, гравий, каменные глыбы.
Илья бегал по плотине в облаках белой пыли, чихал, кричал, а что – было не разобрать, – может быть, он хотел все это остановить? Вряд ли, – когда он вернулся домой и переменил пыльный пиджак на полосатую пижаму, и уже собирался отходить ко сну, он вдруг сказал, хлопнув себя по колену:
– А лихо мы ее одолели! – Он явно чувствовал себя героем дня, причастным к обузданию древней первобытной стихии…
Волжская вода, поднявшаяся темной, грозной грудью, вздувшаяся, негодующая вначале, а потом привыкшая к своей больной участи, забывшая себя, как не помнит себя опухший, бредящий больной, разлилась и затопила все низкие пойменные берега Волги.
Она хлынула в притоки, сметая ветхие пристани, поднялась выше вершин самых высоких деревьев, загоняя на образовавшиеся острова зверей и птиц, оставляя лес гнить в темных, мутных своих водах, стала подмывать, отхватывать пласты земли с высокого обрывистого берега, где были деревенские кладбища. Она беспокоила, будила покойников, рушила старые погосты; падали в воду, раскрываясь, гробы… И долго потом выносила Волга на берег останки, кресты и гробовые доски.
Скажете – этого не могло быть? Не верите, а если и верите – не видите и не понимаете? Не слышите? Что это? Неужели мы по-прежнему держим в руках совок и думаем, что перекрываем течение ручейка, и что если смоет песочный город – беда невелика, построим новый! Да образумимся ли мы? Вырастем ли из детских штанишек? Или до старости, до седины в волосах будем лепить песочные блины, играть в классики, в прятки, в догонялки? Прыгать, пиная шайбу, продвигаясь по службе; завязывать глаза и идти наощупь, стараясь не замечать, что подходишь к пропасти; вечно бежать, спешить, сидеть на собраниях, крутиться в огромном колесе, в котором все бегут, все страшно заняты, всем некогда, и проходят мимо важнейшего, мимо чего нельзя пробегать, а нужно остановиться и, наконец, немного подумать, многого-то не требуется, так, самую малость, трудно разве понять, что не стоит трогать раскаленный утюг и прыгать с тринадцатого этажа, даже если этот путь короче, бросаться под машину, даже если на дорогу выкатился мяч…
Илья так взопрел, бегая по строящейся дамбе в одном пиджачке на ветру, что простудил спину, да так, что неделю не мог согнуться, в пояснице стреляло, будто кто-то трогал оголенный нерв.
Это был первый приступ болезни, с тех пор не покидавшей его, – она регулярно повторялась зимой и в начале весны. Врачи прописали Илье змеиный яд, также ему посоветовали поменьше волноваться, поменьше курить и употреблять, почаще бывать на свежем воздухе, делать вечерние прогулки, может быть, даже пробежки трусцой, по утрам обтираться холодной водой, чистить зубы, мыть руки перед едой, а ноги отходя ко сну, регулярно стричь ногти, есть побольше фруктов, после обеда спать хоть полчаса, – и съездить отдохнуть на курорт, на море…
Скоро представился подходящий случай – отправлялась очередная экспедиция на Черное море. Как всегда в горячке, как всегда наспех, – ящики упаковывались всем, что попадалось под руку, – в один ящик просто положили кирпичи, решив подшутить, а заодно и проверить: будут ли ящики распаковываться на судне, или их так и провозят сначала на юг, потом обратно, – и только здесь вскроют и обнаружат, что возили.
Илья, как начальник экспедиции, бегал, задыхаясь, по этажам, стучал в кабинеты, получал одни подписи, за другими трясся в метро на другой конец города, а там долго томился в ожидании приема. Как-то он с очередной бумагой пробегал от одного кабинета к другому и остановился перед зеркалом поправить прическу.
Был серый, будничный день. Свет от окна за его спиной сеялся и накладывал серые тени особенно уродливо, выделял тяжелые мешки под глазами, щетину на мертвенно-сизой коже, морщины у углов рта и на лбу, просвечивающие редкие волосы…
Когда все это он успел приобрести? Не вчера ли он был молодым, здоровым студентом с нестириженой шевелюрой на голове, с южным загаром, с блестящими глазами? Нет, нет – скорее на юг!
Он вдруг понял, что он чем-то стал напоминать Татева, какое-то неуловимое сходство с ним появилось в выражении лица.Илья солидно расправил плечи, крякнул, как это обычно делал Татев, и сказал, подражая ему: «Отлич-чно! отлич-чно! Глоба-а-альнейшие пробле-е-емы!» – он радостно потер руки.
Илья снова бросился бежать по коридорам, толкаясь, размахивая бумагой. Вскоре ему начало казаться, что он так всю жизнь и провел, бегая по инстанциям, – действительно: только он родился, его сразу понесли освидетельствовать, еще ничего не понимая, не умея толком сосать грудь, он уже имел бумагу установленного образца с подписями и печатями, потом бумаг становилось все больше и больше, они множились, они управляли его движением, его мыслью; вся жизнь его состояла в том, чтобы получить очередную подпись ответственного лица на очередной бумаге: табели, ведомости, журналы, членские билеты, характеристики, аттестат, паспорт, диплом, – невозможно перечислить даже основные: сколько порогов, сколько дверей, сколько приемных, сколько кабинетов пришлось ему пройти, а сколько еще предстояло!
Но все имеет свой конец, пришло время, и Илья упаковал чемодан, сел в поезд и отправился к морю. Долгая тряская дорога, переполненные, движущиеся, как муравейники, вокзалы, утомительные пересадки, всю ночь прохрапевший сосед с нижней полки, измотали его, – до моря он добрался совсем больным, измученным духотой, пылью, сутолкой, сердце его стучало надсадно, отяжелевшая, налитая металлом голова гудела, как колокол.
Когда море выскочило, сверкая, из-за поворота, заиграло зайчиками по всему автобусу, он зажмурился от боли, ударившей в затылок, и отвернулся. Позади его завизжал от радости ребенок – золотушный, с синими венами, просвечивающими сквозь прозрачную кожицу; он запел, а точнее, стал выкрикивать без мелодии, бесконечно одно и то же, как сбившийся на одну бороздку проигрыватель: – Мы едем-едем-едем в далекие края-я-я! Мы едем-едем-едем…
Море оказалось непохожим на то море юности, каким он его помнил. И здесь была та же суета, то же утомительное мелькание жизни. Он прохаживался по берегу, пинал банки из-под мороженого; маленький черный горец предложил ему комплект скверного качества фотографий: «партрэт Сталина, Высоцкого и Божьей матери» – он отказался; потом сфотографировался в обнимку с обезьяной – обнимал не он ее, а она его. «Артур, Артур!.. – умолял фотограф. – Покажи авторитет!» Но Артур не слушал, он сорвал с Ильи шляпу, надел ее на себя и, насмехаясь, показал желтые нечистые клыки, чем сильно обеспокоил Илью. «Нет, нет, – успокоил его фотограф, – Артур не кусается, Артур у нас интеллигент!»
Илья посмотрел на Артура в шляпе и подумал, что он в самом деле мало отличается от интеллигента. Да-да, интеллигент… примат-доцент… Осталось наклеить маску, и ему можно будет поручить возглавить хоть НИИ. И будет он приходить на Научные Советы, что-то чертить научное на доске – обезьяны хорошо поддаются дрессировке. Конечно, дикция у него будет невнятная, но мало ли таких ученых? А можно и без маски, ну и что – пошепчутся немного: посмотрите, наш начальник похож на обезьяну! А другие им ответят: Ну что вы! у Артур Артурыча благородная внешность! Оцените его надбровные дуги, – разве не говорят они вам о его многолетних раздумиях, о подвижническом труде на благо науки? А что цвет лица… так это оттого, что Артур Артурыч не пожалел ради большого дела и своего драгоценного здоровья…
Илья пошел в порт; их судно не выпускали в море, потому что был военно-морской праздник, и он решил пока посмотреть на парад военных кораблей. По бухте кильватерной колонной шли крейсеры, потом на невозможной, невероятной скорости пролетел над водой на воздушной подушке монстр-небоскреб, бахнув из орудий так, что заложило уши и в ноздри ударил запах пороха, – толпа, облепившая весь берег (мальчишки, чтобы лучше видеть, залазили на деревья), стала подкидывать кепки, весело кричать: ур-р-ра!! Бойко торговали морожеными воздушными шариками, в громкоговорителях трещали праздничные марши. Илья, подхваченный общим энтузиазмом, хлопал в ладоши, кричал, подмигивал соседям: э-эх, как бахнула, а? – ел мороженое, прогуливался по тенистым аллеям и легко, спокойно улыбался.
На следующий день море открыли, судно вышло. Илья стоял опершись о леера на корме, смотрел на сверкавшее море и чаек, повисших на воздушном потоке, редко двигавших то одним, то другим крылом. Илья находился под впечатлением праздника, улыбался, вдыхал пряный морской аромат, и на минуту из молодости до него донеслась нота, мучительно сжавшая сердце, и почему-то, может быть, от свежего ветра или яркого солнца, у него навернулись на глаза слезы. Но это продолжалось минуту, а потом он пошел на камбуз обедать. Подавали как всегда пшенку, которую он не выносил с детства, и испорченное, отдававшее селедкой масло. Как всегда он пожелал всем приятного аппетита и отличного пищеварения, и ему пожелали всего хорошего, а потом, когда подходили запоздавшие и желали того же, он с готовностью отвечал: спасибо! спасибо! спасибо! – чтобы хоть этим занять челюсти.
А к вечеру в море поднялась непогода, разыгрался шторм с ураганным ветром и волнами, перехлестывавшими суденышко, достававшими до капитанской рубки, где вахтенный матрос, стоявший у штурвала, направлял судно носом к волне и пел о верном «Варяге», который не сдается в бою.
Илья сидел, уронив голову на руки, в лаборатории, по которой летали и бились в стены незакрепленные приборы. В лаборатории кроме него были: водолаз Андрэ, иногда выходивший из своей каюты, находившейся тут же за дверью с приклеенным к ней плакатом (на плакате был изображен водолаз в полном снаряжении с огромными кулачищами), и чей-то помощник Санчо, – они сами себя так звали в память о том, как к ним обращались в иностраных портах. На столе выстроились в ряд крепко привязанные бутылки, в которых плескалась и билась в пробки водка, также банка шпротов, вскрытая финкой из коллекции Андрэ (он коллекционировал холодное оружие), стол был загажен объедками, окурками, из двери каюты Андрэ орал магнитофонный Вилли Токарев, про несчастную судьбу Нью-Йоркского официанта русского происхождения и о том, что небоскребы такие большие, а он маленький такой, и ему по этому поводу то страшно, то грустно. Сидевшие за столом опорожняли один стакан за другим и наливали Илье: «Пей, полегчает!» Илья пил, но легче не становилось.
– Сейчас такая же погодка, как тогда, помнишь, Санчо, когда затонул «Нахимов?» – Андрэ тряхнул задремавшего было над своим стаканом Санчо.
– Э… сейчас как бы самим не затонуть и без «Васева»!
– Да… – стал вспоминать Андрэ (он был в числе водолазов, участвовавших в спасательных операциях и доставке утонувших со дна моря), – как сейчас перед глазами стоит – захожу в каюту, а там деньги бумажные везде разбросаны. Торопился кто-то, да обронил, а подбирать не стал… Не стал я мараться, не взял ни бумажки.
– Ага, там люди с деньгами плыли, круиз больших денег стоит, – мотнул головой Санчо. – А еще я помню, как ты вынырнул с двумя прижмуренными… красивыми молодыми такими кралями… поднял из воды и кричишь: Тебе какая больше нравится?
Андрэ расхохотался и налил еще стакан:
– Да, молодые были, красивые… еще загар такой нежный на коже… все в рыжье и брюлье (в золоте и бриллиантах)…
Илья слушал, повесив голову, смысл слов почти не доходил до него.
– Ты как относишься к восьмому калибру? – повернулся Андрэ к Илье.
– Зачем тебе? – простонал Илья.
– Неважно… может, я банк хочу вместе с тобой брать? Как твое мнение – хорош ли восьмой калибр?
– Это мой самый любимый калибр… – Илья простонал и представил себя с надетым на голову чулком, врывающимся в глухую полночь, связав и сунув кляп в рот вахтеру, в Вычислительный Центр – брать «банк данных».
Андрэ махнул на него рукой:
– Не уважаю!
Он вдруг посмотрел налитыми кровью глазами в свою пустую руку, сжал ее, будто в ней находилась ручка револьвера, и стал с видимым наслаждением, с радостью, написанною на лице, всаживать воображаемые пули в стены.
– А ты хотел бы убить человека? – хрипло спросил он.
Илья тупо промолчал. Андрэ с пренебрежением и превосходством посмотрел на него, налил еще стакан, выпил и ушел, завалившись на койку в своей каюте.
Санчо уже несколько раз при сильной волне падал на пол, но каждый раз героически поднимался, глаза его от выпитой водки смотрели в разные стороны, но дара речи он еще не терял – он начинал и изрекал одно и то же, забывая, что это он уже говорил не один раз:
– В Акапулько у меня знакомый главарь мафии… пили вместе… всегда ходит вот с таким пистолетом и с двумя телохранителями… Плечи, мышцы, рост! – Санчо стал размахивать руками, показывывая необъятность их размеров, и состроил тупое с квадратным подбородком лицо, – вот они какие! – Санчо сделал большие глаза: – Как только таких выращивают? Я спросил его: «Хулио, зачем тебе эти парни, когда у тебя такой пистолет?» Он отвечает: «Затем что не все же делать своими руками, – надо дать и ребятам повеселиться». Хороший он парень – Хулио! Только пить не умеет. Где им против нашего – пить! Мы налили себе стаканы – а он во-о-т столечко… Мы ему подлили, он усами повел, но ничего: выпил, а как подниматься стал – не может… где им пить! Когда уходил, его поддерживали телохранители.
Санчо стукнул по столу – но тут судно сильно качнуло – и Санчо свалился под стол. Поднялся он и начал все сначала:
– В Акапулько у меня знакомый главарь мафии…
Каждый раз в этой истории появлялись новые подробности и краски, в следующий заход стало известно, что Хулио приехал на ролс-ройсе, пистолет был ему по колено, а потом телохранители унесли его на руках, дальше дело приняло совсем драматический оборот: бедняга Хулио прилетел на вертолете, а после того, как в него влили бочонок, телохранители оттащили его за ноги. Неизвестно что претерпел бы в следующий раз несчастный Хулио, но после очередного качка Санчо рухнул и больше не подымался.
Илья встал, вышел, держась за стены, из лаборатории – его мучило желание немного побыть на свежем воздухе, ему казалось, что еще немного – и он умрет. Он долго дергал заклинившую дверь, навалился всем телом на ручку – дверь распахнулась, и он вывалился на палубу, его тут же окатило морской водой и стало выворачивать наизнанку, – от этого он почувствовал некоторое облегчение: мир, сузившийся, ставший прерывистым, часто проваливавшийся куда-то, уходивший из-под ног, немного прояснился. Он увидел в свете прожектора нос судна, то вздымающийся, то падающий с волны на волну.
Море ярилось, поднимало горы и бросало их на суденышко. Илья с ужасом заметил, как одна волна, прорезанная носом (так что показалось, будто судно врезалось на полных парах в наклонившуюся поверхность моря и собирается идти ко дну), нависла над Ильей, медленно стала накрывать его. Волна подхватила, сбила Илью с ног, подняла, прокатила в пене по палубе и – с силой швырнула на трап. С Ильи в долю секунды слетел хмель, он вцепился мертвой хваткой в ступеньки и… потерял сознание.
…Пришел в себя он через несколько суток; первое, что он прошептал, было: «Проклятое… проклятое море!..»
Вернулся из рейса Илья измученным, разбитым, больным. Синяки, царапины долго не заживали и так до конца не зажили, отзываясь ноющей болью во всякую ненастную погоду, – он стал немного прихрамывать, а после работы полюбил лежать на диване, занимавшем почти полкомнаты в его съемной квартирке. С этого времени он стал быстро полнеть, наливаясь солидностью, приличной возрасту и положению, – одно его появление, когда он распахивал дверь, шел к столу у окна с кактусом (также располневшим от частого полива), внушало уважение, почтительный трепет.
В институте изменений не было, все шло своим заведенным бог знает когда и зачем порядком. Правда, Эразм Багратионович, которого проводили на пенсию, уже не жевал ириски, пряча обертки в стол, но Эсмеральда все так же куда-то звонила; она немного располнела, это единственное, что изменилось в ее облике за все годы. Морозильников все так же спал, положив кудрявую, с немного поредевшими волосами голову на кипу бумаг. А Боженькина и Одуванчикова жевали все те же плюшки с мармеладом, вязали кофточки и уже мечтали о близкой пенсии. Илья приходил, разбирал брошюрки или стоял у окна, наблюдал за детьми, которые с ученым видом возились в песочнице, словно считали, что и они – лаборатория института.
Неожиданно Илью вызвал к себе Татев. Он встретил его на пороге, широко раскрыв объятия, широко улыбаясь – весь гостеприимство (на Илью всегда приятное впечатление производил подчеркнутый демократизм Татева, ему нравилось, что начальник не придает слишком большого значения правилам субординации). Татев не обнял Илью, только одобрительно похлопал по плечу, а потом, видимо не удержавшись, потрепал за щеку.
– Молодец, Илья Иванович! Молодец! Наслышан, наслышан о ваших подвигах… один среди бушующих волн! Молодец! И я уже чувствую, что экспедиционное задание вы выполнили блестяще!
– Задание? – удивился Илья, стараясь вспомнить, был ли при отъезде разговор о задании, которое нужно выполнить.
– Да-да! Задание, – подтвердил Татев и утвердительно помахал головой, – измерили ли вы уровень Каспийского моря? – Тут Татев видимо спохватился и улыбнулся еще обворожительней. – Ах, о чем я спрашиваю! Разумеется – измерили, не могли не измерить!..
– Да-да, конечно, но… мы же ходили по Черному морю! – попытался возразить Илья. – Как же я мог измерить уровень Каспийского, находясь в Черном?
– …И при этом совершили подвиг… среди бушующих волн! – Татев откинулся в кресле и мечтательно полузакрыл глаза, потом открыл, встал и снова похлопал Илью по плечу: – Молодец, Петрищев! Молодец! Герой!
– Да, – согласился, растаяв, Илья, – вообще-то я неплохо себя показал, но…
– Никаких но! – Татев протестующе поднял руку. – Каспийское море, Черное – какая разница? У всех морей один уровень – уровень моря. Ведь так?
– Так-то оно так…
– Я так и знал, что ты… – Татев, как бы обмолвившись, сухое «вы» заменил сердечным «ты» (он произнес это особенно тепло), но тут же поправился, намекая на существующую дистанцию между начальником и подчиненным, – что вы, поддержите мою мысль, я всегда видел в вас перспективного научного работника, с первых ваших шагов я заметил в вас эту теоретическую жилку! – Татев покровительственно улыбнулся. – Да… а вы все в кандидатах? О докторской-то думаете?






