Короли и капуста (сборник) О. Генри
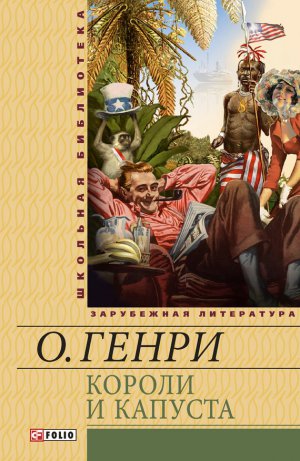
– Я бы так и сделал – ответил Джонни, немного помолчав, – но я говорил вам неправду, Билли…
– Это ничего, – вежливо сказал Кио.
– Я сотни раз говорил вам, – медленно произнес Джонни, – что забыл эту девушку. Разве нет?
– Приблизительно триста семьдесят пять раз, – ответствовал живой памятник человеческому терпению.
– И каждый раз я говорил вам неправду, – повторил консул. – Я никогда не забывал ее ни на минуту. Я был упрямый осел! Она мне только раз сказала «нет», и я сбежал. И уже не мог вернуться из-за своей дурацкой гордости. Сегодня вечером у Гудвина я несколько минут поговорил с Розин. И я разузнал одну вещь. Вы помните того фермера, что все время крутился возле нее?
– Динк Посон? – спросил Кио.
– Пинк Досон. Ну так Розин сказала, что он для нее пустое место. И что она не верила ни слову из того, что он рассказывал ей обо мне. Но теперь мне хана, Билли. Это дурацкое письмо, которое мы с вами отправили тогда, разрушило все шансы, которые у меня еще оставались. Она станет презирать меня, если узнает, что ее старый отец стал жертвой шутки, до которой не опустился бы даже школьник. Ботинки! Да он не продаст в Коралио и двадцати пар ботинок, даже если будет торговать здесь обувью двадцать лет. Наденьте-ка ботинки на кариба или метиса – что он сделает? Будет ходить на голове и визжать, пока не сбросит их со своих ног. Никто из них никогда не носил и не будет носить обувь. Если я отправлю их обратно домой, мне придется рассказать им всю правду, и что же тогда Розин подумает обо мне? Билли, эта девушка нужна мне сейчас больше, чем когда-либо, но теперь, когда она здесь, совсем рядом, я потерял ее навсегда, только потому, что однажды пытался шутить, когда термометр показывал 102 градуса[159].
– Не унывайте, – сказал оптимистически настроенный Кио. – И пусть они открывают свой магазин. Сегодня днем я не терял времени даром. Мы поможем вызвать по крайней мере временный бум на рынке обуви. Я лично куплю шесть пар, как только двери их магазина откроются. Я тут побегал по городу, переговорил со всеми нашими и объяснил им какая приключилась беда. Они будут так скупать у Хемстеттера туфли, как будто все они сороконожки. Фрэнк Гудвин обещал купить несколько ящиков. Супруги Гедди возьмут на двоих примерно одиннадцать пар. Клэнси собирается инвестировать в туфли все сбережения, сделанные им за последние восемь недель, и даже старый доктор Грегг хочет себе три пары туфель из крокодиловой кожи, если, конечно, в магазине найдутся туфли такого гигантского размера. Бланшар уже видел мисс Хемстеттер, и, поскольку он француз, то он купит никак не меньше двенадцати пар.
– Дюжина покупателей против целой армии ботинок на 4000 долларов![160] – сказал Джонни. – Ничего не выйдет. Имеет место быть гигантская проблема и нужно ее как следует обдумать. Вы, Билли, ступайте сейчас домой и оставьте меня одного. Я должен сам поработать над всем этим. И заберите с собой эту бутылку с трехзвездочной отравой – нет, нет; консул Соединенных Штатов не выпьет больше ни грамма спиртного. Я буду сидеть здесь всю ночь и думать на полную мощность. Если существует хоть малейшая возможность как-то выпутаться из этой ситуации, я отыщу эту возможность. Если же нет, то на совести у этих пафосных тропиков будет еще одна разбитая жизнь.
Кио ушел, понимая, что сейчас он ничем не может помочь. Джонни положил перед собой на столе полдюжины сигар и вытянулся в шезлонге. Когда над Коралио забрезжили первые лучи восходящего солнца, серебря морские волны в гавани, он все еще пребывал в своих тяжелых раздумьях.
Потом он неожиданно встал и пошел умываться, насвистывая какой-то веселый мотивчик.
В девять часов Джонни вышел из дома и направился к маленькому обшарпанному домику, где помещалась телеграфная контора. Там он почти полчаса корпел над телеграфным бланком, и результатом его трудов явилась телеграмма, которую он подписал и тут же отправил, что обошлось ему в 33 доллара[161].
Телеграмма была следующего содержания:
Пинкни Досону,
Дейлзбург, штат Алабама.
Чек на 100 долларов отправлен вам почтой. Пришлите немедленно 500 фунтов[162] сухого колючего репейника. Здесь ему нашли новое применение. Рыночная цена – двадцать центов за фунт. Вероятны дополнительные заказы. Поспешите, время – деньги.
Глава XIII
О кораблях
На следующей неделе для мистера Хемстеттера подыскали подходящее помещение на улице Калье Гранде, после чего ботинки, туфли и прочие тапочки заняли свои места на полках нового обувного магазина. Арендная плата была вполне умеренной, аккуратные белые коробки были расставлены с большим изяществом и выглядели очень привлекательно.
Друзья Джонни поддерживали его изо всех сил. В самый первый день Кио как бы случайно заходил в магазин через каждый час и каждый раз покупал туфли или ботинки. После того как он купил туфли на широкой подошве, кожаные ботинки с резинками по бокам, лайковые туфли с пуговицами, полуботинки из телячьей кожи, лакированные танцевальные туфли, резиновые сапоги, несколько пар коричневых ботинок различных оттенков, теннисные туфли и домашние тапочки в цветочек, он отправился разыскивать Джонни, чтобы узнать у него, какие еще существуют виды обуви. Другие представители англо-американской диаспоры Коралио также прекрасно играли свои роли, покупая часто и помногу Кио лично командовал парадом, распределяя покупателей так, чтобы обеспечить более-менее приличную торговлю хотя бы на несколько дней.
Мистер Хемстеттер был вполне доволен тем, как у него идут дела, однако выражал удивление тем фактом, что туземцы так упрямо держатся своих отсталых обычаев.
– Ох, они такие застенчивые, – объяснял Джонни, нервно вытирая лоб носовым платком. – Довольно скоро они привыкнут. И уж тогда они повалят к вам толпами.
Однажды после полудня Кио зашел в кабинет консула, задумчиво жуя незажженную сигару.
– Ну что, Джонни? Есть у вас какой-нибудь туз в рукаве? – требовательно спросил он. – Если есть, то самая пора его вытаскивать. Если вы можете сейчас попросить шляпу у какого-нибудь джентльмена из публики и достать оттуда покупателей, которые скупили бы все эти никому не нужные ботинки, то пора бы вам показать этот фокус. Все наши уже закупили себе столько ботинок, что им хватит на десять лет, и теперь в обувном магазине тишина – сплошное dolce far niente[163]. Я только что был там. Ваша почтенная жертва стоит в дверях и разглядывает сквозь свои окуляры многочисленные босые ноги, которые обходят его супермаркет стороной. Местные жители интересуются исключительно искусством. Мы с Клэнси сегодня утром за два часа сделали восемнадцать фотографий. А Хемстеттер продал всего лишь одну пару обуви за весь день. Бланшар зашел и купил домашние тапочки на меху, потому что ему показалось, что в магазин вошла мисс Хемстеттер. Потом я видел, как он выбросил эти тапочки в море.
– Завтра или послезавтра должен прибыть фруктовый пароход компании «Мобайл», – сказал Джонни. – А до этого момента мы ничего не можем сделать.
– Что же вы собираетесь предпринять? Попытаетесь как-то создать спрос?
– Да, Билли, кажется, вы не особенно сильны в политэкономии, – довольно цинично заметил консул. – Спрос создать невозможно. Но можно создать у людей некоторую потребность, которая, в свою очередь, вызовет спрос. Именно в этом и заключается мой план.
Через две недели после того, как Джонни отослал свою телеграмму, фруктовый пароход доставил ему огромный таинственный тюк из коричневой рогожи. О том, что находится внутри, не знал никто. У консула США в Коралио было достаточно влияния на таможенных чиновников, чтобы полученный груз выдали ему без обычного досмотра. Тюк притащили в консульство, где он уютно устроился в кладовке.
Вечером Джонни разрезал край тюка и вынул оттуда горсть репейника, после чего осмотрел эти малопочтенные колючки столь же внимательно, как воин осматривает свое оружие перед боем, перед самым главным боем за свою возлюбленную и за свою жизнь. Репейник был спелым, августовским, сухим и крепким, как лесной орех. Со всех сторон он щетинился колючками, жесткими и острыми, как иглы. Насвистывая веселый мотивчик, консул вышел из дома и отправился разыскивать Билли Кио.
Ночью, когда Коралио уже погрузился в сон, они с Билли вышли на пустынные улицы, при этом пиджаки обоих раздувались, точно воздушные шары. Они прошлись по всей Калье Гранде, засевая ее острым репейником – и песок, и узкие тротуары, и каждый фут травы между затихшими домами. А потом они принялись за боковые улочки и не пропустили ни одной. Друзья не оставили без внимания ни единого фута земли, куда могла бы ступить нога мужчины, женщины или ребенка. Несколько раз они бегали на свой колючий склад, чтобы пополнить запас репейника. А затем, уже почти перед самым рассветом, легли они на ложа свои, дабы отдохнуть от забот своих, как великие генералы после того, как план достижения победы уже составлен согласно новейшей тактике, и спокойно спали они, зная, что посеяли щедро, как учил святой Павел[164].
С восходом солнца из окрестных деревень прибыли на рынок продавцы фруктов, мяса и другой снеди и стали раскладывать свои товары на террасе, окружавшей небольшое здание рынка, которое находилось на северной окраине города, почти у самого берега моря. Ночные сеятели колючек так далеко не заходили, поэтому сами продавцы достигли рынка безо всяких приключений, однако давно миновал уже тот час, когда обычно начиналась торговля, а покупателей все не было. «Que hay?»[165] – спрашивали друг друга торговцы.
В обычное время из каждого глинобитного домика, из каждой пальмовой хижины, из каждой соломенной лачуги, из каждого тенистого патио стали выходить женщины – черные женщины, коричневые женщины, лимонные женщины, женщины желтовато-серые, желтовато-коричневые и просто желтые. Они шли на рынок, чтобы, как обычно, закупить для своих семей продукты – маниоку, бананы, мясо, птицу и плоские маисовые лепешки. У них были голые плечи, и голые руки, и босые ноги, и юбки чуть ниже колен. Флегматичные и волоокие, они вышли из дверей своих домов и ступили на узкие мощеные тротуары или прямо на шелковистую травку.
Вдруг те из них, что вышли самыми первыми, стали издавать странные визги и прыгать на одной ножке. Еще один шаг – и все они с пронзительными криками повалились на землю, и стали выдергивать из кожи каких-то колючих насекомых, которые нещадно жалили им ноги. «Que picadores diablos!»[166] – пронзительно кричали они друг другу через узенькие улочки. Некоторые попробовали идти не по тротуарам, а по траве, но и там их тоже жалили и кусали непонятные колючие твари. Женщины валились на траву, а их вопли сливались в общем хоре с криками их сестер, пострадавших на песчаных дорожках. Во всем городе слышны были женский плач и стенания. А в это время продавцы на рынке удивлялись – почему же до сих пор нет покупателей?
Потом на улицу вышли хозяева жизни – мужчины. Они тоже принялись подпрыгивать, пританцовывать, хромать и сыпать проклятьями. Некоторые стояли с перекошенными от боли лицами, с глупым видом оглядываясь по сторонам. Другие, наклонившись, пытались выдергивать из кожи колючую напасть, которая атаковала их ступни и лодыжки. Кто-то громко кричал, что на него напали ядовитые пауки неизвестного вида.
А потом и дети выбежали на улицу, ибо уже настало время их утренних игр. И тут же к общему шуму добавились завывания искусанных репейником малышей. С каждой минутой появлялись все новые и новые жертвы.
Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-Лас-Касас вышла из дверей своего почтенного дома, как она это делала ежедневно и направилась через улицу panaderia[167], чтобы купить свежего хлеба. На ней была желтая атласная юбка с цветочными узорами, свободная льняная блуза с пышными оборками и чудесная пурпурная мантилья[168], привезенная из самой Испании. Ее ноги чудесного лимонного оттенка были – увы! – совершенно босы. Ее походка была изящной и величественной – ведь разве не были ее предки арагонскими[169] идальго? Всего три шага сделала она по мягкой траве, и ее аристократическая ступня наткнулась на несколько колючек Джонни. Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-Лас-Касас испустила душераздирающий вой – совсем как дикая кошка. Она повернулась назад, упала на четвереньки и поползла – да, как будто зверь лесной, поползла она к своему почтенному порогу.
Мировой судья дон сеньор Ильдефонсо Федерико Вальдазар, который весил не меньше двадцати стоунов[170], попытался переместить свое грузное тело в пульперию на углу площади, дабы немного утолить утреннюю жажду Первое же погружение его необутой ступни в прохладную травку обнаружило прятавшуюся там мину Дон Ильдефонсо повалился на землю с таким грохотом, как будто рухнул кафедральный собор, и стал кричать, что его смертельно укусил ядовитый скорпион. Повсюду можно было видеть необутых жителей Коралио, которые прыгали, падали, хромали или сидели на чем-нибудь, вытаскивая из ног ядовитых колючих насекомых, которые прилетели в их город неизвестно откуда и теперь так изводили всех его жителей.
Первым, кто придумал средство от этой напасти, был парикмахер Эстебан Дельгадо, человек образованный и много чего повидавший в жизни. Сидя на камне, он вытаскивал колючки из пальцев ноги и разглагольствовал:
– Взгляните, друзья мои, на этих клопов дьявола! О, мне они хорошо известны! Они роятся в небесах, как голуби, – огромными стаями. Здесь вы видите тех, которые умерли и за ночь попадали на землю. А на Юкатане[171] я видел таких клопов размером с апельсин. Да! Там они шипят, как змеи, а крылья у них, что у твоей летучей мыши. Ботинки! Ботинки – вот что нам нужно! Zapatos! Zapatos para mi![172]
Эстебан кое-как дохромал до магазина мистера Хемстеттера и купил себе ботинки. Выйдя оттуда, он стал свободно и безнаказанно расхаживать по улицам и громко поносить клопов дьявола. Страдальцы, которые повсюду сидели или стояли на одной ноге, как цапли, с завистью смотрели на неуязвимого парикмахера. Мужчины, женщины и дети, все хором подхватили его призыв:
– «Zapatos! Zapatos!»
Потребность в спросе была создана, и спрос немедленно возник. В этот день мистер Хемстеттер продал триста пар обуви.
– Просто удивительно, как бойко пошла сегодня торговля, – рассказывал он Джонни, который зашел к нему вечером помочь навести порядок. – А вчера я не продал и трех пар.
– Я же говорил вам, что уж если они начнут, то разойдутся не на шутку, – спокойно ответил консул.
– Думаю, надо заказать еще хотя бы дюжину ящиков, чтобы пополнить запас товара, – сказал мистер Хемстеттер, счастливо сверкая глазами сквозь стекла своих очков.
– А я бы на вашем месте не делал пока дополнительных заказов, – посоветовал Джонни. – Подождите немного, посмотрите, как пойдет торговля дальше.
Каждую ночь Джонни вместе с Кио бросали в землю семена, которые на следующий день всходили урожаем долларов. За десять дней было продано две третьих запаса обуви, а запас репейника был исчерпан полностью. Джонни опять телеграфировал Пинку Досону и заказал еще 500 фунтов репейника, по двадцать центов за фунт, как и в первый раз. Мистер Хемстеттер с большой тщательностью составил заказ на дополнительную партию обуви, в общей сложности на 1500 долларов. Джонни слонялся вокруг магазина, пока заказ Хемстеттера не был готов к отправке, и, сумев перехватить посыльного, уничтожил это письмо прежде, чем оно достигло почтовой конторы.
Вечером того же дня он отвел Розин под росшее в саду Гудвина манговое дерево и там во всем ей признался. Она пристально взглянула в его глаза и сказала:
– Вы очень злой, нехороший человек. Мы с отцом немедленно возвращаемся домой. Вы говорите, что это была шутка? А по-моему, это очень серьезно.
Полчаса они горячо спорили, но потом тема их беседы плавно перешла на то, какими обоями – голубыми или розовыми – следует оклеить комнаты в старом колониальном особняке Этвудов в Дейлзбурге после их свадьбы.
Следующим утром Джонни во всем признался и мистеру Хемстеттеру Торговец обувью нацепил на нос свои очки и, пристально глядя сквозь них на бедного Джонни, с достоинством произнес:
– Да вы, юноша, оказывается, редкий негодяй. Если бы не моя деловая хватка, то все предприятие могло бы потерпеть полный крах. Ну а теперь скажите мне, как вы предлагаете избавиться от остатка товара?
Когда прибыла вторая партия репейника, Джонни нанял небольшую шхуну, погрузил туда свое колючее оружие и остатки ботинок и отправился вдоль берега на юг, в Аласан.
В Аласане Джонни столь же успешно повторил свой дьявольский трюк и вернулся оттуда с целым мешком денег, но без единого шнурка.
А потом он упросил своего великого дядюшку, который ходит в звездно-полосатом жилете и трясет козлиной бородкой, принять его отставку, поскольку лотос больше не привлекал его. А привлекали его теперь шпинат и морковка и Дейлзбург.
На роль исполняющего обязанности консула госдепартаменту была предложена кандидатура мистера Уильяма Теренса Кио, эта кандидатура была одобрена, и Джонни вместе с Хемстеттерами отбыл к родным берегам.
Кио принял эту синекуру[173] – должность американского консула – с непринужденностью, которая никогда не покидала его, даже когда он возносился столь высоко. Вскоре после этого их фотографическому заведению суждено было окончить свое существование, хотя смертельные следы его работы еще долго встречались на берегах мирного и беззащитного испанского материка. Беспокойные компаньоны собирались снова отправиться в погоню за Удачей. Но теперь их звали разные дороги. Ходили слухи, что в Перу началось многообещающее восстание, туда и направился воинственный Клэнси. Что же касается Кио, то он разрабатывал в своей голове и рисовал на официальных почтовых бланках коралийского консульства одну новую схему, которая должна была затмить собою искусство обезображивания человеческих личностей на фотографических пластинах.
– Что мне подходит в плане деловых предложений, – рассказывал обычно Кио, – так это что-нибудь необычное, какая-нибудь комбинация, которая кажется очень рискованной, хотя на самом деле риск не так велик – какая-нибудь изящная авантюра, еще не настолько затасканная, чтобы ей обучали на заочных курсах. Я играю с рискованными ставками, но мне хотелось бы иметь шансы на выигрыш, по крайней мере, не хуже, чем у простофили, который учится играть в покер на океанском лайнере, или у политика, который баллотируется на пост губернатора Техаса от Республиканской партии[174]. А когда я стану обналичивать свой выигрыш, то мне совсем не хотелось бы найти среди этих денег последние гроши вдов и сирот.
Весь земной шар, поросший травой, был тем зеленым столом, на котором Кио играл в свои азартные игры. В те игры, которые он сам же и придумывал. Он был не из тех, кто тяжелым трудом добывает свой скромный доллар. Но не любил он и гоняться за ним, словно охотник с рогом и гончими собаками. Больше всего ему нравилось выманивать доллар из тех диковинных рек, где обычно прячется эта хитрая рыбка, на какую-нибудь простую, но блистательную приманку. Но все же Кио был деловым человеком, и все его планы, хотя и очень необычные, разрабатывались не менее тщательно, чем смета строительного подрядчика. Во времена короля Артура сэр Уильям Кио несомненно стал бы одним из рыцарей Круглого стола. А в наши дни он едет за границу, но не для того, чтобы найти Грааль[175], а для того, чтобы сорвать куш.
Когда после отъезда Джонни миновало три дня, в Коралио прибыли две небольшие шхуны. Через некоторое время от одной из них отчалила лодка, которая доставила на берег какого-то загорелого молодого человека. Взгляд у молодого человека был проницательным и оценивающим, и он с удивлением разглядывал все вокруг. На берегу он спросил, где находится американское консульство, после чего и направился туда нервной, торопливой походкой.
Удобно развалившись в служебном кресле, Кио занимался тем, что на полученной для служебных писем бумаге рисовал карикатуры на дядюшку Сэма. Он вопросительно поднял глаза на неожиданного посетителя.
– Где Джонни Этвуд? – деловито спросил загорелый молодой человек.
– Его нет, – ответил Кио, не отрываясь от своей кропотливой работы – сейчас он рисовал дядюшке Сэму галстук.
– Как это на него похоже, – спокойно заметил загорело-коричневый гость, прислоняясь к столу. – Все время где-то шляется, вместо того чтобы заниматься делом. А скоро он вернется?
– Не думаю, – ответил Кио, поразмыслив над этим вопросом довольно продолжительное время.
– Опять, наверно, занимается какой-то ерундой, потому и нет его на месте, – посетитель высказал это предположение тоном добродетельного человека, который отчитывает бездельника. – Джонни никогда не умел заниматься одним делом достаточно долго, чтобы добиться успеха. Мне вообще непонятно, как ему здесь удается справляться с делами, если его никогда нет на месте.
– Сейчас дела веду я, – сознался и. о. консула.
– Да? Тогда скажите мне – где находится ваша фабрика?
– Какая фабрика? – вежливо спросил Кио с умеренным интересом.
– Ну как же! Фабрика, где перерабатывают этот проклятый репейник. Бог знает, для чего его здесь используют, ну да это мне все равно! У меня две шхуны – обе загружены под завязку. Я выгодно продам вам всю партию. В Дейлзбурге я отправил на сбор репейника всех мужчин, женщин и детей, кого только смог нанять, и они собирали его целый месяц. Чтобы доставить товар сюда, я нанял эти корабли. Все думали, что я сошел с ума. Могу отдать вам всю партию по пятнадцати центов за фунт, и доставка на берег за мой счет. А если вам нужно еще, я думаю, старушка Алабама справится, можете не сомневаться – будет вам столько репейника, сколько закажете. Джонни, когда уезжал, обещал мне, что, если ему попадется здесь какое-нибудь дельце, на котором можно подзаработать деньжат, то он обязательно мне сообщит. Ну так как – разгружать мне мои шхуны?
Выражение наивысшего, почти невероятного восхищения как солнце взошло на румяном лице Кио. Он выронил из рук карандаш. Его взор обратился на загорелого молодого человека с радостью, смешанной со страхом, – а вдруг это всего лишь сон?
– Ради бога скажите мне, – спросил Кио с величайшей серьезностью, – вы – Динк Посон?
– Меня зовут Пинкни Досон, – ответил воротила репейного рынка.
В полном восторге Билли Кио мягко скатился с кресла на пол, на свою любимую циновку.
Не слишком много звуков можно было услышать в Коралио тем жарким и знойным днем. А из тех звуков, которые там все же были, можно упомянуть раскаты восторженного хохота, доносившиеся из американского консульства, где один ирландец катался по полу и смеялся, как сумасшедший, а какой-то загорелый молодой человек с проницательным взглядом смотрел на него с удивлением и непониманием. А еще – «топ, топ, топ» – топали по улицам многочисленные хорошо обутые ноги. А еще уныло плескались волны моря об исторический берег испанского материка.
Глава XIV
Мастера изящных искусств
Двухдюймовый[176] огрызок синего карандаша был той волшебной палочкой, с помощью которой Кио совершал подготовительные действа своего волшебства. Именно этим карандашиком изводил он казенную бумагу, покрывая ее различными диаграммами и вычислениями в ожидании того момента, когда Соединенные Штаты пришлют в Коралио преемника для подавшего в отставку Этвуда.
Новый план, который изобрел его беспокойный ум, одобрило его храброе сердце и подтвердили расчеты, произведенные вышеупомянутым синим карандашом, основывался на некоторых особенностях характера и человеческих слабостях нового президента республики Анчурия. Человеческие качества сеньора президента, а также ситуация, из которой Кио надеялся извлечь золотую дань, заслуживают того, чтобы, во имя ясности изложения, мы рассказали обо всем по порядку.
Президент Лосада (многие называли его Диктатором) был человеком, гений которого, без сомнения, позволил бы ему стать заметной фигурой даже среди англосаксов, не будь этот гений подпорчен некоторыми другими чертами характера, мелочными и недостойными. Он обладал определенной долей высокого патриотизма Вашингтона (которым он восхищался больше всего), силой Наполеона и – в значительной степени – мудростью семи великих мудрецов Греции. Все эти качества, возможно, могли бы даже послужить оправданием того, что он без ложной скромности принял на себя титул «Блистательного освободителя», если бы они не сопровождались поразительным и необъяснимым тщеславием, из-за которого он продолжал числиться в несколько менее почетных рядах диктаторов.
Но все же он очень многое сделал для своей страны. Досада крепко взял Анчурию в свои руки и так ее встряхнул, что она едва не освободилась от вековых оков невежества и лени, а также от разнообразных паразитов, что кормились за ее счет, и даже чуть было не вошла на равных в семью великих мировых держав. Он открывал школы и больницы, строил шоссейные и железные дороги, мосты и дворцы, делал щедрые пожертвования на искусство и науку. Он был абсолютным деспотом и абсолютным кумиром своего народа. Все богатства страны лились ему в руки. Другие президенты проявляли совершенно неумеренную жадность. Досада тоже, конечно, прибрал к рукам огромное состояние, но все же и народу кое-что перепадало.
Его слабым местом была ненасытная страсть к различным памятникам и символам, которые бы увековечивали его славу. В каждом городе он потребовал установить статуи себя любимого и высечь на постаментах хвалебные оды. На стенах всех общественных зданий были прибиты памятные доски, где рассказывалось о его необыкновенном величии и о том, как благодарны ему его подданные. Статуэтки и портреты президента заполонили всю страну – их можно было увидеть и в богатых домах, и в самых бедных лачугах. Один живописец из его придворных лизоблюдов нарисовал картину, где Досада был изображен в виде святого Иоанна с сияющим нимбом и в окружении отряда анчурийских офицеров в полной парадной форме. Президент не увидел в этой картине ничего неприличного или предосудительного, и ее повесили в одной из столичных церквей. У одного французского скульптора он заказал мраморную группу, в которую входили он сам, Наполеон Бонапарт, Александр Великий и еще пару человек, которых он посчитал достойными этой чести.
Он обшарил всю Европу в поисках наград и орденов. Чтобы получить от иностранного монарха или президента вожделенный орден, он не гнушался ничем – в ход шли и политика, и деньги, и интриги. В торжественных случаях вся его грудь – от плеча до плеча – была увешана крестами, звездами, золотыми розами, медалями и лентами. Говорили, что любой, кто сумеет добыть для него новый орден или придумает какой-нибудь новый способ прославить его, получает возможность глубоко запустить руку в государственную казну.
Это и был тот человек, которого Билли Кио присмотрел для осуществления своих замыслов. Наш благородный флибустьер удачи видел, какой щедрый ливень всевозможных даров сыплется на головы тех, кому удалось прислужиться президентскому тщеславию, и совсем не считал, что сам он должен раскрывать зонтик, дабы защититься от брызг этого потока богатств.
Через несколько недель прибыл новый консул и освободил Кио от его временных обязанностей. Это был молодой человек, который только что окончил колледж. Единственной целью его жизни была ботаника, а должность консула в Коралио давала ему отличную возможность изучать тропическую флору. Он носил темные очки и зеленый зонтик. Новый консул так заставил прохладную веранду консульства разнообразными растениями и гербариями, что там совсем не осталось места ни для бутылки, ни для стула. Кио посмотрел на него с сожалением, но без всякой обиды, и стал паковать свой саквояж. В любом случае для осуществления его нового заговора против тишины и спокойствия на берегах испанского материка требовалось совершить путешествие за границу.
Вскоре в Коралио вновь прибыл «Карлсефин» – он не изменил своим привычкам бродяги и должен был теперь забрать груз кокосовых орехов для одной спекулятивной операции на нью-йоркском рынке. Кио купил себе билет на обратный рейс до Нью-Йорка.
– Да, я уезжаю в Нью-Йорк, – объяснял он небольшой группе друзей и земляков, собравшихся на берегу проводить его. – Но я вернусь еще до того, как вы успеете соскучиться. Я уже очень много сделал для художественного просвещения этой серо-буро-малиновой страны, и не такой я человек, чтобы покинуть ее в момент, когда она страдает от одной лишь ферротипии.
Объяснив свои намерения таким таинственным образом, Кио поднялся на борт «Карлсефина».
Десять дней спустя, с поднятым воротником и дрожа от холода в своем тоненьком пальтишке, он вломился в однокомнатную квартирку Каролуса Уайта, которая находилась на последнем этаже высокого дома на Десятой улице в Нью-Йорке.
Каролус Уайт курил сигарету и жарил сардельки на нещадно коптившем примусе. Ему было всего двадцать три года, и его представления об искусстве были самыми возвышенными.
– Билли Кио! – воскликнул Уайт, протягивая ему ту руку, которая в данный момент не была занята сковородкой. – Откуда же ты теперь прибыл? Из какой части нецивилизованного мира?
– Привет, Кэрри, – сказал Кио, подтащил к примусу какой-то табурет, уселся на него, вытянул руки и стал отогревать над огнем озябшие пальцы. – Я очень рад, что так быстро нашел твою берлогу. Весь день я искал тебя в адресных книгах и художественных галереях, но все без толку. А вот бармен из салуна с бесплатным завтраком[177] на углу Десятой улицы моментально сказал мне твой адрес. Я так и думал, что ты еще не бросил малевать свои картины.
Кио осмотрел комнатку Уайта проницательным взглядом знатока живописи.
– Да, ты сможешь сделать именно то, что нужно, – заявил Кио, одобрительно кивая. – Вон та большая картина в углу, где нарисованы ангелы, и зеленые облака, и фургон с оркестром, – нам нужно что-то именно в этом роде. Как ты ее назвал, Кэрри? Наверное, «Сцена на Кони-Айленд»?[178]
– Эту картину, – ответил Уайт, улыбаясь, – я намеревался назвать «Восхождение пророка Илии на небеса», но возможно, твоя версия ближе к истине.
– Название не имеет значения, – величественно произнес Кио, – цель достигается при помощи солидной рамы и многообразия оттенков. Теперь я в одну минуту объясню тебе, что мне нужно. Я совершил небольшое путешествие в две тысячи миль[179], чтобы пригласить тебя поучаствовать со мной в одном деле. Я сразу подумал о тебе, как только придумал этот план. Как ты посмотришь на то, чтобы отправиться вместе со мной в те края, оттуда я сейчас прибыл, и нарисовать там одну картину? Поездка займет примерно девяносто дней, а за работу можно получить пять тысяч долларов.
– Рекламный плакат? – поинтересовался Уайт. – Патентованные кукурузные хлопья или средство для укрепления волос?
– Это не реклама.
– А какая же картина нужна?
– Долгая история, – сказал Кио.
– Давай рассказывай. Если ты не возражаешь, я буду тебя слушать и одновременно присматривать за сардельками. Если они подрумянятся хотя бы на один оттенок глубже, чем коричневый цвет на картинах Ван Дейка[180], – все пропало.
Кио детально объяснил, в чем заключается его проект. Они поедут в Коралио, где Уайт будет изображать из себя знаменитого американского художника, который совершает вояж по тропикам, дабы отдохнуть от своих тяжелых и хорошо оплачиваемых профессиональных трудов. Даже тем, кто ходит лишь по проторенным дорогам бизнеса, этот план вовсе не показался бы безрассудным – художнику с таким авторитетом вполне могут предложить увековечить на холсте президентские черты, а затем он получит свою долю из обильного потока песо, который изливается на тех, кто умеет польстить слабостям президента.
Кио определил цену в десять тысяч долларов. Бывало, художникам платили за портреты и больше. Они с Уайтом на равных участвуют в расходах, а потом делят пополам полученную прибыль. И так он объяснил художнику весь свой план. Кио познакомился с Уайтом несколько лет назад в Орегоне, но потом их дороги разошлись – один посвятил себя Искусству, а другой стал кочевником.
Через несколько минут два комбинатора сменили спартанскую суровость квартирки Уайта, где даже мебели толком не было, на уютный уголок в кафе. Там они засиделись допоздна. Перед ними лежали какие-то бумаги с цифрами и диаграммами, а синий карандашик Кио без устали рисовал все новые и новые схемы.
Около двенадцати часов ночи Уайт скрючился на своем стуле, положил подбородок на кулак и закрыл глаза, чтобы не видеть малоэстетичные обои, которыми были оклеены стены.
– Я поеду с тобой, Билли, – тихо, но решительно сказал он. – У меня есть две-три сотни, которые я скопил себе на сардельки и чтобы платить за квартиру. Я готов рискнуть этими деньгами и попытать счастья вместе с тобой. Пять тысяч! Это даст мне возможность два года учиться в Париже и год в Италии. Завтра же начинаю паковать вещи.
– Ты начинаешь собираться через десять минут, – ответил Кио. – Завтра уже наступило. «Карлсефин» отчаливает в четыре часа дня. Пошли в твой покрасочный цех, и я помогу тебе.
На пять месяцев в году Коралио превращается в анчурийский Ньюпорт[181]. Только тогда город и живет настоящей жизнью. С ноября по март[182] Коралио фактически является резиденцией правительства. Туда перебирается президент со своей официальной семьей, и все общество также следует за ним. Любители удовольствий превращают весь сезон в один длинный нескончаемый праздник с постоянным весельем и всевозможными развлечениями. Торжества, балы, различные игры, морские купания, карнавалы и любительские спектакли никому не дают скучать. Знаменитый швейцарский оркестр из столицы каждый вечер играет на площади, а в это время четырнадцать разнообразных карет, повозок и прочих экипажей следуют по городу в заунывной торжественной процессии. Похожие на доисторических каменных идолов индейцы спускаются с гор, чтобы торговать на улицах своими поделками. Все улицы и переулки заполняет шумный, счастливый и беззаботный поток жизнерадостных людей. Мальчики с нелепыми позолоченными крыльями и девочки в коротких балетных юбочках бегают с криками под ногами веселящихся взрослых. Особенным событием является прибытие президентского кортежа в начале сезона. Его всегда устраивают с необыкновенной пышностью и показухой – с патриотическими демонстрациями и проявлениями народного восторга.
Когда бродяга «Карлсефин» доставил Кио и Уайта в точку назначения, веселый летний сезон был уже в полном разгаре. Как только они ступили на берег, до них сразу же донеслись звуки оркестра, который играл на площади. Деревенские сеньориты, босые и скромные, со светлячками, заплетенными в темные волосы, бесшумно скользили по тротуарам. Франты-обольстители в белых полотняных костюмах уже вышли на свою вечернюю прогулку и теперь важно вышагивали по улицам, помахивая тросточками. Воздух был пропитан человеческой эссенцией – поддельное очарование, кокетство, праздность, удовольствия – все заполнял собой искусственный смысл существования, который люди сами для себя придумали.
Первые два-три дня после приезда были потрачены на некоторые подготовительные мероприятия. Кио водил своего друга по городу, представлял немногочисленным англоязычным жителям Коралио и вообще использовал все возможности, чтобы способствовать распространению известности Уайта как знаменитого живописца. А дальше в программе у Кио были запланированы еще более эффектные фокусы для демонстрации тех идей, которые он желал внушить местной публике.
Они с Уайтом заняли лучшие комнаты в гостинице де лос Экстранхерос. Оба были одеты в новенькие, белоснежные полотняные костюмы, у обоих были американские соломенные шляпы и замечательные трости ручной работы, совершенно уникальные и совершенно бесполезные. Немногие caballeros в Коралио могли бы потягаться с сеньором Кио и его другом, великим американским живописцем, сеньором Уайтом в плане элегантности и беззаботности. Они затмили даже великолепных офицеров анчурийской армии в пышных парадных мундирах.
Уайт установил свой мольберт на берегу моря и сделал несколько замечательных эскизов горных и морских видов. Местные жители, чтобы посмотреть на его работу, образовали в некотором отдалении за его спиной широкий, шумно переговаривающийся полукруг. Кио никогда не упускал из виду даже малейших деталей и избрал для себя роль, которой с точностью в дальнейшем и придерживался. Эта роль называлась «друг великого художника, деловой человек на отдыхе». Очевидным символом его высокого общественного положения был карманный фотоаппарат «Кодак».
– В качестве средства, – объяснял своему другу Кио, – для того, чтобы позиционировать своего владельца как богатого бездельника, у которого чистая совесть и круглый счет в банке, с фотоаппаратом не сравнится даже паровая яхта. Стоит тебе увидеть какого-нибудь джентльмена, который совершенно ничего не делает, а только слоняется повсюду и фотографирует что попало, и тебе сразу ясно, что этот джентльмен высоко котируется у Брэдстрита[183]. Да ты и сам, наверное, видел этих пожилых миллионеров – как только они уже заграбастали все, до чего смогли дотянуться, они начинают заниматься фотографией. «Кодак» производит на людей большее впечатление, чем громкий титул или заколка для галстука с бриллиантом в четыре карата.
В общем, Кио занимал себя тем, что с важным видом прогуливался по Коралио, снимая местные виды и пугливых сеньорит, а Уайт в это время парил в значительно более высоких эмпиреях искусства.
Через две недели после их приезда план Кио начал приносить плоды. Адъютант президента в шикарном двухместном экипаже лихо подкатил к гостинице. Президент изъявил желание, чтобы сеньор Уайт прибыл в Casa Morena для неофициальной встречи.
Кио крепко сжал зубами мундштук своей трубки.
– Десять тысяч, и ни центом меньше, – сказал он художнику, – твердо запомни эту цену. И пусть платит золотом или американскими долларами – не дай ему всучить тебе эти побрякушки, которые они здесь называют деньгами.
– Ну, мало ли, зачем он мог меня позвать, – сказал Уайт.
– Не нужно лишних слов! – произнес Кио с великолепным апломбом. – Я знаю, чего он хочет. Он хочет, чтобы молодой, но уже знаменитый американский художник и флибустьер, который сейчас находится проездом в этом захолустье, написал его портрет. Давай, ступай.
Экипаж умчался, унося с собою знаменитого художника. В ожидании его возвращения Кио ходил по комнате из угла в угол, пуская из своей трубки огромные клубы дыма. Через час все тот же экипаж снова подкатил к дверям гостиницы, высадил Уайта и исчез. Художник взбежал вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки. Кио оторвался от своей трубки и превратился в молчаливый знак вопроса.
– Есть! – завопил Уайт, его детское лицо прямо сияло от восторга. – Билли, ты – просто чудо. Он хочет картину. Я сейчас тебе все расскажу. Клянусь небом! Этот парень – диктатор хоть куда! Диктатор до мозга костей. Его лицо – это как бы комбинация из лиц Юлия Цезаря, Люцифера и Чонси Депью[184], портрет маслом в коричневых тонах. Вежливый и грозный – вот он какой. Комната, где он меня принял, была по площади акров десять, не меньше. Убранство богатейшее – ни дать ни взять пароход на Миссисипи: тут тебе и позолота, и зеркала, и все сверкает белой краской. Он знает английский язык лучше, чем я могу надеяться его когда-либо выучить. Встал вопрос о цене. Я сказал – десять тысяч. Я думал, он вызовет охрану, после чего меня выведут и тут же расстреляют. А он и бровью не повел. Лишь небрежно махнул своей каштановой ручкой и ответил: «Как скажете». Я должен прийти завтра и обсудить с ним детали будущей картины.
Кио горестно повесил голову. Вид у него был удрученный, а на лице ясно читалось самоуничижение.
– Да, Кэрри, сплоховал я, – печально сказал он. – Куда уж мне вести дела с таким человеком. Какие уж там махинации! Торговать апельсинами с ручной тележки – вот самое большее, на что я способен. Когда я сказал тебе: «Десять тысяч», клянусь, я думал, что оценил финансовые возможности этого коричневого президента с точностью до двух центов. А он бы, пожалуй, так же легко согласился и на пятнадцать. Пообещай мне, Кэрри, что ты устроишь старого Кио в какой-нибудь приятный и тихий сумасшедший дом, если он еще раз даст такого маху.
Замок Casa Morena хоть и представлял собою всего лишь одноэтажное здание, но компенсировал свою малую высоту иными многочисленными достоинствами – снаружи дом был облицован коричневым камнем, а его внутреннее убранство было роскошным, словно во дворце. Здание стояло на окраине Коралио, на небольшом холме. Вокруг замка был разбит великолепный сад с пышной тропической флорой. Сад был огорожен высокой каменной стеной. На следующий день за художником вновь прибыл президентский экипаж. Кио отправился погулять вдоль берега, где и он сам, и его «caja de grafico»[185] уже успели стать местными достопримечательностями. Когда он вернулся в гостиницу, Уайт уже сидел на балконе в шезлонге.
– Ну что? – спросил Кио. – Определились вы с Его Павлинством насчет того, какую картину он хочет?
Уайт встал и несколько раз прошелся по балкону взад-вперед. Затем он остановился и стал как-то странно смеяться. Его лицо пылало, а взгляд был сердитым и озадаченным.
– Послушай, Билли, – довольно резко начал он, – сначала, когда ты пришел ко мне и заговорил о «картине», я подумал, что тебе нужен плакат на тему «Лучшие овсяные хлопья» или «Патентованная мазь для волос» на фоне горной гряды или края земли. Знаешь, любое из этих произведений было бы Искусством в его наивысшем проявлении по сравнению с тем делом, куда ты меня втянул. Я не могу нарисовать эту картину, Билли. Отпусти меня, пожалуйста. Сейчас я попробую рассказать тебе, чего от меня хочет этот варвар. Он уже все распланировал и даже собственноручно сделал карандашный набросок. Старик совсем неплохо рисует. О великая богиня Искусства! Ты только послушай, какое уродство он попросил меня изобразить. В центре полотна, конечно, будет он сам. Его нужно изобразить в виде Юпитера[186] – он сидит на Олимпе[187], а ноги его попирают облака. Рядом с ним стоит Джордж Вашингтон, при полном параде, положив руку на плечо президента. Ангел с золотыми крыльями парит над ним и возлагает на президентскую голову лавровый венок, как бы коронуя его – ну вроде как майскую королеву[188]. На заднем плане нужно нарисовать пушки, солдат и еще несколько ангелов. Если кто возьмется нарисовать такую картину, то значит душа у него – собачья. Такой художник только и заслуживает, чтобы его пинком выкинули на свалку. Даже не станут привязывать ему к хвосту консервную банку, чтобы и звон не напоминал о нем.
Маленькие бусинки влаги выступили на глазах Билли Кио. Его синий карандашик как-то не предусмотрел такой случай. До этого момента все колесики его плана крутились с завидной гладкостью. Он усадил Уайта на место, притащил на балкон еще один стул, сел рядом с художником и с деланым спокойствием закурил свою трубку.
– Послушай, сынок, – с мрачной нежностью произнес он, – давай мы с тобой поговорим, как художник с художником. У тебя свое искусство, а у меня свое. У тебя высокие мысли, музы и все такое, и ты задираешь нос, если нужно намалевать рекламный плакат для пивоваренного завода в Орегоне или вывеску для харчевни «Старая мельница». Мое искусство – это бизнес. Это был мой план, и все сработало как дважды два. Да нарисуй ты этого presidente хоть в виде старого короля Коля[189], хоть в виде обнаженной Венеры, хоть в виде пейзажа, фрески или букета лилий – как он хочет, так и нарисуй. Но только нанеси краску на холст и получи деньги. Ты ведь не подведешь меня, Кэрри, правда? Ведь дело уже почти в шляпе! Подумай о десяти тысячах!
– Я просто не могу о них не думать, – сказал Уайт, – и это причиняет мне страшную боль. Конечно, очень заманчиво – выбросить в болото все идеалы, которые у меня были, нарисовать эту картину и покрыть себя несмываемым позором. Но эти пять тысяч означали бы для меня три года учебы за границей, а за это я бы, наверное, и душу продал.
– Ну, все не так уж плохо, – сказал Кио успокаивающим тоном. – Только бизнес – ничего личного. Наши краски – ваши деньги. Я совершенно не разделяю твою идею насчет того, что эта картина якобы станет для тебя таким уж позорным пятном с художественной точки зрения. Ты же знаешь – Джордж Вашингтон был вполне порядочным человеком, ну и об ангеле вряд ли кто скажет худое слово. Совсем неплохая компания. Ну а если ты нарисуешь Юпитеру саблю и пару эполет и поработаешь над окружающими облаками так, чтобы они стали похожи на участок с ежевикой, получится неплохая батальная сцена. Если бы мы еще не оговорили цену, то можно было бы накинуть еще тысячу за Вашингтона и за ангела не меньше пяти сотен.
– Ты не понимаешь, Билли, – сказал Уайт с неловким смешком. – У некоторых из нас – тех, кто пытается рисовать, – имеются высокие понятия об Искусстве. Я хотел бы когда-нибудь написать такую картину, чтобы люди стояли, смотрели и забывали, что перед ними лишь холст и краска. Чтобы эта картина входила им в сознание как музыкальная нота и взрывалась там как разрывная пуля. И чтобы потом они спрашивали: «Что еще написал этот художник?» А им бы отвечали – ничего. Никаких портретов, журнальных обложек, никаких вывесок и неоконченных набросков – только эта картина. Вот почему я три года питался одними жареными сардельками, но старался не изменять себе. Я уговорил себя написать этот портрет, чтобы получить возможность поехать учиться за границу. Но эта нелепая вопиющая карикатура! О господи! Разве ты не понимаешь, каково мне?
– Конечно, – сказал Кио так нежно, как будто он говорил с ребенком, и положил свой длинный указательный палец на колено Уайта. – Я все понимаю. Плохо, что вместо настоящего искусства тебя заставляют рисовать такое. Я знаю, ты хотел бы написать что-нибудь великое, например панораму битвы при Геттисберге[190]. Но позволь мне набросать грубой малярной кистью небольшой умозрительный эскиз, а ты над ним подумай. На данный момент мы потратили на осуществление нашего плана 385 долларов 50 центов. Мы вложили в это предприятие все, что смогли наскрести, буквально до последнего цента. У нас может еще хватит денег, чтобы кое-как вернуться в Нью-Йорк. Но мне нужна моя доля от этих десяти тысяч. Я хочу провернуть в Айдахо одно дельце, связанное с медью, и заработать на этом сто тысяч. Вот как обстоят дела с точки зрения бизнеса. Спустись со своих художественных высот, Кэрри, и давай как-нибудь добудем наш мешок с долларами.
– Билли, – с усилием сказал Уайт, – я попробую. Я не стану обещать, что нарисую эту картину, но я попробую. Я пойду на это, и я пройду через это испытание, если только смогу.
– Вот это деловой разговор, – сердечно сказал Кио. – Молодец! Теперь вот еще что: ты поторопись с этим портретом, заканчивай его как можно скорее. Если нужно, попроси, чтоб тебе в помощь дали пару мальчиков, которые будут разводить краски. Я тут немного походил по городу – вижу теперь, что к чему. Народу уже тошно от этого «Блистательного освободителя». Говорят, он слишком уж разбрасывается концессиями, а еще его обвиняют в том, что он собирается заключить с англичанами небольшую сделку – продать им всю страну с потрохами. Нужно закончить картину и получить за нее деньги до того, как начнется заварушка.
В обширном патио замка Casa Morena президент приказал натянуть огромный тент. Здесь Уайт и устроил свою временную мастерскую. Каждый день великий человек уделял два часа на то, чтобы позировать художнику.
Уайт работал на совесть. По мере того как работа продвигалась вперед, у него попеременно наступали период горьких насмешек, период бесконечного презрения к себе, период угрюмого уныния и период сардонического веселья. Кио, с терпением великого генерала, успокаивал, уговаривал, льстил, доказывал – в общем, делал все возможное для того, чтобы Уайт продолжал работу.
Через месяц Уайт сообщил, что картина готова – Юпитер, Вашингтон, ангелы, облака, пушки и все остальное. Когда он сказал об этом Кио, его лицо побледнело, и он крепко сжал губы. Еще Уайт рассказал, что картина президенту очень понравилась и он распорядился повесить ее в Национальной галерее государственных деятелей и героев. Его попросили завтра зайти в Casa Morena, чтобы получить гонорар. В назначенное время он уехал из гостиницы. Перед его отъездом Кио весело болтал об успехе их предприятия, но Уайт не разделял его веселья.
Через час он вошел в комнату, где ждал его Кио, швырнул свою шляпу на пол и уселся на стол.
– Билли, – произнес Уайт с усилием и каким-то неестественным голосом, – у меня есть немного денег, я вложил их в предприятие моего брата в Оклахоме. На проценты с этих денег я и жил, пока изучал живопись. Я заберу свою долю и отдам тебе все, что ты потерял на этом деле.
– Не вышло?! – возопил Кио, подпрыгивая от удивления. – Разве он не заплатил тебе за картину?
– Да, мне заплатили, – ответил Уайт. – Но картины больше нет, а значит, нет и оплаты. Если тебе интересно послушать – изволь – сейчас расскажу тебе эту поучительную историю во всех подробностях. Мы с президентом стояли и смотрели на картину. Его секретарь принес и вручил мне чек на десять тысяч долларов. Чек выписан на Нью-Йоркский банк, все в самом лучшем виде. Но в ту же секунду, когда я прикоснулся к этому чеку, я прямо взбесился. Я изорвал его на мелкие кусочки и швырнул их на пол. Какой-то рабочий неподалеку перекрашивал стены. Его ведро с краской пришлось мне очень кстати. Я схватил его малярную кисть и быстро закрасил синей краской весь этот кошмар стоимостью в десять тысяч долларов. Я поклонился и вышел. Президент не произнес ни слова и даже не пошевелился. Он был удивлен, вероятно, первый раз в своей жизни. Я понимаю, Билли, что это очень жестоко по отношению к тебе, но я ничего не мог с собой поделать.
В Коралио было неспокойно. На улице был слышен глухой неясный ропот, который все усиливался и в котором можно было иногда различить высокие крики. Крики складывались в слова: «Bajo el traidor – Muerte el traidor![191]»
– Ты только послушай! – горько воскликнул Уайт. – Уж до такой-то степени я понимаю по-испански. Они кричат: «Долой предателя!» Я уже слышал эти крики на улице. Это они обо мне. Я предал Искусство. И я не мог не уничтожить эту картину.
– Если бы они кричали: «Долой полного кретина», это намного лучше подошло бы к твоему случаю, – вспылил Кио. – Ты изорвал десять тысяч долларов как старую тряпку, только потому, что твою совесть, видите ли, беспокоит тот факт, каким именно образом ты размазал по холсту полфунта красок ценою в пять долларов. В следующий раз, когда я буду подбирать компаньона для участия в каком-нибудь деле, я заставлю его пойти со мной к нотариусу и поклясться, что он никогда в жизни даже не слышал слова «идеал».
Кио вышел из комнаты весь белый от злости. Уайт, хотя и видел, что его друг очень на него сердит, не слишком от этого расстроился. Презрение к нему со стороны Билли Кио казалось мелочью по сравнению с тем во сто крат большим презрением к самому себе, которого ему едва удалось избежать.
Волнения в Коралио все усиливались. Вспышка была неизбежна. Причиной народного недовольства стало присутствие в городе розовощекого здоровяка-англичанина, который, по слухам, представлял здесь правительство своей страны и якобы прибыл в Анчурию, чтобы заключить с президентом какую-то сделку, в результате которой весь народ попадет в лапы иностранной державы. Президента обвиняли в том, что он не только отдает иностранцам бесценные концессии, но еще и собирается взять у англичан деньги на покрытие государственного долга и передать им в качестве залога все таможни. Долготерпение народа кончилось, и люди решили показать, что они кое с чем не согласны.
Именно в эту ночь и в Коралио, и в других городах страны народная ярость вырвалась наружу. Шумные и опасные толпы людей бродили по улицам, то рассеиваясь, то собираясь вновь. Огромную бронзовую статую президента, которая стояла на центральной площади, сбросили с пьедестала и разбили на бесформенные куски. С общественных зданий посрывали все памятные доски, прославлявшие «Блистательного освободителя». Все его портреты, висевшие в государственных учреждениях, были изорваны в клочья. Толпы людей даже пыталась штурмовать Casa Morena, но их разогнали войска, которые остались верны президенту. Всю ночь в городе царил страх.
Величие Лосады доказал тот факт, что к полудню следующего дня порядок был полностью восстановлен и вся власть по-прежнему находилась у него в руках. Он выпустил обращение к народу, в котором решительно отрицал факт проведения каких-либо переговоров с Англией о чем бы то ни было. Были выпущены специальные плакаты с заявлением сэра Стаффорда Воуна – того самого розовощекого англичанина, – и это же его заявление напечатали также во всех правительственных газетах. В своем заявлении сэр Воун сообщал, что его визит носит исключительно частный характер и не имеет никакого международного значения. Он просто путешествует, без всякого злого умысла. На самом деле (по его словам) с момента своего приезда он даже ни разу не говорил и не встречался с президентом.
Во время всех этих беспорядков Уайт готовился к отъезду домой. Пароход должен был прибыть через пару дней. Около полудня неугомонный Кио взял свой фотоаппарат и отправился немного прогуляться, надеясь таким образом скоротать медленно тянувшиеся часы. В городе было сейчас так спокойно, как будто мир никогда и не покидал своего излюбленного места на красных черепичных крышах.
Около шести часов вечера Кио вбежал в гостиницу с каким-то решительно-особенным видом. Он немедленно уединился в маленькой темной комнатке, где обычно проявлял фотографические снимки.
Через полчаса сияющий Кио вышел к Уайту на балкон, при этом он улыбался хитро и зловеще.
– Как ты думаешь, что это такое? – спросил он, помахивая в воздухе фотокарточкой размером 4x5 дюйма[192].
– Снимок сеньориты, сидящей в саду, – аллитерация неумышленная, – лениво предположил Уайт.
– Неправильно, – сказал Кио, сверкая глазами. – Это удар гирькой по черепушке. Это бочка с динамитом. Это золотая жила. Это чек на предъявителя от твоего presidente на двадцать тысяч долларов – да, сэр, – на этот раз двадцать тысяч, и уж теперь никто не станет портить картину. Уж теперь так называемая этика искусства мне не помешает. Искусство! Ты просто смешон со своими вонючими тюбиками краски! Я сделал тебя как ребенка моим «кодаком». Ты только взгляни на это фото.
Уайт взял снимок в руки и присвистнул.
– Зевс-громовержец! – воскликнул он. – Как бы в городе опять не начались беспорядки, если ты кому-нибудь покажешь этот снимок. Как же ты добыл его, Билли?
– Ты видел ту высоченную стену вокруг сада за домом presidente? Я хотел забраться на нее, чтобы сделать снимок города с высоты птичьего полета. И тут я случайно заметил небольшую дыру в стене – там вывалился один камень, и штукатурка обсыпалась. Дай, думаю, взгляну одним глазком, как растет капуста в огороде у мистера президента. И самое первое, что я увидел, был сам сеньор президент, который сидел вместе с этим сэром англичанином за маленьким столиком в каких-нибудь двадцати футах[193] от меня. Весь стол у них был завален какими-то документами, а они сидят за ним как два пирата, которые делят добычу. Хорошо устроились – ничего не скажешь. Столик стоит в уютном и тихом уголке сада, в тени пальм и апельсиновых деревьев, а рядом со столиком прямо в траве – ведерко со льдом, а в нем несколько бутылок шампанского. Я понял, что настал мой час создать великий шедевр Искусства. Так что я установил мою машинку прямо напротив дыры в стене и нажал кнопку. Как раз в этот момент друзья-пираты скрепили свою сделку рукопожатием – и все это отлично видно на фото.
Кио надел пиджак и шляпу.
– Что же ты собираешься делать с этим снимком? – спросил Уайт.
– Что я собираюсь с ним делать? – сказал Кио обиженным тоном. – Ну, я, разумеется, собираюсь повязать его розовой ленточкой и повесить у себя на этажерке. Я тебе удивляюсь. Пока меня не будет, ты попытайся догадаться, нет ли такого владыки имбирного пирога, который мог бы пожелать приобрести это произведение искусства для своей частной коллекции – просто для того, чтобы никто больше не увидел этот шедевр.
Лучи заката уже начали окрашивать верхушки кокосовых пальм в красноватый цвет, когда Билли Кио вернулся из Casa Morena. Он ответил кивком на вопросительный взгляд художника и улегся на кровати, подложив руки под голову.
– Я видел его. Он заплатил как миленький. Сначала меня не хотели пускать к нему, но я сказал, что дело очень важное. Если бы этот presidente сейчас учился в школе, то его, безусловно, занесли бы в список самых способных учеников. Хорошо соображает и красиво работает. Мне всего-то и нужно было подержать фотографию в воздухе так, чтобы он мог хорошо ее рассмотреть, и назвать свою цену. Он лишь улыбнулся, подошел к сейфу и достал наличные. Лосада выложил на стол двадцать новехоньких банкнот казначейства Соединенных Штатов по тысяче долларов каждая с такой же легкостью, с какой я заплатил бы кому-нибудь доллар с четвертью. Прекрасные новые банкноты – они потрескивали с таким звуком, как будто ты жжешь траву и кусты на только что купленном земельном участке.
– Дай одну пощупать, – сказал Уайт с любопытством. – Я никогда не видел тысячедолларовую купюру.
Кио ответил не сразу.
– Кэрри, – сказал он несколько рассеянно, – ты ведь думаешь невесть что о своем искусстве?
– Даже больше, – честно признал Уайт, – чем было бы полезно и для моего собственного блага, и для финансовой пользы моих друзей.
– На днях я сказал тебе, что ты кретин, – спокойно продолжал Кио, – и даже сейчас я почти уверен, что ты вел себя как кретин. Но если уж ты кретин, то и я тоже. Мне доводилось участвовать кое в каких веселых делишках, Кэрри, но я всегда старался играть более-менее честно, как говорится, мои мозги против ваших. Но когда дело доходит до того, что… Ну, когда ты загнал его в угол, да он еще и в наручниках, и не может ничего сделать… То это меня не впечатляет, не могу я назвать это игрой достойной мужчины. Для этой игры даже придумали название: «загнать в бутылку»… Ну как бы тебе объяснить… Что-то такое чувствуешь… Ну, вроде как у тебя с твоим проклятым искусством… Как бы… Ну, в общем, я разорвал эту фотографию, положил кусочки на его пачку денег и подвинул все это ему назад через стол. «Извините, мистер Лосада, – говорю ему, – но, кажется, я ошибся в цене. Возьмите вашу фотографию даром». А теперь, Кэрри, доставай-ка карандаш, и мы произведем некоторые подсчеты. Хотелось бы все же выкроить что-нибудь из остатков нашего капитала, чтобы тебе хватило на жареные сардельки, когда ты вернешься в свою берлогу в Нью-Йорке.
Глава XV
Дикки
На берегах испанского материка развитие сюжета редко бывает динамичным. События происходят в тех краях лишь периодически. А во время сиесты там, кажется, даже Время вешает свой серп на ветвь апельсинового дерева, дабы спокойно отдохнуть и выкурить сигарету.
После неудавшегося бунта против президента Лосады анчурийцы успокоились и снова тихо мирились с его злоупотреблениями. В Коралио старые политические враги ходили под ручку, на время отложив в сторону все свои разногласия.
Провал художественной экспедиции не смог, конечно, свалить Кио, который, как кошка, всегда приземлялся на лапы. Дорога у охотника за удачей известно какая – то в горку, то под горку, но Кио всегда шагал по этой дороге легко и весело. Его синий карандашик снова приступил к работе еще до того, как на горизонте рассеялся дым от парохода, увозившего Уайта. Он переговорил с Гедди, и в магазине Браннигана и К° ему предоставили кредит на любые товары. В тот же самый день, когда Уайт прибыл в Нью-Йорк, Кио с небольшим караваном из пяти вьючных мулов, нагруженных скобяными изделиями, ножами и другими товарами, вышел из города и направил свой путь в таинственные и суровые горы. Там на берегах бурных рек индейцы издавна моют золото, и когда магазин сам приходит к ним домой, торговля в Кордильерах идет оживленно и muy bueno[194].
В Коралио, казалось, что даже Время прекращает свой стремительный полет, складывает крылья, как какой-нибудь голубь, и лениво бредет по тихим городским тротуарам. Уехали все те, кто лучше всех умел развеять скуку в этом сонном царстве. Клэнси отправился на испанском барке в Колон[195], где намеревался пересечь перешеек[196], а затем на каком-нибудь каботажном судне добраться до Кальяо[197] – по слухам, сражения шли именно там. Гедди, чей спокойный и добродушный характер помогал когда-то вкушающим лотос скрашивать уныние, которое часто возникает от такой пищи, стал теперь хозяином дома и был совершенно счастлив со своей яркой орхидеей Паулой. Никогда уже он не вспоминал о той бутылке, запечатанной сургучной печатью с монограммой, загадка которой так и осталась неразгаданной, а содержавшееся в ней послание – непрочитанным. Впрочем, все это казалось теперь таким неважным… Гедди уже не испытывал никаких сожалений о том, что судьба бутылки была вверена им тогда на попечение моря.
Так что прав был Морж, самый проницательный и эклектичный[198] из всех животных, поместив сургуч в самом начале своей программы поучительных и занимательных тем.
Этвуд – гостеприимный хозяин прохладной веранды, простодушный парень незаурядной хитрости – уехал. Доктора Грегга нельзя было, разумеется, рассматривать в качестве человека, который может развеять скуку, потому что история о трепанации черепа все время тлела в нем, что делало его похожим на эдакий бородатый вулкан, извержение которого может случиться в любой момент. Мелодии нового консула звучали грустными морскими волнами и неистовой тропической зеленью, и вряд ли из его лютни можно было бы извлечь хотя бы один мотив наподобие сказок Шахерезады или легенд о рыцарях Круглого стола. Гудвин занимался большими проектами, а свободное от дел время проводил дома, со своей любимой женой. Некогда столь дружная компания иностранцев в Коралио совсем заскучала.
И тогда с небес на землю свалился Дикки Мэлони – и развеселил город.
Никто не знал, откуда взялся этот Мэлони и как он приехал в Коралио. Однажды он просто появился – и все. Он рассказывал, что прибыл на фруктовом пароходе «Гром», но если бы кто-нибудь вздумал проверить список пассажиров парохода «Гром» за указанное число, он не нашел бы там никакого Мэлони. Однако любопытство относительно способа его прибытия скоро улеглось, и Дикки занял свое место среди всякой другой странной рыбы, которую выбрасывает на берег Карибское море.
Это был живой, бесшабашный, неунывающий парень с красивыми серыми глазами, неотразимой улыбкой, довольно смуглым (или очень загорелым) лицом и копной самых огненно-рыжих волос, какие когда-либо видели в этой стране. Дикки говорил по-испански так же свободно, как и по-английски, а в его карманах всегда было в достатке серебряных монет, так что он вскоре стал желанным гостем везде, куда бы ему ни вздумалось зайти. Он питал чрезвычайно нежные чувства по отношению к vino bianco[199] и очень скоро прославился тем, что мог один выпить его больше, чем трое местных жителей совместными усилиями. Все звали его просто Дикки, и все при виде него как-то веселели – особенно туземцы, для которых его изумительные рыжие волосы, искренний веселый смех и непринужденная манера общения были предметом восхищения и зависти. Куда бы вы ни пошли в Коралио, можно было суверенностью предсказать, что скоро там появится и Дикки с кучей приятелей, которые любили его и за его добродушный характер и за белое вино, которым он с радостью всех угощал.
Много было пересудов и догадок относительно цели его пребывания в городе, пока однажды Дикки не заставил все эти разговоры умолкнуть, открыв маленький магазинчик, в котором стал продавать табак, dulces, поделки индейцев: вышитые куртки, замшевые zapatos и плетеные изделия из камыша. Но даже тогда он не изменил своих привычек – весь день и полночи он пил и играл в карты в компании с comandante, директором таможни, jefe politico[200] и другими веселыми гуляками из числа местных чиновников.
Однажды Дикки увидел Пасу, дочь мадам Ортис, когда она сидела во дворе гостиницы де лос Экстранхерос, и замер как вкопанный. Вероятно, впервые за все время его пребывания в Коралио, можно было увидеть, что Дикки Мэлони стоит без движения. А затем он сорвался с места и, как молодой олень, поскакал разыскивать Васкеса, своего приятеля из местной золотой молодежи, чтобы тот немедленно представил его этой прекрасной сеньорите.
Молодые люди называли Пасу «La Santita Naranjandita». «Naranjandita» – это испанское слово, обозначающее один оттенок, который не так просто описать на любом другом языке. Если мы скажем «маленькая святая, самого прекрасного нежно-оранжево-золотого цвета», то мы получим примерное описание дочери мадам Ортис.
Помимо прочих спиртных напитков мадам Ортис продавала ром. А ром, знаете, искупает все грехи остальных товаров. Изготовление рома – это, заметьте, монополия государства, а продавать товары, которые производит государство, это вполне уважаемое и даже почетное занятие. Более того, даже самый придирчивый формалист не смог бы найти в этом заведении никаких недостатков. Никто там не буянил и не дрался – посетители пили с таким тихим и скорбным видом, как будто над ними реяли тени предков Мадам, потому что у нее была такая древняя и величественная родословная, которая подавляла собою даже веселящее воздействие рома. Ибо разве не была она из рода Иглесиасов, которые прибыли сюда вместе с Писарро? И разве ее покойный муж не был comisionado de caminos у puentes[201] при канцелярии губернатора округа?
По вечерам Паса сидела у окна в комнате рядом с той, где пили посетители, и мечтательно перебирала струны своей гитары. А затем, по двое и по трое, начинали приходить молодые caballeros, которые с важностью усаживались на стульях у противоположной стены комнаты. Они приходили, чтобы вести осаду сердца «La Santita». Их способ ухаживания (скажем прямо, не особенно умный) заключался в том, что они надували щеки, бросали на Пасу гордые взгляды и выкуривали дюжину дюжин сигарет каждый. Даже нежно-оранжевые святые предпочитают, чтобы за ними ухаживали как-то по-другому.
Звуки ее гитары плавно скользили сквозь обширные ущелья пропитанной никотином тишины, а донна Паса в это время все спрашивала себя: неужели все те романы, в которых она читала о галантных и более… более смелых кавалерах – неужели все это выдумки? Через регулярные промежутки времени Мадам заглядывала в комнату, при этом взгляд ее как бы сам по себе вызывал у кавалеров жажду, и вот уже слышен хруст туго накрахмаленных белых брюк – это один из caballeros отправился к стойке бара.
Следовало ожидать, что на этой сцене рано или поздно появится и Дикки Мэлони. Оставалось уже не так много дверей в Коралио, куда он еще не успел сунуть свою рыжую голову.
Через невероятно короткий период времени после того, как Дикки впервые увидел ее, он уже сидел в этой комнате рядом с ее креслом-качалкой. Сидение у стены не входило в его программу ухаживаний. Его план покорения сердца Пасы заключался в том, чтобы предпринимать атаки с близкого расстояния. Взять крепость одним неотразимым страстным, красноречивым штурмом – такова была тактика Дикки.
Паса вела свой род от самых гордых испанских семей в Анчурии. Кроме того, у нее имелись еще и другие преимущества, совершенно необычные для любой анчурийской сеньориты. Два года она училась в Новом Орлеане, и после этого у нее появились определенные амбиции – она стала думать, что ей уготована судьба намного лучшая, чем та, что обычно выпадает девушкам ее страны. И все же она уступила первому попавшемуся рыжеволосому проходимцу с бойким языком и приятной улыбкой, который ухаживал за ней правильно.
Вскоре Дикки отправился с ней в маленькую церквушку, что стояла на углу Plaza de la Republica[202], и к длинной цепочке ее аристократических фамилий добавилось еще и «миссис Мэлони».
И с этого момента доля ее была не слишком завидной – целыми днями одиноко сидела она, как фарфоровая Психея, с терпеливыми, святыми глазами за чистеньким прилавком маленького магазинчика, пока Дикки пил и гулял со своими веселыми знакомыми.
Женщины, которые, как известно, добры по своей природе, увидели здесь удобную возможность провести вивисекцию и стали изящно издеваться над ней, жестоко попрекая привычками мужа. Она обратила на них свой прекрасный сияющий взгляд, полный печального презрения.
– Вы жирные коровы, – ответила она им своим ровным, кристально-чистым голосом, – что вы знаете о мужчинах! Ваши мужья – maromeros[203]. Они годятся только на то, чтобы скручивать себе сигаретки в тени деревьев, пока солнце не выгонит их оттуда. Они лежат в ваших гамаках, как трутни, а вы расчесываете им волосы и приносите им свежие фрукты. У моего мужчины не такая кровь. Пусть пьет свое вино. Когда он выпьет столько, что хватило бы утопить любого из ваших flaccitos[204], он придет домой, ко мне, и будет больше мужчина, чем тысяча ваших pobresitos. Мне он расчесывает волосы и заплетает косы. Для меня он поет. Он снимает с меня zapatos и целует мне ноги. Он обнимает меня так… О, вам никогда не понять! Вы как слепые – никогда не знали вы настоящего мужчину!
Иногда по ночам в магазинчике Дикки происходили какие-то таинственные вещи. Хотя все окна со стороны улицы были совершенно темными, в небольшой задней комнатке горел свет, а Дикки и несколько его приятелей допоздна сидели за столом и вели какие-то очень тайные negocios[205]. Наконец он тихо и аккуратно выводил их из дома, а сам отправлялся наверх – к своей маленькой святой. Большинство этих ночных гостей выглядели как какие-то заговорщики – темные костюмы, надвинутые на глаза шляпы. Конечно, эти темные дела через какое-то время заметили, и в городе пошли разные разговоры.
Дикки, казалось, не особенно интересовало общество иностранных резидентов Коралио. Гудвина он почему-то сторонился, а о том, как ловко Мэлони избежал истории доктора Грегга о трепанации черепа, до сих пор рассказывают в Коралио как о настоящем шедевре молниеносной дипломатии.
Приходило много писем, адресованных «мистеру Дикки Мэлони» или «сеньору Дикки Мэлони», и Паса очень этим гордилась. Тот факт, что ее мужу пишет столько людей, лишь подтверждал ее собственные мысли о том, что сияние его рыжей головы видно во всем мире. А содержанием этих писем она никогда не интересовалась. Любой бы мечтал иметь такую жену!
Единственная ошибка, которую Дикки совершил за все время своего пребывания в Коралио, заключалась в том, что он остался без денег в неудачный момент. Вообще для всех было загадкой, где он брал деньги, поскольку продажи в его магазинчике стремились к нулю. В любом случае, этот источник его подвел, причем в самое неподходящее время. Это случилось как раз в тот день, когда comandante, дон сеньор эль-Коронел-Энкарнасеон-Риос, взглянул на маленькую святую, как обычно, сидевшую за прилавком, и почувствовал, что сердце у него забилось часто-часто.
Comandante был человеком, искушенным во всех тонкостях галантного ухаживания, и поэтому он сначала лишь тонко намекнул на свои нежные чувства. Намек заключался в том, что он нарядился в свою парадную форму и стал с важным видом расхаживать взад-вперед перед окнами магазинчика. Паса бросила на него лишь один кроткий взгляд своих святых глаз и сразу же отметила неожиданное сходство – в своем парадном мундире comandante был необыкновенно похож на ее попугая Чичи. Это несколько рассмешило Пасу, и невинная улыбка промелькнула у нее на лице. Comandante увидел эту улыбку, которая вовсе не ему предназначалась. Убежденный в том, что произвел должное впечатление, он уверенно вошел в магазин и начал говорить комплименты. Паса была холодна; он гарцевал, как конь; она царственно вознегодовала; он был очарован ее отчаянным сопротивлением; она велела ему выйти из магазина; он попытался взять ее за руку, и… тут вошел Дикки, широко улыбаясь, полный белого вина и веселой злости.
Пять минут потратил он на то, чтобы как следует отделать comandante. Наказание проводилось тщательно и с научным подходом – так, чтобы потом ушибленные места болели как можно дольше. По окончании экзекуции он выкинул навязчивого ухажера прямо на мостовую. Comandante лишился чувств.
Босой полицейский, который наблюдал этот инцидент с противоположной стороны улицы, засвистел в свисток. Из находившейся неподалеку казармы прибежало четверо солдат. Когда они увидели, что нарушитель спокойствия – это Дикки, они остановились и тоже стали свистеть. Прибыло подкрепление в количестве еще восьми человек. Полагая, что теперь их силы почти сравнялись с силами противника, анчурийское воинство перешло в наступление.
Дикки переполнял воинственный дух, он наклонился, вытащил шпагу из ножен лежавшего без признаков жизни comandante, после чего атаковал своих противников. Четыре квартала он преследовал регулярную армию, подгоняя отстающих пинками и игриво покалывая шпагой их босые пятки.






