Короли и капуста (сборник) О. Генри
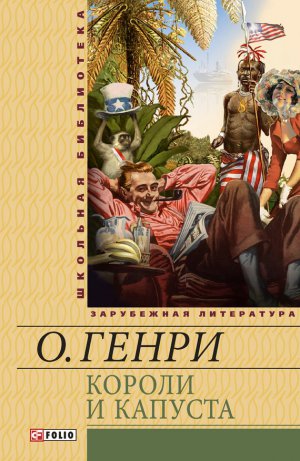
Художник, молодой человек приятной наружности, сидит в унынии среди разбросанных в беспорядке эскизов, подперев голову рукой. В центре комнаты на сосновом ящике стоит примус. Художник поднимается, затягивает свой ремень еще на одно отверстие и разжигает огонь. Он достает жестяную коробку, которая до этого стояла наполовину закрытая мольбертом, и вынимает оттуда единственную сардельку, переворачивает жестянку вверх дном, чтобы показать, что там больше ничего нет, и кладет сардельку на сковородку, а сковородку ставит на примус. Пламя медленно гаснет – очевидно, закончился керосин. Видно, что художник в полном отчаянии. Внезапно в приступе гнева он хватает сардельку и яростно швыряет ее прочь. В этот самый момент дверь открывается, и в комнату входит посетитель. Сарделька больно бьет его прямо по носу. От неожиданности он вскрикивает и делает на месте несколько шагов, похожих на танцевальные па. Вновь прибывший – энергичный, отлично одетый мужчина с очень загорелым, почти красным лицом, по всей видимости, ирландец. Затем мы видим, как он долго и безудержно смеется, ударом ноги опрокидывает ящик с примусом и неистово хлопает художника (который безуспешно пытается схватить и пожать его руку) по плечам и спине. Затем он показывает небольшую пантомиму, из которой достаточно сообразительный зритель может догадаться, что этот человек заработал огромную сумму денег, продавая индейцам в Кордильерах скобяные товары и бритвы в обмен на золотой песок. Он вытаскивает из кармана пачку денег размером с небольшую буханку хлеба и машет ею у себя над головой и одновременно свободной рукой показывает, как будто что-то пьет из стакана. Художник поспешно надевает шляпу, и эти двое вместе покидают комнату.
СЛОВА НА ПЕСКЕ
Место действия:
Пляж в городе Ницца
Женщина, красивая, еще молодая, изысканно одетая, довольная жизнью, спокойная, сидит в шезлонге возле самой воды и лениво выводит на песке буквы кончиком изящного шелкового зонтика. Лицо у нее смелое и даже дерзкое, а спокойствие ее позы обманчиво – она похожа на пантеру, которая сейчас почему-то замерла неподвижно, но в следующую секунду может сделать все что угодно – броситься вперед, подкрасться, прыгнуть. Она от скуки часто пишет на песке, и всегда одно и то же слово – «Изабелла». Ярдах в двух от нее сидит мужчина. Видно, что эти двое по-прежнему вместе, хотя дружба их, возможно, уже и не связывает. У мужчины смуглое гладко выбритое лицо, которое почти ничего не выражает. Почти. Они мало разговаривают друг с другом. Мужчина тоже царапает что-то на песке – тростью. Он пишет слово «Анчурия». А потом поднимает глаза и устремляет свой взгляд туда, где Средиземное море встречается с небом, и во взгляде его – смертельная тоска.
НАЕДИНЕ С МИРОМ
Место действия:
Неподалеку от дома некоего джентльмена в одной тропической стране
Старый индеец с лицом цвета красного дерева подрезает траву на могиле у края мангрового болота. Вот он встает и медленно идет к апельсиновой роще, на которую уже бросили свою тень быстротечные тропические сумерки. На краю рощи стоит мужчина, рослый и красивый, с добрым и располагающим лицом, а рядом с ним женщина спокойной и чистой красоты. Когда старый индеец подходит к ним, мужчина молча вкладывает ему в руку деньги. Могильный страж принимает их как должное, с невозмутимой гордостью, свойственной его нации, и идет своей дорогой. Мужчина и женщина поворачиваются и в лучах заходящего солнца идут по тропинке вверх, удаляясь от нас все дальше и дальше… Ведь, если разобраться, разве есть в этом мире что-нибудь лучше, чем маленький светлый круг на экране синематографа, где вместе идут двое?
Занавес
Рассказы
Из сборника «Четыре миллиона» (1906)
Дары волхвов
Один доллар восемьдесят семь центов. И это все. Из них шестьдесят центов монетками по одному. Деньги были по одной-две монетки выторгованы у бакалейщика, и зеленщика, и мясника – и щеки пылали в безмолвном негодовании от такой бережливости. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.
Ну что еще тут оставалось, кроме как упасть на дряхленькую кушетку и разрыдаться. Так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из всхлипов, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.
Пока хозяйка дома постепенно проходит эти стадии, осмотрим дом. Меблированная квартира за восемь долларов в неделю. В обстановке не то что бы вопиющая нищета – но, бесспорно, там слышался ее голос.
Внизу, в передней, находился почтовый ящик, в который не пролезет ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, от которой ни одно живое существо не добьется ни звука. К этому всему прилагалась потертая табличка, гласившая: «М-р Джеймс Диллингэм Юнг».
Длина надписи – Диллингэм – словно соответствовала былому благосостоянию владельца, получавшего тридцать долларов в неделю. Теперь, когда расход сократился до двадцати, надпись будто всерьез призадумалась, не сократиться ли и ей до скромного и непритязательного – Д. Но когда бы мистер Джеймс Диллингэм Юнг ни возвращался домой и ни поднимался в свою квартиру, миссис Джеймс Диллингэм Юнг, уже известная вам как Делла, неизменно восклицала: «Джим!» и крепко обнимала его. А это, согласитесь, замечательно.
Делла выплакалась и прошлась по щекам пуховкой. Она стояла у окна и уныло взирала на унылую серую кошку, идущую по серому унылому забору на не менее унылом заднем дворе. Завтра Рождество, а у нее всего один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму. Она как могла выгадывала каждый цент на протяжении многих месяцев – и вот весь результат. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались большими, чем она рассчитывала. Так всегда оказывается. И только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму. Ее Джиму! А сколько счастливых часов провела она, выдумывая что-нибудь чудесное ему в подарок. Что-нибудь чудесное, и редкое, и эффектное – что-нибудь, хоть немного достойное великой чести принадлежать Джиму.
В простенке между окнами стояло трюмо. Вероятно, вам доводилось видеть трюмо в восьмидолларовых квартирках. Только очень худой и проворный человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его створках, составить довольно определенное представление о своей внешности. Делла, будучи хрупкой, овладела этим искусством.
Внезапно она отпрянула от окна и подскочила к зеркалу. Ее глаза лихорадочно блестели, но лицо вмиг побледнело. Резким движением она распустила волосы.
Надо сказать, в семье Джеймс Диллингэм Юнг было два сокровища, которыми оба супруга чрезвычайно дорожили. Одним из них были золотые часы Джима, принадлежавшие еще его деду, а потом отцу. Вторым были волосы Деллы. Живи царица Савская в доме напротив, Делла специально сушила бы волосы у окна, чтобы затмить все драгоценности ее величества. Служи царь Соломон швейцаром и храни он все свои сокровища в подвале этого дома, Джим доставал бы свои часы всякий раз, проходя мимо, просто чтобы увидеть, как тот рвет свою бороду от зависти.
Итак, прекрасные распущенные волосы Деллы заструились и засверкали каштановым каскадом. Они спускались ниже ее колен и почти укутывали Деллу, словно плащ. Но тут же, нервно и порывисто, она принялась подбирать волосы. На секунду застыла, будто колеблясь, и несколько слезинок упало на потертый красный ковер.
Старый коричневый плащ на плечи; старая коричневая шляпка на голову. Шурша юбками и поблескивая невысохшими еще слезами в глазах, она устремилась вниз по лестнице, на улицу.
Табличка, у которой она остановилась, гласила: «Madame Sophronie. Различные изделия из волос». Делла стремглав взлетела на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух. Ее встретила Мадам, тучная, неестественно набеленная чопорная женщина.
– Купите мои волосы? – выпалила Делла.
– Я покупаю волосы, – отвечала Мадам. – Снимайте шляпу, посмотрим на ваши волосы.
Каштановый каскад заструился по плечам.
– Двадцать долларов, – констатировала Мадам, привычно взвешивая в руке густую массу.
– Давайте мне их скорее сюда! – сказала Делла.
Следующие два часа пролетели для Деллы на розовых крыльях. И это не просто метафора. Она прочесывала магазины в поисках подарка для Джима.
Наконец она его нашла. Бесспорно, это было предназначено для Джима и никого иного. Ничего подобного не находилось ни в одном магазине, а уж она-то перевернула их все вверх дном. Это была платиновая цепочка для часов, простая и элегантная, ценная своей простотой, а не нарочитым блеском – как и все истинно ценные вещи. Она была достойна часов Джима. Едва Делла увидела ее, как поняла, что эта вещь должна принадлежать Джиму. Они были схожи. Скромное достоинство – вот что отличало обоих. Двадцать один доллар стоила Делле эта цепочка, и она спешила домой с восьмидесятью семью центами в кармане. С такой цепочкой на часах Джим сможет запросто поинтересоваться временем в любом обществе. Ведь, имея часы, он порой поглядывал на них тайком из-за потертого кожаного ремешка, заменявшего ему цепочку.
Однако по возвращении домой взбудораженность Деллы сменилась некоторой осмотрительностью и задумчивостью. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась поправлять урон, нанесенный порывом щедрости вкупе с любовью. Что всегда тяжелейший труд, друзья, – колоссальный труд.
Через сорок минут ее голова покрылась крохотными мелкими кудряшками, которые придали ей вид нерадивого школьника. Она долго и придирчиво осматривала свое отражение.
– Что ж, если Джим не убьет меня сразу, – сказала она себе, – а рассмотрит меня хотя бы секунду, то признает, что я похожа на хористку с Кони-Айленд. Но что, что я могла сделать, если у меня был только один доллар и восемьдесят семь центов?
В семь вечера кофе был сварен, а сковорода на плите ожидала приготовления отбивных.
Джим никогда не опаздывал. Делла зажала цепочку в руке и примостилась на краю стола, прямо возле входной двери. Вскоре она услышала его шаги по лестнице на первом этаже и резко побледнела. У Деллы была привычка тихонько молиться о повседневных пустяках, и теперь она шептала: «Боже, пожалуйста, пусть я ему не разонравлюсь!»
Дверь открылась, вошел Джим и закрыл ее за собой. Он выглядел измученным и очень серьезным. Бедняга, ему всего двадцать два – а он уже обременен семьей. Ему давно нужно новое пальто, и перчаток у него нет…
Джим застыл у двери, словно сеттер, учуявший перепела. Его взгляд замер на Делле, в глазах застыло непонятное ей выражение, и это ее пугало. В них не было ни злости, ни ошеломления, ни осуждения, ни страха, ни одного из тех чувств, что она ожидала. Он просто уставился на нее со странным выражением на лице.
Делла отпрянула от стола и кинулась к нему.
– Джим, милый, – воскликнула она, – не смотри на меня так! Да, я обрезала волосы, и продала, потому что я не пережила бы, если бы у меня не было для тебя рождественского подарка! Они опять отрастут, это ничего, правда же? Я не могла по-другому У меня ужасно быстро растут волосы. Ну же, Джим, поздравь меня с Рождеством, и будем счастливы. Ты себе не представляешь, какой чудесный, восхитительный подарок я тебе приготовила!
– Ты обрезала волосы? – спросил Джим напряженно, будто ему стоило колоссальных умственных усилий осознать это факт.
– Обрезала и продала, – сказала Делла. – Но я ведь по-прежнему нравлюсь тебе, правда? Ведь и без своих кос я остаюсь собой, правда же?
Джим растерянно оглядел комнату.
– Так, говоришь, твоих волос больше нет? – с каким-то тупым упрямством повторил он.
– Не ищи их, – сказала Делла. – Они проданы, говорю же тебе, – проданы, их больше нет. Сегодня Сочельник, милый. Будь поласковей со мной, я сделала это ради тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, – внезапно она посерьезнела, – но невозможно измерить мою любовь к тебе. Я жарю отбивные, Джим?
Тут Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем деликатны и оставим их на несколько секунд, а пока займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего вопроса. Восемь долларов в неделю или миллион в год – есть ли разница? Математик или мудрец дадут неправильный ответ. Волхвы принесли ценные дары, но не было среди них одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены позднее.
Из кармана пальто Джим достал сверток и швырнул его на стол.
– Не пойми меня превратно, Делл, – сказал он. – Ни одна стрижка, завивка или прическа не заставят меня разлюбить мою девочку. Но ты разверни упаковку, и ты поймешь, отчего я оторопел в первый момент.
Белые проворные пальчики справились с бечевкой, разорвали бумагу. Последовал восторженный возглас радости; увы! – моментально чисто по-женски сменившийся слезами со вздохами, так что хозяину дома пришлось прибегнуть ко всем возможным успокаивающим средствам.
Ибо в упаковке были гребни – набор гребней, задний и два боковых – те самые, которыми Делла так долго и безнадежно любовалась в витрине одного из магазинов на Бродвее, – чудесные гребни, настоящие черепаховые, украшенные блестящими камушками – и как раз изумительно подходящие к ее каштановым волосам. Они стоили дорого, и Делла это знала, и ее сердце изнывало и рвалось от безнадежности обладания ими. И вот они ее, но нет уже тех прекрасных кос, которые должно было украсить их великолепие.
Но Делла прижала их у груди, подняла затуманенный слезами взор на Джима и вымученно улыбнулась:
– У меня ужасно быстро растут волосы, Джим!
Тут Делла подхватилась, как ошпаренный котенок, с возгласом:
– Ах, боже мой!
Ведь Джим еще не видел ее чудесного подарка. Она протянула ему цепочку на открытой ладони.
Бледный равнодушный металл, казалось, заискрился ее бурным воодушевлением.
– Разве не чудо, Джим? Я обшарила весь город в поисках этого. Теперь ты будешь смотреть на время по сто раз на дню. Дай мне свои часы. Я хочу взглянуть, как они смотрятся вместе.
Но вместо этого Джим опустился на кушетку, потянулся и сказал с улыбкой:
– Делл, давай отложим наши рождественские подарки и прибережем их до поры. Они слишком хороши для нас сейчас. Я продал часы, чтобы выручить деньги и купить тебе гребни. А сейчас, думаю, самое время жарить отбивные.
Знаете, волхвы – те самые, что принесли дары младенцу в яслях, были мудры, чрезвычайно мудры. От них пошел обычай преподносить подарки на Рождество. Сколь мудры они, столь мудры их подарки – быть может, даже с правом обмена в случае непригодности. А я тут поведал вам ничем не примечательную историю двух глупых детей из заурядной квартирки, которые так бессмысленно принесли друг другу самые сокровенные свои богатства. Но, надо сказать, из всех дарителей они и есть мудрейшие. И мудры истинно лишь дарители, подобные им. Везде и всегда. Они и есть волхвы.
В антракте
Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мерфи. Заглянув в календарь, можно было узнать величину площади, которую освещали в тот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. Парки пестрели молодыми зелеными листочками и закупщиками товаров из западных и южных штатов. Расцветали цветы и процветали курортные агенты; становились мягче воздух и судебные приговоры; повсюду играли шарманки, фонтаны и картежники.
Окна пансиона миссис Мерфи были открыты. Группка жильцов восседала на высоком крыльце на круглых, плоских матах, напоминающих блинчики.
Миссис Мак-Каски со второго этажа поджидала своего мужа у окна. Обед стыл на столе. Его жар передался миссис Мак-Каски.
В девять объявился мистер Мак-Каски. В руке он сжимал пальто, а в зубах – трубку; он извинился за беспокойство, балансируя между жильцами и тщательно выбирая место, куда поставить свою огромную лапищу.
Войдя в свою комнату, он был приятно удивлен, когда вместо обычных конфорок от печки и машинки для картофельного пюре в него полетели всего лишь слова.
Мак-Каски заключил, что майская луна смягчила сердце его супруги.
– Я слышала тебя, – донеслись до него суррогаты кухонной посуды. – Ты извинишься перед каждой букашкой на улице, что наступил ей на хвост своими ножищами, а у жены на шее будешь стоять и не почешешься, а я тебя с ужином жду, уж каким-никаким, купленным на последние деньги, ты же всю получку пропиваешь у Галлегера субботними вечерами, а нынче уже дважды приходили из газовой компании.
– Женщина, – рявкнул мистер Мак-Каски, сбрасывая пальто и шляпу на стул, – весь этот поднятый тобой шум портит мне аппетит. Пренебрегая вежливостью, ты разрушаешь сам фундамент отношений в обществе. Если дамы стоят на дороге, джентльмен обязательно должен спросить разрешения пройти между ними. Хватит выставлять свое свиное рыло в окно, лучше подавай на стол.
Миссис Мак-Каски тяжело поднялась и подошла к плите. Что-то такое было в ее манере поведения, что заставило мистера Мак-Каски насторожиться. Он уже усвоил верную примету: когда уголки ее губ, как стрелки барометра, были опущены вниз – готовься увертываться от летящей посуды и прочей кухонной утвари.
– Свиное рыло, значит? – возмутилась миссис Мак-Каски и запустила в своего благоверного полную кастрюлю репы с беконом.
Мистеру Мак-Каски были не в новинку такие дуэли. Он знал, что последует за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трилистником. Им он и дал сдачи, получив достойный отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, прицельно запущенный мужем миссис Мак-Каски, угодил ей прямиком в глаз. Когда она ответила метким метанием кофейника, полного горячей черной ароматной жидкости, меню было исчерпано, а значит, и битву пришлось прекратить.
Но Мак-Каски был не какой-нибудь завсегдатай грошовой забегаловки. Пускай нищая богема заканчивает свою трапезу чашкой кофе, если ее это устраивает. Пускай позволяет себе этот faux pas[228]. Он сделает кое-что похитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. Они не были предусмотрены в пансионе Мерфи, но под рукой находился их эквивалент. Он торжествующе запустил тяжелой умывальной чашкой в голову своей соперницы. Миссис Мак-Каски вовремя увернулась. Она схватилась за утюг, с помощью которого намеревалась завершить сию гастрономическую дуэль. Но истошный вопль внизу заставил обоих супругов приостановить военные действия.
Под окнами на углу дома стоял полисмен Клери, навострив ухо и прислушиваясь к крушению домашней утвари.
– Снова эти Джон Мак-Каски с супругой, – изрек полисмен. – Думаю, уж не подняться ли к ним, чтобы прекратить это безобразие. Хотя нет, не стану. Люди они семейные, не так много у них развлечений в жизни. Все равно это скоро кончится. Не занимать же им тарелки у соседей.
И как раз в этот миг на нижнем этаже раздался душераздирающий вопль, вопль ужаса или бескрайнего горя. «Кошка, наверное», – решил полисмен Клери и поспешил прочь.
Жильцы, сидящие на ступеньках, переполошились. Мистер Туми, страховой агент по призванию и аналитик по профессии, пошел в дом, чтобы установить причины вопля. Вернувшись, он сообщил страшную весть: маленький сын миссис Мерфи, Майк, потерялся. Подтверждая его слова, за Туми выскочила сама миссис Мерфи – двести фунтов слез и истерики, сотрясающие воздух и взывающие к небесам о потере тридцати фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно; но мистер Туми присел рядом с модисткой мисс Пурли, и их руки сочувственно соединились. Сестры Уолш, две старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, немедленно поинтересовались, искал ли кто-нибудь за стоячими часами.
Майор Григ, восседавший рядом со своей тучной супругой на верхней ступеньке, подскочил и торопливо застегнул пальто.
– Малыш пропал? – воскликнул он. – Я обыщу город. Жена никогда не позволяла ему выходить на улицу в темное время суток. Но тут она провозгласила своим баритоном:
– Ступай, Людовик! Каменное сердце у того, кто может молчаливо взирать на горе матери и не спешить ей на помощь!
– Дай мне центов тридцать, или, лучше, шестьдесят, дорогая, – сказал майор. – Заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Быть может, мне понадобится трамвай.
Старик Денни с четвертого этажа, сидящий на нижней ступеньке и пытавшийся среди всего этого переполоха читать газету, перевернул страницу, чтобы дочитать статью о забастовке плотников. Миссис Мерфи выла на луну: – О-о-о, мо-ой Ма-айк, бога ради, где мой сыночек, где мой мальчик?.
– Когда вы видели его в последний раз? – спросил старик Денни, не отрываясь от заметки союза строителей.
– Ох, – простонала миссис Мерфи, – кажется, вчера… а может, часа четыре назад! Не помню. Но он пропал, мой дорогой малыш. Только ныне утром играл на улице – или это в среду было? Столько дела, где уж мне запоминать даты. Но я весь дом вверх дном перевернула – от крыши до погреба – нету его. О, ради Господа Бога…
Безмолвный, угрюмый, громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих хулителей. Они говорят, что он холоден, как железо, говорят, что ни капли жалости нет в его сердце, они сравнивают его улицы с равнодушными лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жестким панцирем омара находится вкусное нежное мясо. Возможно, другое сравнение было бы здесь более уместным. Тем не менее, не стоит обижаться. Мы не стали бы сравнивать с омаром того, у кого нет хороших умелых клешней.
Никакое горе так не трогает неискушенное человеческое сердце, как исчезновение ребенка. Детские ножки так неопытны и уязвимы, а пути так круты и опасны.
Майор Григ поспешил за угол и через улицу прямиком в забегаловку Билли.
– Налей-ка мне стопочку, – бросил он официанту. – Случайно не видели такого кривоногого чумазого дьяволенка шести лет где-нибудь поблизости, а? Он потерялся.
На крыльце мистер Туми все еще сжимал руку мисс Пурди.
– Только представить себе… этот малыш, – причитала мисс Пурди, – потерявший мамочку… и, должно быть, уже задавленный копытами скачущих коней – о, разве это не ужасно?
– Да, не правда ли? – поддакивал мистер Туми, стискивая ее руку – Как думаете, мне пойти поискать его?
– Идите, – всхлипнула мисс Пурди, – это ваш долг. Но, боже мой, мистер Туми, вы так отважны, так безрассудны – подумать только, если в пылу благородства с вами что-нибудь случится, о, как же тогда…
Старик Денни читал о заключении арбитражной комиссии, водя пальцем по строчкам.
На втором этаже мистер и миссис Мак-Каски подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем Мак-Каски отковыривал тушеную репу со своего жилета, а его супруга вытирала глаз от соли и свинины. Они услышали шум на улице и высунулись из окна.
– Маленький Майк пропал, – сообщила миссис Мак-Каски, понизив голос, – чудненький, маленький озорник, этот ангелочек пропал!
– Мальчишка куда-то задевался? – переспросил мистер Мак-Каски, перевешиваясь через подоконник. – Право, экая беда. Ребенок – это дело иное, а вот пропала бы баба, я б и слова не сказал – без них спокойней.
Проглотив эту шпильку, миссис Мак-Каски схватила мужа за руку – Джон, – пропела она сентиментально, – пропал сыночек миссис Мерфи. Такой маленький мальчик заблудился в таком большом городе. Шесть годков ему было, Джон. Джон, нашему сынку было бы столько же, родись он шесть лет назад.
– Но он не родился, – возразил мистер Мак-Каски, придерживаясь фактов.
– Но если бы родился, подумай, Джон, как рвались бы наши сердца от невыразимого горя этим вечером, когда наш маленький Филан блуждает по городу, а может, и украден, и нигде его нет, и где он, неизвестно…
– Не говори глупостей, – оборвал ее мистер Мак-Каски. – Назвали бы его Пат, в честь моего старка в Кэнтриме.
– А вот и нет! – восклицала миссис Мак-Каски, но без гнева. – Мой брат стоил сотни ваших вшивых Мак-Каски. Мы бы назвали сына только в честь него.
Она облокотилась на подоконник и посмотрела вниз на суету и беготню внизу.
– Джон, – сказала миссис Мак-Каски нежно, – прости, я погорячилась.
– Ты права – пудинг был с пылу, с жару, – согласился ее супруг, – репа еще не остыла, а кофе так вообще только вскипел. Так что ты и вправду погорячилась.
Миссис Мак-Каски вложила свою руку в ладонь мужа и сжала его грубые пальцы.
– Послушай, как убивается бедняжка миссис Мерфи, – вздохнула она. – Подумать только, такому крошке потеряться в таком громадном городе. Если бы это был наш маленький Фил, Джон, мое сердце бы не выдержало…
Мак-Каски неловко отнял руку, но тут же приобнял свою жену за плечи.
– Глупо, конечно, – грубовато сказал он, – но я и сам убивался бы, если бы нашего… Пата украли… или что-то вроде того. Но у нас никогда не было детей. Временами я груб и резок с тобой, Джуди. Ты уж прости меня.
Так, сидя бок о бок, они следили за мелодрамой, которая разыгрывалась внизу.
Долго они так просидели.
Люди метушились по тротуару, толпясь, голося, сотрясая воздух и нагнетая атмосферу беспочвенными предположениями и сплетнями. Миссис Мерфи исчезала и вновь появлялась, протискиваясь в толпу, словно огромная гора, источающая слезы. Курьеры прибегали и исчезали.
Вдруг гул голосов и шум и переполох на улице перед пансионом стали громче.
– Что там такое, Джуди? – полюбопытствовал мистер Мак-Каски.
– Это голос миссис Мерфи, – отвечала миссис Мак-Каски, прислушавшись. – Говорит, только что нашла крошку Майка спящим под кроватью за рулоном старого линолеума, у себя в комнате.
Мистер Мак-Каски разразился хохотом.
– Вот тебе твой Филан, – сказал он ехидно, – черта с два Пат вытворил бы такую шутку. Если бы мальчишку, которого у нас нет, украли бы или он пропал бы неизвестно куда, черт с ним, зови его Филан и любуйся, как он валяется под кроватью, словно трусливый щенок.
Миссис Мак-Каски грузно поднялась с места и приблизилась к буфету. Уголки ее губ были опущены.
Полисмен Клери показался из-за угла, как только толпа рассеялась. Он удивленно прислушивался к звукам из окон Мак-Каски, откуда громче прежнего доносился звон крушащихся тарелок, кастрюль и прочей кухонной утвари. Полисмен вытащил часы.
– Провалиться мне на этом месте! – воскликнул он. – Джон Мак-Каски и его благоверная грызутся уже ровно час с четвертью. А женушка-то потяжелей его будет фунтов на сорок. Что ж, дай бог ему удачи.
И полисмен Клери скрылся за углом.
Старик Денни свернул газету и поспешил по лестнице к себе, как раз вовремя, потому что миссис Мерфи собралась закрывать пансион на ночь.
Из любви к искусству
Когда любишь Искусство, не тяжелы никакие жертвы.
Такова предпосылка. Наша история является следствием этой предпосылки и вместе с тем доказывает ее неправомерность. Это оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием – лишь немногим старше Великой Китайской стены.
Джо Ларрэби вырос среди вековых дубов и обширных равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он увековечил городскую водокачку и горожанина, поспешно проходящего мимо нее.
Этот плод творческих усилий был заключен в рамочку и занял почетное место на витрине аптеки рядом с феноменальным кукурузным початком, в котором зернышки составляли нечетное количество рядов. В двадцать лет он, повязав галстук посвободней и затянув пояс потуже, отбыл в Нью-Йорк.
Дэлиа Карузэр выросла среди деревенских южных сосен и извлекала из шести октав звуки настолько подающие надежды, что ее родители вытрясли последние деньги из копилки с целью отправки ее на север, для завершения музыкального образования. Они не могли предвидеть, как именно их дочь его завершит… Впрочем, именно об этом наша история.
Джо и Дэлия встретились на студии, где молодые люди, изучающие искусства, собирались потолковать о светотени, Вагнере, музыке, шедеврах Рембрандта, обоях, картинах, Вальдтойфеле, Шопене и Улонге.
Джо и Дэлиа влюбились друг в друга или полюбили друг друга – как вам будет угодно – и вскоре поженились, ибо, если любишь Искусство (см. выше), никакие жертвы не тяжелы.
Итак, мистер и миссис Ларрэби принялись хозяйничать в своей квартире. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся где-то в переулках, словно самое нижнее ля-диез фортепьянной клавиатуры. И они были счастливы, ибо они принадлежали друг другу, а им принадлежало Искусство. И вот мой совет: если вы молоды и богаты, продайте свое имение и раздайте бедным – в обмен на счастье жить в квартирке со своей Дэлией и своим Искусством.
Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под каждым словом в моем заявлении, что они – самые счастливые люди на земле. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен – и пускай комод, развалившись, превратился в бильярдный стол; пускай каменная доска заменяет трюмо, письменный стол – комнату для гостей, а умывальник – пианино! Пускай хоть все четыре стены вздумают надвинуться на вас – не беда! Лишь бы между ними хватило места для вас и вашей Дэлии. Но если в доме нет счастья, тогда пусть он будет просторен и широк – так, чтобы вы могли входить в него через Золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье – на мыс Горн, а выходить – через Лабрадор!
Джо обучался живописи у самого Маэстри – вам, без сомнения, известно его имя. Цены за уроки он заламывает высокие, обучает на уроках слегка – за что, вероятно, и снискал славу мастера контрастов. Дэлиа обучалась у Розенштока – а вы, конечно, знаете этого прославленного возмутителя спокойствия фортепьянных клавиш.
Супруги были безоблачно счастливы ровно столько, сколько у них были деньги. Так всегда получается… Но это не цинизм, поверьте. Джо и Дэлиа очень четко определяли свои цели. В ближайшее время Джо напишет такие полотна, что почтенные джентльмены с тощими бакенбардами и пухлыми кошельками будут лупить друг друга по голове за право купить его картины. Дэлиа же проникнется всеми тайнами Музыки, пресытится ими и возьмет за обыкновение, увидев пустые места в зале, лечить внезапную мигрень омарами в личных апартаментах и отказываться выходить на сцену.
Но, думается, лучше всего была сама их семейная жизнь в маленькой квартирке; возбужденные, увлеченные обсуждениями по возвращении с уроков; уютные обеды и легкие завтраки; обмен планами и амбициями – и каждый все больше лелеял амбиции другого, чем свои; взаимная поддержка и воодушевление; и – простите мой непритязательный вкус – оливки и бутерброды с сыром перед сном.
Но со временем гордо поднятое знамя Искусства поникло. Так иногда бывает даже без вины самого знаменоносца. Все из дома и ничего в дом, как говорят одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать уроки у мистера Маэстри и герра Розенштока. Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. Итак, Дэлиа объявила, что будет давать уроки музыки, чтобы удержаться на плаву.
Два или три дня она занималась поиском учеников. И вот однажды вечером она вернулась домой воодушевленной.
– Джо, дорогой! – провозгласила она. – Я получила урок. И боже, какие милый люди! Генерал… генерал Пинкни, его дочка – с Семьдесят первой улицы. Такой роскошный дом, Джо, – ты бы видел парадную дверь! Византийский стиль – так, кажется, ты это называешь. А интерьер дома! О, Джо, я в жизни не видела ничего подобного!
Мою ученицу зовут Клементина. Она мне тотчас же понравилась. Такая нежная – одевается всегда в белое, такие милые манеры, такая простота в обращении! Ей всего восемнадцать. Мы будем заниматься три раза в неделю, и, Джо, представь себе – пять долларов за урок! Это же чудо! Еще два-три ученика, и я смогу возобновить свои занятия с герром Розенштоком. Ну, не надо, Джо, дорогой, перестань хмуриться, и давай лучше ужинать.
– Это все хорошо, Дэли, – произнес Джо, атакуя банку консервированного горошка, вооружившись ножом и топориком, – но как же я? Думаешь, я допущу, чтобы ты моталась по урокам, пока я витаю в облаках искусства? Ну нет, клянусь останками Бенвенуто Челлини! Думаю, я тоже смогу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом хоть доллар-другой.
Дэлиа бросилась к нему на шею.
– Джо, милый, ну какой же ты глупый! Ты должен заниматься живописью. Я ведь не бросила музыку и не зарабатываю чем-то посторонним. Давая уроки, я и сама обучаюсь. Моя музыка остается при мне. А на 15 долларов в неделю мы заживем как миллионеры! И не вздумай бросать уроки у мистера Маэстри.
– Ладно, – сказал Джо, доставая голубую салатницу в форме раковины, – но это ужасно, что тебе приходится давать уроки. Это не Искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина, что взялась за это.
– Когда любишь искусство, не тяжелы никакие жертвы, – сказала Дэлиа.
– Маэстри похвалил тот этюд, небо, что я писал в парке, – сообщил Джо. – А Тинкл обещал вывесить два этюда в витрину. Может, и продадутся, если попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами.
– Конечно, продадутся, – нежно заверила его Дэлиа. – А пока будем рады генералу Пинкни и этим жареным отбивным.
Всю следующую неделю супруги рано садились завтракать. Джо загорелся идеей раннеутренних этюдов, которые он рисовал в Центральном парке, а Дэлиа готовила ему завтрак, паковала его с собой, собирала, хлопотала, целовала Джо и провожала его в семь часов.
Искусство – требовательная возлюбленная. Чаще всего Джо возвращался домой не раньше семи вечера.
В субботу Дэлиа, немного бледная и утомленная, но исполненная радостной гордости, торжественно выложила на столик (8 на 10 дюймов) комнатки (8 на 10 футов) три пятидолларовые бумажки.
– Порой Клементина просто изматывает меня, – сказала она несколько устало. – Боюсь, она не играет достаточно дома, и мне приходится повторять ей одно и то же из раза в раз. А ее неизменные белые одеяния стали нагонять тоску. Но генерал Пинкни – до чего чудесный старик! Как бы мне хотелось, чтобы вы познакомились, Джо! Иногда он заглядывает к нам с Клементиной во время урока – он ведь, ты знаешь, вдовец – и стоит, теребит свою белую козлиную бородку. – Ну, как поживают шестнадцатые и тридцать вторые – идут на лад? – он всегда так спрашивает.
– О, видел бы ты их панели в гостиной, Джо! А эти мягкие шерстяные портьеры! А Клементина что-то немного подкашливает. Я надеюсь, она крепче, чем кажется с виду. Знаешь, я вправду так привязалась к ней, она такая милая и так хорошо воспитана. А брат генерала Пинкни одно время был посланником в Боливии…
Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана десять долларов, потом два, а потом еще один – все самые настоящие долларовые бумажки – и выложил рядом с заработком своей жены.
– Продал ту акварель с обелиска одному типу из Пеории, – преподнес он ошеломляющее известие.
– Не может быть, чтоб из Пеории! – воскликнула Дэлиа.
– Да, представь себе. Видела бы ты его, Дэли. Толстяк в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкли и подумал сначала, что это ветряная мельница. Но он славный малый и купил все равно вместо мельницы обелиск, и заказал еще одну картину – маслом, этюд с видом Лэкуонской товарной станции – хочет забрать с собой. Ох уж эти мне уроки музыки! Ладно, ладно, знаю, что в них все равно есть искусство.
– Я так рада, что ты занимаешься своим делом, – сказала Дэлиа воодушевленно. – Тебя ждет успех, дорогой. Тридцать три доллара! У нас никогда не было столько денег сразу. У нас сегодня будут устрицы на ужин.
– И филе-миньон с шампиньонами, – добавил Джо. – А где вилка для оливок?
В следующую субботу Джо вернулся раньше Дэлии. Он выложил на стол восемнадцать долларов и спешно смыл с рук что-то черное – видимо, масляную краску.
Через полчаса появилась и Дэлиа, ее кисть была вся в бинтах и напоминала бесформенный узел.
– Что случилось? – встревожился Джо после обычных нежных приветствий.
Дэлиа рассмеялась, но как-то натянуто.
– Клементине пришла фантазия угостить меня гренками по-валлийски после занятия, – принялась она объяснять, – она вообще со странностями. В пять вечера – гренки по-валлийски. Генерал был дома. Ты бы видел, как он кинулся за сковородкой, Джо! Такое впечатление, будто у них нет прислуги в доме. Видимо, у Клементины таки что-то неладно со здоровьем – она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, пока поливала им гренки. Было так больно, Джо! Ужасно. А бедная девочка так расстроилась! Но генерал Пинкни! – о, Джо, бедняга чуть с ума не сошел. Тут же сам побежал в подвал – и послал кого-то – истопника, кажется, или еще кого – в аптеку, за мазью и бинтами. Теперь уже почти не больно.
– А это что такое? – спросил Джо, осторожно дотрагиваясь до многочисленных бинтов и перевязок.
– Это такая мягкая штука, – сказала Дэлиа, – на которую кладут мазь. О, Джо, неужели ты продал еще один этюд? – она наконец заметила деньги, лежащие на столе.
– Продал ли я этюд? – воскликнул Джо. – О, продал ли я этюд! Спроси об этом того типа из Пеории. Сегодня он забрал товарное депо, а еще собирается заказать мне еще один пейзаж и вид на Гудзон. А во сколько сегодня ты обожгла руку, Дэлиа?
– Что-то около пяти… – жалобно сказала Дэлиа. – Утюг… то есть сыр, сняли с плиты что-то около этого времени… о, ты бы видел генерала Пинкни, Джо, когда…
– Присядь на секунду, Дэли, – попросил Джо. Он присел на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи.
– Расскажи-ка, чем ты занималась эти две недели, Дэли? – спросил он. Минуту или две она храбро смотрела мужу в глаза, и в ее взгляде читалась любовь и упрямство, и бормотала что-то про генерала Пинкни; но потом ее голова опустилась, и вместе со слезами из ее глаз из уст полилась правда.
– Я не смогла найти уроков, – призналась она. – Но я не могла допустить, чтобы ты бросил свои занятия; и я пошла прачкой в ту большую прачечную, что на Тридцать четвертой улице. И, думаю, я поступила правильно, что выдумала Клементину и генерала Пинкни, не правда ли, Джо. И когда сегодня утром девушка в прачечной уронила горячий утюг мне на руку, я всю дорогу домой придумывала эту историю про гренки по-валлийски. Ты же не сердишься на меня, не правда ли, Джо? Не пойди я на работу, ты не продал бы свои этюды тому господину из Пеории.
– Он не из Пеории, – медленно произнес Джо.
– Да ну, неважно, откуда он. Ты такой молодец, Джо, и, Джо, скажи мне… нет, лучше поцелуй меня… Джо, скажи мне, как ты догадался, что я не даю уроков?
– Я и не догадывался до последнего момента, – сказал Джо. – И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной наверх лингин и мазь для какой-то девушки, которая обожгла руку утюгом. Я уже две недели топлю котел в этой прачечной.
– И, значит, ты не…
– Мой покупатель из Пеории, – перебил Джо, – и твой генерал Пинкни оба плоды одного и того же искусства – но это не назовешь ни живописью, ни музыкой.
И они оба рассмеялись, а Джо начал:
– Когда любишь искусство, никакие жертвы… Но Делиа остановила его, поднеся палец к губам.
– Нет, – сказала она, – просто: когда любишь…
Неоконченный рассказ
Мы теперь не стонем и не посыпаем голову пеплом при упоминании о геенне огненной. Ведь даже проповедники внушают нам, что Бог – это радий, эфир или еще какое-нибудь особое вещество, и худшее, что ждет нас за наши прегрешения, – это какая-то химическая реакция. В такую гипотезу приятно верить, но в нас теплится еще что-то от старого религиозного страха.
Есть только два предмета, в разговоре о которых вы можете дать волю своему воображению, не боясь быть опровергнутым. Вы можете рассуждать о снах и о том, что слышали от попугая. Как Морфея, так и попугая нельзя призвать к суду, и ваши слушатели не рискнут с вами спорить. Поэтому основой моего рассказа будет сновидение, при сем приношу свои извинения попугаям и сожалею, что у них такой ограниченный словарный запас.
Я видел сон, настолько далекий от скептицизма, что в нем фигурировала старинная почтенная и безвременно погибшая концепция Страшного суда.
Гавриил протрубил в свою трубу; и те из нас, кто не откликнулся на ее зов, были привлечены к ответу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади; но, кажется, что-то не так было с их имущественным цензом, и непохоже было, что нас собирались выдать им на поруки.
Ангел-полисмен подлетел ко мне и схватил за левое крыло. Совсем рядом стояла группа очень респектабельных духов, призванных в суд.
– Вы принадлежите к той шайке? – спросил полисмен.
– А кто они такие? – в свою очередь спросил я.
– Ну как же, – сказал он, – это те, кто…
Но все это не имеет отношения к делу и только занимает место, которое должен занимать рассказ.
Далей работала в универсальном магазине. Она торговала лентами, а быть может, и фаршированным перцем, или автомобилями, или еще какими-нибудь безделушками, которыми торгуют в универсамах. Из всей получки Далей полагалось шесть долларов наличными, остальное записывалось ей в кредит или же кому-то в дебет в главной книге, которую ведет Господь… о, ваше преподобие, вы говорите, Первичная Энергия? – что ж, в главной книге Первичной Энергии.
Первый год работы в магазине Далей получала пять долларов в неделю. Интересно было бы узнать, как она исхитрялась жить на такую сумму. Вам это не интересно? Отлично; вероятно, вас интересуют большие суммы. Что ж, шесть долларов – несомненно, больше, чем пять. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.
Однажды, в шесть часов вечера, прикалывая шляпку так, чтобы булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, она обратилась к своей сослуживице, Сади – той самой, что всегда старается поворачиваться к покупателям левым профилем:
– Сади, а Пигги пригласил меня сегодня на обед.
– Что, серьезно? – воскликнула Сади с восхищением. – Ну надо же, как тебе повезло! Пигги просто шикарный, и он всегда водит девушек в шикарные места. Вот Бланш он водил к Гофману, там такая шикарная музыка и пропасть шикарных людей. Ты шикарно проведешь время, Далей.
Далей поспешила домой. Ее глаза блестели, а на щеках расцветал нежный румянец, предвещающий расцвет жизни – настоящей жизни. Была пятница, до получки оставалось пятьдесят центов.
По улицам текли реки людей. Огни на Бродвее подмигивали, привлекая к себе ночных бабочек, которые прилетали сюда за сотни миль из темноты, чтобы обжечь себе крылья. Солидно одетые мужчины, с лицами, подобными тем, что умельцы-матросы вырезывают из вишневых косточек, оборачивались вслед Далей, когда она пробегала мимо, не удостаивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно-белые лепестки с тяжелым запахом.
Далей зашла в магазин, известный своими дешевыми товарами, и купила белый воротничок из машинных кружев на свои пятьдесят центов. Собственно, эти деньги были предназначены для другого – пятнадцать центов на ужин, десять на завтрак и десять на обед. Еще десятку Далей хотела доложить к своим скромным сбережениям; а пять она мечтала растранжирить на лакричные леденцы – засунешь такой за щеку, и кажется, что у тебя флюс, и тянутся они долго, как флюс. Это удовольствие было излишеством, почти роскошью – но что наша жизнь без удовольствий?
Далей жила в меблированной комнате. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не узнают, когда вы голодаете.
Далей поднялась в свою комнату – третий этаж, окна на запад, мрачный каменный дом. Она включила газ. Ученые утверждают, что самое твердое вещество – алмаз. Они ошибаются. Хозяйки знают состав, в сравнении с которым алмаз – сущая глина. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и пытаться расковырять это покрытие – вы скорей сдерете кожу на пальцах.
А состав окажется неповрежденным, хоть шпилькой его ковыряй – поэтому будем считать его самым стойким.
Итак, Далей зажгла газ. При его свете силой в четверть свечи осмотрим комнату.
Кушетка, комод, стол, умывальник, стул – в этом была повинна хозяйка. Остальное же принадлежало Далей. На комоде располагались ее сокровища – позолоченная фарфоровая вазочка, подаренная Сади, календарь с рекламой консервного завода, сонник, коробочка рисовой пудры и пучок сушеных вишен, перевязанных розовой ленточкой.






