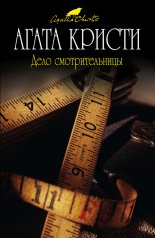Миграции Клех Игорь

По возвращении в Му и Рану в старом отеле постройки XIX века нас ждал еще «арктический» ужин — с вяленой грудкой куропатки и мясом полярного кабана, а также вручение грамот о пересечении нами Северного полярного круга и — о, благо! — гостиничные номера для курящих. Группа подобралась на удивление малопьющая, зато поголовно курящая. С тем и другим в Норвегии строго. Алкоголем торгует государство, мест, где он продается, немного. В ресторанах бокал сухого вина или бутылка пива обойдутся вам минимум в 7–8 евро. Столько же стоит пачка сигарет. Поэтому пьют простые норвежцы «по-фински»: если начинают, то пьют до упора, потом ничего не помнят, а напоминать здесь не принято. Существует даже норвежская поговорка на этот счет: среда — все равно что маленькая суббота (интересная мысль, не правда ли?). Курить разрешено только на открытом воздухе и дома, поэтому урны перед аэропортами и гостиницами полны окурками чуть не доверху. Поэтому и сам в поездке дымишь, как паровоз, — когда еще в следующий раз доведется? И вот такой подарок от гостиниц малых городов, хоть в постели кури — демократия!
О давней связи наших поморов с Нурландом свидетельствует лютеранская церковь в Му и Ране с неожиданной луковицей вместо шпиля. На церковном кладбище среди прочих братская могила советских военнопленных. В годы оккупации немцы заставляли их строить железную дорогу на Му и Рану. Уже после войны норвежцы протянули ее дальше в Заполярье. По этой одной из самых северных в мире железных дорог мы и отправились в Будё, в поезде, состоящем из одного длинного вагона. Дорога шла вдоль живописной горной речки, карабкалась по пологим склонам, поднимаясь к ледникам и перевалу на высоте 680 метров над уровнем моря. Машинист сбросил скорость со 100 км/час и, в знак почтения, притормозил у глобуса на треноге — значит, опять мы пересекли полярный круг, уже по суше. Кругом карликовые березы, можжевельник, мхи, лишайники, камни и валуны, припорошенные снегом горы. И ни малейших следов присутствия человека, не считая рельсов и нашего стекловидного вагона.
В Будё нас ждал микроавтобус с русским экскурсоводом Павлом. Родом он из Петербурга, учится в местном университете на социолога, сюда попал в тринадцатилетнем возрасте с родителями-инженерами, за девять лет жизни в Будё к полярной ночи, которая тянется здесь два с половиной месяца, привык давно, а вот русским считать себя так и не отвык. Надо сказать, что россиян сегодня в Норвегии не то чтобы пруд пруди, но это сотни людей и семей в любом городе с населением от 20 тысяч и выше. Чуть не каждый четвертый из регистрируемых браков заключается сегодня с русскими женами — есть над чем задуматься.
Нас приняли как желанных гостей в Культурном центре защиты морских орлов, не знаю уж за какие заслуги. Мне всегда нравилось военно-морское название «Sea Eagle», но я не подозревал, что это не метафора, а вид птиц. Здесь, в окрестностях островов Лофотен, самая большая в Скандинавии популяция этих хищников. Десять тысяч доброхотов из разных стран жертвуют сегодня деньги на охрану и изучение четырех сотен птиц — двухсот орлиных пар. Под шампанское с морепродуктами мы выслушали целый спич, переходящий в доклад, о жизни этих гордых пернатых. За панорамным окном разгорался над заливом и островами немыслимой красоты закат. Натовская авиабаза вносила свою лепту в общую картину — росчерками сверхзвуковых истребителей в небе и ревом их реактивных двигателей, вынуждавшим достойных жителей Будё временами держать театральную паузу. Когда настало время вопросов, я поинтересовался: не мешают ли друг другу жить авиация и морские орлы? Отнюдь, отвечала мне директор Центра, прямо на аэродроме НАТО уже несколько лет живет пара орлов. А вот действительную опасность для птиц представляют ветряки-электрогенераторы на побережье: только за минувший год от их лопастей погибло шестнадцать орлов. Представившаяся сцена донкихотской битвы морских орлов с ветряными мельницами потрясла мое воображение. И я немедленно выпил, как и подобает в таких случаях русскому человеку.
Гражданский аэропорт в Будё оказался «бесшумным» — никаких голосовых объявлений, вся информация на табло (вынудили население полюбить тишину вояки). Отсюда, на ночь глядя, мы совершили короткий перелет в Алту, где ждали нас только поздний ужин в отеле да крепкий сон до рассвета. У входа в отель указатели: до Москвы всего-то 1700 км, до Берлина и Парижа аж 2600. В номере было прохладно и неуютно, за окном белели заснеженные горы — но под окном обнаружился калорифер с регулятором, пол в ванной оказался с подогревом. Я скользнул под сугроб одеяла и забылся сном. Слишком много впечатлений за два дня.
Из Алты нам предстоял 240-километровый рывок на мыс Нордкап, считающийся крайней северной точкой европейского континента. Хотя, вообще-то, это нечестно. Крайней точкой является мыс Нордкин, чуть восточнее, а Нордкап находится на острове Магерёйа, соединенном с континентом 7-километровым тоннелем под дном пролива всего семь лет назад. Да и на этом острове севернее его выдается пологий мыс «Острие Ножа». Но, во-первых, так уж повелось с легкой руки английских мореходов, давших Нордкапу его название полтыщи лет назад. А во-вторых, Нордкап — впечатляющий мрачный утес, возвышающийся на 307 метров над суровыми просторами Ледовитого океана, за что и посещают его ежегодно 200 тысяч туристов. Норвежское название острова переводится как «Скудный», но это только с виду. Каждой весной саамы переправляют сюда на пароме кормиться пять тысяч оленей. Обратно окрепшие олени преодолевают пролив шириной два с половиной километра вплавь, саамы направляют и сопровождают рогатое стадо на лодках — то еще зрелище, должно быть! В здешних водах водится уйма рыбы, от трески до палтуса, в одном из заливов выращивают синих мидий, а прибрежная полоса кишит камчатскими крабами — «невозвращенцами» из более прохладных советских территориальных вод, где их затеяли разводить лет сорок назад.
На крабовое сафари мы и отправились из крошечного островного порта неподалеку от Нордкапа. Опять облачились в комбинезоны и понеслись на большой надувной лодке с мотором по волнующемуся морю к загодя поставленной ловушке с приманкой — потрошеной треской. Несколько предприимчивых местных жителей придумали таким образом подрабатывать на туристах. Удовольствие это обходится в 60 евро с человека — или 100 евро, если выловленных крабов тут же сварить в бочке на пустынном берегу. Крабы огромные, весом 3–5 кг, и сильные, своими крошечными клешнями палец могут откусить в два счета. Поэтому все наше участие в ловле свелось к наблюдению за извлечением из глубины сетки с уловом подводных чудищ, опасливому фотографированию с ними в руках и молниеносному поеданию их мяса вечером в ресторане портового отеля, под рюмку замечательной норвежской водки «Аквавит», со вкусом ржаного тминного хлеба.
Маленькая хитрость нашего «сафари» заключалась в том, что из дюжины крабов только три небольших оказались самцами, а огромных самок с залежами черной волосяной икры под панцирями норвежцы вернули на дно прямо в ловушке. Я разговорился с одним из них, Рюнаром Юнсеном. Ему немного за тридцать, имеет двух дочерей. На мысль организовать крабовое сафари его и его друзей натолкнули частые корпоративные вечеринки приезжих норвежцев. Для них всех это приработок, а основная работа — в порту, на дорожных работах или строительстве. Могут также организовать морскую рыбалку с моторной лодки за сотню-другую евро в день. Надо учесть, что годовой доход среднего норвежца составляет больше 20 тысяч евро.
Еще полвека назад Норвегия была одной из самых бедных стран Европы, а потом внезапно разбогатела на обнаруженной американцами в ее территориальных водах нефти. Теперь еще и огромные запасы газа нашли. Свалившееся благосостояние сделало Норвегию привлекательной для многих, но и способствовало развитию неких завихрений в норвежском характере. Не чужаку, конечно, об этом судить, но в скандинавском мире, как известно из истории, норвежцы долго играли роль аутсайдеров — примерно «белорусов» сравнительно со шведами-«украинцами» и датчанами-«русскими», да простится мне такая рискованная аналогия. Несколько столетий эти потомки викингов прозябали на задворках общего с ними государства, а затем унии. Двести лет назад они вышли из унии, переименовали Христианию в Осло, но память-то осталась и привычное чувство соперничества с соседями, приобретшее со временем мягкую форму дружеской пикировки. Тем более что такое счастье привалило. По статистическим данным, сегодня в Осло проживает 54 % норвежцев, и естественный прирост населения в стране, если не считать притока иммигрантов, плачевный. Так что богатство не столько отменяет, сколько видоизменяет проблемы. Хотя, конечно, быть богатыми и здоровыми предпочтительнее. Больно было смотреть на ржавый российский траулер в порту, дожидающийся от норвежских властей квоты на вылов рыбы в их водах.
На полпути между Нордкапом и Алтой нам повстречался лагерь саамов-оленеводов. Остановили автобус на полчаса, и все дружно схватились за фотоаппараты, а я еще и за видеокамеру. Редкая удача: 6–7 больших семей на квадроциклах, в автоприцепах, лачугах и чумах (которые саамы зовут «лавву») — и стадо в 6 тысяч голов. На въезде в лагерь свежуют отбракованных оленей, поднимают на дыбу ободранные обезглавленные туши. А за этим с любопытством наблюдают притихшие малыши-саамы, приехавшие с учительницами на экскурсию из городской школы. Зрелище, прямо скажу, не для слабонервных. Здесь же за загородкой беспокойно фыркает олений молодняк, отлученный от матерей. А в отдаленном загоне завораживающее зрелище: безостановочное и бессмысленное коловращение оленьего стада вокруг нескольких доминирующих самцов, чьи ветвистые рога возвышаются над оленьими спинами, подобно сухим деревьям посреди низкорослого кустарника. Ни одного человека рядом, ни одной собаки. Какой-то шаманский танец под ненастным осенним небом в преддверии кочевья. Кстати, с помощью нашего гида я прикинул, что такое стадо должно стоить несколько миллионов евро.
О катании на квадроциклах и каяках по фьорду, рыбной ловле на океанский спиннинг с корабля и прочих формах «активного отдыха», с неизменным переодеванием всякий раз в комбинезоны, рассказывать не стану из экономии места — неделя, проведенная в норвежском Заполярье, по сумме впечатлений стоит иного месяца.
Но вот о впечатлении от города Тромсё, который зовут «маленьким Парижем» Северной Норвегии, умолчать не могу. По мне, так масштабом и ландшафтом он напоминает скорее швейцарский Люцерн, а застройкой американские университетские городки Массачусетса или Пенсильвании еще и потому, что из 75 тысяч его жителей 10 тысяч — это студенты. Город старый и молодой, живой и очень красивый даже ночью. В порту соседствуют белоснежный круизный лайнер с трехмачтовым парусником, грузовое судно с океанской моторной яхтой. Мосты перекинуты на острова, от берега фьорда тянется подвесная дорога к ресторану на вершине горы, треугольный Арктический собор у ее подножия, зовущийся еще «собором Северного Ледовитого океана», напоминает ледяной торос. В этом городе Амундсен готовил и снаряжал свои арктические экспедиции. В доме, где он всегда останавливался, один из залов ресторана «Пеппермюлле» увешан фотографиями этих экспедиций, а сам ресторан славится своей французско-норвежской кухней. Как забыть острый вкус супа из камчатского краба и нежную консистенцию обжаренной оленины, дотушенной в скороварке до состояния отварного языка, — под белое эльзасское, красное австралийское и десертное изюмное вино?! Именины брюха и возвращение в цивилизацию. Отсюда теперь — только через Осло в Москву.
Город Тромсё дважды обязан русским, и многие здесь об этом помнят. Возник он на этом диком берегу благодаря нашим поморам, приплывавшим сюда с начала XVIII века торговать, не платя пошлин. К концу века терпение у норвежских властей лопнуло, и они построили здесь таможню, с нее-то и начался город. А во Вторую мировую войну город спасли от уничтожения советские войска — отступавшие немецкие части, когда успевали, сжигали северные норвежские селения и города — Алту, Будё — подчистую. Тромсё не успели. Наш проводник по местным злачным местам и горячий патриот Тромсё Джон-Иэн-Иван поблагодарил нас за это. Мыто при чем? Стало неловко и приятно одновременно. Это неожиданное проявление благодарности затрагивало какие-то серьезные чувства. Вспомнился почему-то футбольный фанат из пивбара на острове Скудном, приставший к фотографу Сергею Максимишину со словами:
— И что вы, русские, находите в нашей глуши? Я однажды в вашем Мурманске был — вот это город, да!
Тромсё, конечно, не такой большой город, как Мурманск, но намного живописней и богаче его, это уж точно. Говорю без зависти, как есть. Поездим-посмотрим, даст Бог, и за обустройство у себя примемся всерьез когда-то.
Может, секрет весь не в нефтяных и газовых месторождениях, а в том, что норвежцы дырки просверлили в своих монетах номиналом в 1 и 5 крон и, таким образом, экономят ресурсы? И для слепых это хорошо. Может, и нам просверлить?
IV. ГОРОДА
Что было и что будет?
Воздух городов и изобретение денег позволили человеку освободиться от двух тяжеленных ядер на ногах: выпасть из круговорота органической жизни и выйти из банды. Города во многих отношениях ужасны, а деньги — зло, однако человечество упорно уже не первую тысячу лет голосует ногами, выбирая города и свободу от захребетников или участия в шайках мародеров. Грубо говоря: от вассальной зависимости от природы и кормления со стола или из рук господина. Не всем и не всегда это удается, но небо свободы размером с овчинку стоит труда. Об этом писал Адам, который Смит, которым зачитывались Пушкин и его Евгений Онегин и книжку которого даже сегодня взрослым стоит взять в руки, а ее адаптированный перевод раздать детям. Село — родное, сено и навоз пахнут чудно, в лесу замечательно в любую погоду — но только если там грибы и ягоды, а не лесные разбойники с большой дороги, возникающие немедленно, как только Город отступает.
Европа полтыщи лет пролежала в Темных веках без заметных городов, дорог и мостов только потому, что под натиском варваров пал Рим. Подниматься в Средние века она стала оттого, что наши предки видели Рим или Константинополь, и Город как образ, как идея, стал отстраиваться в их душах. Тогда они принялись мостить дороги, восстанавливать мосты и возводить стены и башни, то есть структурировать и расстраивать окружающий их мирок до размеров большого, Божьего по замыслу, мира. Для начала им пришлось с большой неохотой отказаться от дерева и полюбить камень. Средневековые горожане начали со смешных изобретений — пуговицы, штанов, очков, — от них перешли к полезным — конской сбруе, пороху с компасом и печатному станку — и увенчали все сооружением механических часов. Обзаведясь действующей наглядной моделью устройства вселенной, они очень быстро научились таскать время из закромов у Бога. Рыночная площадь с часами на ратуше сделалась сердцем городов, а сами города фабриками цивилизации.
И вот что интересно: у каждой из таких «фабрик» имелся свой профиль — характер, норов и говор. Древние греки, знавшие толк в городах, считали, что первое условие для счастья — это родиться в правильном городе (Лукиан). И еще: что город — это не его стены и корабли, а люди, в нем живущие (Фукидид). Это и сегодня так. То есть у всякого настоящего города есть свое лицо, свои прошлое и будущее, что позволяет уподобить его живому существу — не просто вегетирующему организму, но персоне с собственными привычками и способностями, чувством юмора и придурью, привязанностью к ландшафту и климату и, непременно, памятью о поступках предков. Поэтому в Иене все еще шлифуют линзы, в Женеве собирают часы, а в Киеве продолжают трудиться «киевские художники», и по-прежнему не страдают от недостатка сумасшедших в Петербурге — где белые ночи и анемично цветет месяцами сирень. Именно по этой причине утопился полвека назад великий архитектор-утопист Ле Корбюзье, разочаровавшись в собственных попытках превратить город в стерильную, безотказно функционирующую «машину для жилья».
А за четыре года до того, с легкой руки его соотечественника и уроженца Харькова, географа Жана Готтмана, привился термин с онкологическим оттенком для описания того, что происходит в наше время с городами: мегаполис. Что стало означать не просто очень большой город, а лавинообразный процесс расползания агломерации — почкования, распространения и поглощения. Тогда это бросалось в глаза в Рурской области, в районе Большого Лондона, между Бостоном и Вашингтоном на востоке США и Эл-Эй и Фриско на западе, между Токио и Осакой. А к концу века таких «новообразований» с населением более 10 миллионов человек насчитывалось уже два десятка, а городов-«миллионеров» и свыше того несколько сотен. Все бы ничего, — не зря в них стекаются люди, значит, на прежнем месте им было хуже, — кабы не трущобы и все более полный отрыв от природы. Но главный фокус состоит в том, что уйти из них так же просто, как пришли, мы уже не сможем — иначе сбудутся самые кошмарные сновидения Голливуда. В мегаполисах падает рождаемость, растет агрессивность, но стекаются в них люди затем, чтобы что-то сделать — предпринять сообща. Это как бы испытательный полигон человечества: глаза боятся — руки делают. Здесь возможны варианты.
Заметки о немецком Берлине1995
Желание сравнивать — одно из самых сильных искушений. И частично оно оправдано. Есть динамика мировых культурных столиц — городов, где интересно, куда все стремятся, где смешивается все со всем и где зарождаются, высказываются и проходят испытания некие новые творческие идеи, — как правило, художественные, — распространяющиеся затем отсюда по всему миру. Таков был Париж — артистическая столица (и все это запомнили) и интеллектуальная, куда более «нелегальная» Вена. После Первой мировой войны самые радикальные идеи, в том числе художественные, стали исходить из Москвы и Берлина. Тоталитарные режимы — там и там — положили этому конец, принеся культуру своих стран в жертву имперской политике. Со Второй мировой войны и поныне, полстолетия, диктовал вкусы, стереотипы поведения и порождал все новые художественные направления и моды Нью-Йорк, в чем-то также очень имперский город. В результате перемен, произошедших в Европе, вновь воспрянули и оживились Москва и Берлин. В них происходит ныне специфическое культурное брожение, которое может иметь последствия. Так мерещилось… Сейчас при всем желании я не смог бы сравнить Берлин с Москвой. Возможно, это вопрос будущего. Уместно сравнивать с тем, что знаешь, и все тот же бес подмывает меня теперь сравнить Берлин… с Киевом.
В первую очередь — это масштаб: три с половиной миллиона жителей, шестиэтажная застройка центра, темп жизни, характер городской среды и метро, акватория и обилие парков (район Ванзее и Павлиньего острова порой неотличим от киевского Гидропарка), умеренность климата. Разве что придется исключить наличие рельефа, потому что в Берлине горбик высотой в десять — пятнадцать метров уже считается возвышенностью и располагает смотровой площадкой. Это два «недобольших» амбициозных города, разбежавшиеся быть совсем большими, но пока ими не ставшие. К тому ж они стали столицами НОВЫХ, в определенном смысле, государств (говоря точнее, призваны играть новую — хорошо забытую старую — роль в своих странах, травмированных по-разному Историей). В них нет того запредельного лихорадочного темпа, что свойствен Москве, — темпа мегаполиса, метрополии, имперского, по существу. Хотя кое-что в них уже начинает происходить. В них начинают стекаться ДЕНЬГИ. Однако размеренность жизни по-прежнему придает определенный окрас культуре, развивающейся в этих городах. Зоны сумасшествия наличествуют и в том, и в другом городе, но если в Киеве художественное и артистическое безумие южного происхождения широкой волной растекается по всему городу, то в упорядоченном Берлине его «сумасшествие» четко локализовано географически — на его востоке. Восточным берлинцам, после эйфории «братания» и недолговечной иллюзии немедленно их «цивилизовать», кто-то сумел внушить, что они все же не люди второго сорта, а артисты — художники, поэты, панки, наркоманы. И восточный Берлин — во всяком случае, его центральная часть, Пренцлауэрберг — сделался неожиданно самой большой арт-зоной Европы. Как когда-то Монмартр, как нью-йоркский Сохо. Это оказалась лежащая под самым боком самая дешевая, сердитая и запущенная зона экзотики, куда вскоре принялась перебираться в отремонтированные дома наиболее экстравагантная и состоятельная часть берлинской богемы из своего регламентированного пластикового западноберлинского рая. Ремонт растянется на многие десятилетия. Разбитые тротуары, выселенные кварталы, в Потсдаме под Берлином — целые улицы. Котлованы — как на Потсдамер-плац на бывшей границе двух Берлинов, где расположилась крупнейшая в Европе стройка. Территория куплена на корню «Даймлер-Бенцом». Вырыта яма до горизонта, по дну ее ходят поезда, и перейти на другой ее берег возможно, только нарушив все правила уличного движения, спустя полчаса-час, — это как повезет. А под остатками СТЕНЫ по соседству — заблокированная в годы «холодной войны» станция подземки, — облупленный бетонно-дощатый бункер, сочится вода, длиннющие коридоры, — лучше на этой станции не делать пересадки!
(Месту этому на карте Киева зеркально соответствует мистическая и магическая Поскотина, что по-над Подолом; выемке — горб, размаху строительства — загадочная и фатальная невозможность что-либо построить на этом месте, его утилизовать.)
Бродя по Пренцлауэрбергу (берлинцы и живут не в Берлине, а в Пренцлауэрберге, Шарлоттенбурге, Цилендорфе и т. д.), вы обязательно наткнетесь вблизи уцелевшей охраняемой синагоги на кафе «Пастернак», где русская только вывеска. На заселенную водонапорную башню в сквере напротив, где комнаты и квартиры треуглы, словно нарезанный пирог. На приземлившуюся посреди закрышегося пивзавода художественную галерею, словно инопланетный корабль, — все по западным стандартам, светится в сумерках. Выставка художницы, придумавшей меховой чайный прибор. На этот раз это была полная пивная кружка с беличьим хвостом, хотя художница давно уже умерла. И другие выставки — в каких-то гаражах, поставленных на капремонт домах, квартирах. Театральные труппы в подвалах. Ночные пивные и кафе с раздвижными стенками, выплескивающие на тротуар не уместившихся в них «пиворезов» с пенящимися кружками и притягивающие в ночи на огонек свирепо-добродушный, в меру интеллигентный сброд. Один писатель, приехавший в Берлин из русской провинции, в один из первых дней поинтересовался, можно ли здесь получить «по мусалам», и очень воодушевился и ожил, когда узнал, что нельзя. И действительно за три месяца ни разу не получил. Правда, другая писательница все же получила. Правда, от своих. За то, что назвала их чужими. Здесь действует некий запрет западнонемецкого происхождения, запрет на спонтанность (понятно почему), допускающий только «комнатные» ее формы и делающий уныло неинтересным немецкое ТВ. За исключением канала, передающего часами, скажем, океанский прибой на пустынном пляже. Это может быть также поездка на автомобиле из города в город — фильм для обездвиженных. Например, крайне редко можно увидеть на экране палящего из пулемета в никуда Лимонова, которому разрешил пострелять Караджич. Немцы показывали эту сцену так долго, пока у Лимонова не кончились патроны. Между тем западная гуманитарная культура все чаще готова переходить на птичий язык: «да и нет не говорить, черное и белое не называть…» Так еще один писатель, никогда прежде с этим не сталкивавшийся, именно в Западном Берлине впервые в своей жизни подвергся политической цензуре. Редактор потребовала от него убрать из текста или заменить выражение «перуанские карлики, поющие на улицах». Имелись в виду живописные, азартные и чуточку потешные хороводы музыкантов в пончо, забавляющие народ на центральных площадях всех крупных европейских городов (говорят, их видели уже и в Москве на Тверской). Никакие ссылки на сленг, авторское право и прочие доводы не действовали. Призрак расизма витал над текстом. Писателю объясняли, что обидятся не перуанцы — на то, что они маленькие, и в чем они не виноваты, — обидятся белые рослые немцы и немки за перуанцев, что значительно хуже. Пока писатель не взорвался:
— А чем провинились карлики?! — вскричал он. — Что ж, с ними и сравнить уже никого нельзя?? Я за «меньшинство» карликов!
И неожиданно… это подействовало. Фразу оставили.
Но это немцы западные. Восточные немцы, в отличие от них, не обременены «комплексом исторической вины», поскольку волею судеб оказались в стане победителей. Большей их части ныне кажется, что им недостает только близости к источникам капитала. А пока поговаривают, что здесь даже профессура моется в тазиках, используя затем воду для слива. Но, конечно, это не так — и про слив, и про капитал.
Западные (тепличные, отчасти) берлинцы сами, строго говоря, не являются вполне западными немцами. Их как бы держали для представительства, и значительную часть средств они получали благодаря федеральным вливаниям. Два разделенных стеной фасада, два фронтона с подпорками — вот что в значительной степени представлял из себя Берлин всю вторую половину века. И что поражает на самом деле — это проникающая сила режима, идущая поверх и сквозь народы. Открытие это примитивно, но оно ошеломляет. И у гэдээровских немцев, чехословаков и, скажем, украинцев гораздо больше между собою общего (не считая некотороых различий в уровне телесной и социальной гигиены), чем у каждого из них с немцем западным, то есть капиталистическим. Или, говоря другими словами… социалистическим, только без присущей имперскому миру «уравниловки». Отличие это не в формах жизни даже, а глубже — в жизненной ориентации. Говоря грубо — в возрасте. В конце концов, детство подавляющего числа людей протекает в таких условиях, которые идеологически могут быть представлены как… коммунизм. И, вероятно, в этом его глубокая «правда» и секрет его привлекательности. Так же как совсем не секрет, что характер работы госслужб, бюрократический стиль что западного, что восточного мира по существу мало чем отличаются друг от друга. И чиновник в Германии оказывается тем, что не так давно звалось у нас номенклатурой, — его можно перевести на другую должность, но нельзя уволить. Так же как плата за восьмикомнатную квартиру в Берлине зачастую значительно ниже, чем за трехкомнатную, — просто потому, что домовладелец имеет право повышать квартплату на шесть процентов в год, а если ты вздумаешь переехать в квартиру поменьше, то столкнешься с ценами, выросшими за десять лет в пять-шесть раз. Так и живет одинокий человек в восьми комнатах… по которой ползают почему-то всю зиму божьи коровки.
Просто работают другие деньги, сами — результат труда. И западный мир легко представить себе чем-то вроде священного скарабея, катящего перед собой огромный навозный ком времени и денег. Исчезла только магия. Достоевский оказался временно посрамлен: Чудо и Авторитет исчезли, а Великий Инквизитор остается. Никогда, впрочем, не исчезают бесследно проблемы, беспокоившие из ряда вон выходящих художников и мыслителей.
Как бы там, однако, ни было, на сегодня самыми интересными — беспокойными — поэтами, художниками, фотографами, людьми театра и пр. оказались в Германии, по общему мнению, восточные берлинцы. Можно было бы рискнуть распространить это утверждение на весь восточный блок, но подобное не входит в наши задачи.
Немец щедр, когда у него есть деньги. Безделье и бездельников не одобряет. К музыке чувствителен всегда. Музыка, соединенная с трудом, работой, повергает его в род экстатического транса. На подступах к Кудамму я видел как-то церебрального паралитика в коляске, почти ребенка. Каким-то непостижимым образом он умудрялся азартно крутить свою поставленную рядом шарманку, также на колесиках. Улица была безлюдной. Он трудился. На лбу его выступила испарина. Видно было, что эта работа доставляет ему удовольствие.
Я видел также, как туманились глаза немцев и неотмирная улыбка блуждала на их лицах, когда в вагоне надземки, конкурируя с продавцом газет, какая-то группка русских, по виду советских инженеров, сбившись в кружок, с чувством исполнила «смертию смерть поправый», разложив песнопение на несколько голосов. Затем один из них прошелся по вагону с пластмассовым стаканчиком, вероятно зарабатывая таким образом на пиво для всех. Притихший было продавец газет вновь заголосил.
Вообще, следует признаться, что встречи с соотечественниками за рубежом трудно отнести к разряду приятных. Как правило, заслышав родную речь, они делаются настороженными, недоброжелательными, — проходи скорее, — это в том случае, если тут же не прикидывают, как, не сходя с места, тебя использовать.
Славянская, не только русская, речь звучит повсюду либо приглушенно, либо нарочито. Музыканты в метро и подземных переходах остались одни русские — ни поляков, ни румынов больше нет. Работают по часам, зачастую со сменщиком. И все, включая и самых «непримиримых» художников, озабочены исключительно выживанием. Русский Берлин представляет из себя, к сожалению, интеллектуальную пустыню. Немцы относятся к нему большей частью достаточно ровно — скептически. Еще кто-то, сильно нас перебоявшись, теперь желает, чтобы его забавляли. Что исправно и делается — на то и существует «выездной вариант» русской культуры. Хотя многие немцы испытывают искреннюю симпатию и интерес к русским, а тем, что повоевали, кажется даже, что они любят Смоленск или Витебск (то есть места сражений молодости), — и помогают сейчас, скажем, тем же белорусским врачам попасть на работу в Африку, приглашают с чтениями молодых поэтов, устраивают квартирные выставки. Есть целые корпорации на общественных началах, избравшие своей целью заботу о каких-то совсем далеких странах, людях и — почему нет? — животных. Сравнительно многие, и не только восточные, немцы знают вполне прилично русский язык, то есть это не редкость.
Никто не знает, сколько проживает в Берлине русских. Полиция говорит, что по документам — двенадцать тысяч. Хотя число их, как минимум, на порядок больше. По устойчивым слухам, русская мафия контролирует до десяти процентов берлинской проституции. Это много, поскольку Берлин постепенно превращается в европейский центр этого бизнеса. И на улицах встречается теперь гораздо больше красивых женщин, чем еще год-два назад. По всему видать, Берлину быть столицей. В таких вопросах красавицы редко ошибаются.
При этом в немецком обществе царят достаточно пуританские нравы, возможность флирта сведена к минимуму, что несколько дезориентирует прибывающих русских — равно мужчин и женщин. Первые страдают и вынуждены обращаться к услугам проституток, да еще и платить за это. А вторых самих принимают зачастую за таковых. По той простой причине, что наши девчонки и матери семейств не в состоянии оценить скромное обаяние и естественность западной буржуазной ненакрашенной и не вызывающе одетой женщины и ищут образцы для подражания у дам полусвета и тех других, которым отведено место для прогулок каждой — метров десять тротуара на Курфюрстендамм, ежедневно, начиная с девяти вечера. Хотя следует сказать, что и без того современный русский тип женской красоты отличается повышенной степенью «блядовитости», как говаривал, правда по другому поводу, Вен. Ерофеев. Итак, мужчины оказываются разочарованы тем, что проститутки их не любят на самом деле, а только так прикидываются. А женщины возмущены тем, за кого их принимают турки и подвыпившие немцы. Даже институт бойфрендов и герлфрендов — «друзей» и «подруг» — в Германии оказывается системой отношений куда более прочных, надежных и, если угодно, патриархальных, нежели в браке советского образца.
Интересно также, что немецкая молодежь, исключая панков и количества серег в бровях, носу и прочих местах у всех остальных, — немецкая молодежь мало значения придает своему внешнему виду. Если вы в городе увидите по-настоящему стильно одетую женщину, естественно движущуюся и с хорошей фигурой, не торопитесь обгонять ее. Вас ждет горечь разочарования. В подавляющем большинстве случаев она окажется особой предпенсионного возраста с лицом, которого не пощадило время, — а то и просто крокодилом. Я догадался почему. В этом примерно возрасте немцы перестают выплачивать взятые в молодости кредиты, страховки и принимаются усиленно следить за собой, позволять себе то, в чем отказывали прежде. Грустное открытие.
Конечно, у немцев всего много. А «совок» голоден и хочет всего побольше, сразу и чтоб ничего не платить. Это такое ребячество. Спорт. Чтобы само. Это же такое естественное желание, когда результат так отчужден от труда, — так, кажется, учил Маркс.
У каждого немца есть свой «русский», а у каждого русского свой «немец».
Я своему сказал:
— Слушай, во многом дело еще и в климате. Так уж исторически впечаталось в психофизиологию русских, когда летом приходилось надрываться, а зимой вылеживаться на печи, — отсюда, может, этот рваный ритм труда.
— Да, — отвечал он мне, — конечно. Итальянцы тоже не хотят летом работать, — говорят, очень жарко.
Он знал, что говорит.
Темп работы западной цивилизации, — который некий остроумец сравнил, по ненужности, с четырехметровым хвостом фазана-аргуса, служащим ему один раз в году для привлечения самок для спаривания, — такой темп, конечно же, где-то существует. Однако представления о потогонной системе сильно преувеличены. Скорее можно говорить о методичности труда, — так, взрослый знает, что какую-то работу за него никто не сделает. И потому моются в городе окна и вытирается пыль не в конце недели-месяца-года и для кого-то, а регулярно и для себя, чтоб не было места для трудовых подвигов. Потому что в конце недели всем следует отдыхать — это свято. И строители торчат на стройплощадках статично, на первый взгляд, но каждые несколько минут каждый из них переносит какой-то пруток с места на место или нагибается и что-то к чему-то приваривает. Кстати, и канавы в Восточном Берлине роют, как и у нас: по многу раз в год разрывают, закапывают, затем опять разрывают и опять закапывают. Создают рабочие места.
Конечно, от такого труда, от постоянно действующего ровного напряжения в организме развиваются застойные явления, которые надо как-то гасить, рассеивать. Для начала — пивом в конце дня. В конце года этому служит празднование Рождества. Затем карнавал, знаменитый «розенмонтаг», когда все или почти все дозволено и можно оттянуться за целый год, если получится. Что касается Рождества, то это целая культура. Празднование его начинается за три недели до собственно «святой ночи». Человек, который не усердствует в украшении своего окна, балкона, грядки, выглядит, по меньшей мере, странно и сильно теряет в глазах окружающих. Без сомнения, это центральный праздник западного христианства. Послание его примерно таково: Спаситель рождается; все будет хорошо; человеку остается только хорошо работать. В отличие от восточного христианства, преклонившегося в сторону куда более страшного и драматического праздника, говорящего о мучениях и смерти, а также — о воскресении Бога, а с Ним и человека. Русские — большие любители невозможного. А Россия — это такая страна с механизмом ходиков, сами они не ходят — надо все время подтягивать гирьку.
Смешная деталь, о которой свидетельствуют сами немцы, — в рождественские дни в немецких семьях часто начинают вспыхивать ссоры по пустякам. Просто все ждут чуда, как ждали его в детстве, как ждут вместе с ними их дети, — а оно не приходит. Приходится ожидание отложить до следующего года. Взрослые — смешные люди, иногда.
Все взрослые — в большей или меньшей степени «немцы».
А «русские» (в том числе и мой) все ломают себе голову: как же так сделать, чтобы человек человеку был не «немец»?
Львовские аптеки
Пока, наконец, на углу улицы Стрийской мы не входили в тень аптеки. Большая банка с малиновым соком, выставленная в широком аптечном окне, символизировала холод бальзамов, которым можно было утолить здесь любое страдание.
Бруно Шульц, «Август»
Аптека обычно в нашем представлении связывается со стерильностью, минималистской эстетикой и тихой деловитостью. Она оживает во время эпидемий гриппа, а в промежутках между ними — особенно по утрам — в ней царит затишье, как в районной библиотеке.
Аптеки Львова более всего напоминают внешне букинистические лавки: старинные интерьеры и мебель, высокие застекленные шкафы, ящички картотек, нередко антресоли или металлические балконы по периметру. Как и почему советская власть, все унифицировавшая, не тронула их — загадка. Наверное, уж больно хороши были, и кто-то из высокопоставленных чиновников аптекоуправления или заслуженных фармацевтов вступился за них. Далеким от идеологии медикам позволялось быть просвещенными консерваторами — и интерьеры большинства львовских аптек, расположенных в центральной части города, уцелели. Они разбросаны были и вживлены в ткань его кварталов, подобно каютам давно пошедшего на дно «Титаника». В них задержался ностальгический аромат цивилизации, еще не знакомой с мировыми войнами, будто фармацевтам был известен и передавался из поколения в поколение секрет консервации прошедшего времени. Большинство этих интерьеров относится к концу XIX — началу XX века. До прихода Советов вместо порядковых номеров у них всех были личные имена — как у кораблей, ресторанов, кондитерских: «Под черным орлом» (1775), «Под золотой звездой» (1828), «Под золотым оленем» (середина XIX века), «Под Фемидой» (1901), «Под венгерской короной» (1902), «Под Святым Духом» (1913), «Под Святым Иоанном» (1915) и так далее — до сентября 1939 года.
Тебя посылали в аптеку на угол купить каких-нибудь порошков и горчичников или заказать микстуру. Аптека могла быть уже новой, похожей на десятки других таких же — с большими витринными стеклами и типовым прилавком. Ты становился в хвост очереди и, дойдя до застекленного кассового окошка, вдруг выпадал из времени и напрочь забывал — за чем же тебя послали сюда? Лязг и хруст шестеренок, мелодичный звон и подпружиненные щелчки, сопровождавшие обслуживание каждого покупателя, исходили от американского кассового аппарата «Огайо», помнившего героев вестернов и сиявшего матовым тисненым серебром, будто инкрустированная рукоятка дорогого револьвера с вращающимся барабаном, помогавшего делать такие предложения, от которых невозможно было отказаться.
Что тогда говорить о центральных аптеках с травлеными стеклами, с которых, будто туманные призраки, выступали безымянные персонажи античной мифологии, с воинством старинных аптечных пузырьков и фарфоровыми банками с вплавленными надписями прописной латынью на боку, с ореховым и красным деревом панелей, отливающим червонным золотом, потемневшими латунными ступками, резьбой, ковкой и литьем и прочим скарбом — сиречь сокровищами!
Царствовала и продолжает царствовать над всеми ними, конечно же, аптека-музей, выходящая углом на площадь Рынок ренессансной застройки — средневековый центр города со зданием ратуши посередине. Ее обожают туристы и экскурсоводы. Музеем она сделалась в советские 60-е годы, в 80-е расстроена — отремонтированы были (или восстановлены реставраторами по аналогии) подвалы, лестницы и чердаки этого здания, возведенного в 1775 году на месте дома, купленного армейским провизором Вильгельмом Ф. Наторпом, где и была им открыта в компании с Карлом Шерфом старейшая из сохранившихся в городе аптек (как раз напротив Черной каменицы, или палаццо Бандинелли, — первой в городе почты, открывшейся полутора веками ранее, — дверь в дверь). Только здесь вы можете купить пузырек с так называемым железным вином — дозу бодрящего темного сиропа с вяжущим вкусом и эффектом плацебо, — сувенир на память о пребывании в старинном городе.
Но, воля ваша, я больше люблю другие аптеки, не страдающие от наплыва туристов и ведущие более органичную жизнь. «Любить аптеки» звучит сюрреалистически, как «изысканный труп хлебнет молодого вина», — сказать что-то такое может себе позволить только чудовищно здоровый человек. Нет, я болею, как все, — и во Львове, и в Москве теперь. Но в аптеки ведь ходят не сами больные, а их родственники или близкие: болезнь в них, со всей ее физиологией, как бы отгорожена щадящей ширмой, а набор средств, респектабельность стоящих за аптеками науки и международной кооперации производителей, загадочные «каляки» на рецептах и ученый язык терпеливых служителей — все это вместе внушает твердую надежду, что нет такой болезни, от которой нельзя было бы вылечить, нет таких страданий, которые нельзя было бы облегчить (см. эпиграф литературного классика Галиции), — все обойдется, больные подымутся с постелей, выпишутся из больниц. За это и можно любить аптеки. И за хранимый ими здравый смысл: можно ли было в советской среде оставить этот немой укор заболеванию духа и дегенерации материи?!
В безумии может быть своя красота, но не может быть какой-то нескоропортящейся правды. И я безумно люблю самую красивую из львовских «аптечных» историй — все приводимые факты поддаются проверке, это не легенда. В ней зафиксирован причудливый сюжет изобретения первой в мире керосиновой лампы.
Северо-восточные предгорья Карпат сочились нефтью, однако описываемые события происходили задолго до изобретения двигателя внутреннего сгорания, дизельного мотора и реактивной авиации, когда не очень ясно было еще, какую пользу может принести человеку нефть. И вот один предприниматель из Борислава, желая все же выжать какую-то пользу и извлечь выгоду из этой маслянистой жидкости, доставил во Львов огромную бочку нефти. Он сгрузил ее в самом центре города у аптеки «Под золотой звездой» (ныне ул. Коперника, 1), договорившись с фармацевтами, что за щедрое вознаграждение они найдут способ перегнать нефть в алкоголь, — таков был его план фантастического обогащения. Йоган Зег и Игнацы Лукасевич, лучшие специалисты в своем деле, забросив приготовление лекарств, бились больше месяца с неаппетитной жижей — заказчик уже стал терять терпение, — но спирт у них так и не получился. Зато в процессе дистилляции, при нагревании нефти в промежутке температур от 150 до 315° Цельсия, они научились выделять из нее какую-то похожую на мочу горючую жидкость — это был керосин. С паршивой овцы хоть шерсти клок: не сумев перегнать нефть в водку, они соорудили осветительный прибор — стеклянный цилиндр из двух отделений с выведенным в верхнюю часть фитилем. Так был создан опытный образец первой в мире керосиновой лампы, служащей и поныне источником света кое-где в глухих местностях Карпат. Тогда же шел 1853 год, до изобретения Эдисоном электрической лампочки оставалось еще четверть века.
Дальше история темная: по некоторым сведениям, все участники предприятия перессорились друг с другом, заказчик увез опытный образец лампы в столицу, Вену, где поначалу с большим успехом демонстрировал ее, но, будучи по своей природе «выскочкой», быстро сгинул в ней без следа вместе с лампой, засосала столичная жизнь — наверное, запил. В результате Львов получил несколько несуразный и быстро вышедший из употребления дополнительный предмет для гордости, а аптекари — пионеры прогрессивных видов освещения — строчку в энциклопедиях (в которой поляки оставляют у себя только одну фамилию — Лукасевича).
Такой вот «аптечный» след во всемирной истории изобретений, неожиданно для автора придавший этому ностальгическому очерку о львовских аптеках жанровые черты басни или даже притчи.
Деурбанизация Львова
Панмонголизм! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно…
Владимир Соловьев
Пустыня — и город. Степь — и город. И самая красивая оппозиция: город — и конница. Так было в 1920 году, когда, простояв три месяца подо Львовом, Сталин с Буденным так и не отважились напустить Первую конную армию на разлегшийся на холмах город, опасаясь погубить ее в его тесных многоэтажных улочках.
Но есть невидимые сражения.
В последний приезд во Львов меня сразил подземный переход перед Управлением железной дороги. Он был завален слежавшимися сугробами, говорившими, что этой зимой пешеходы им не пользовались. Селу, в которое упорно стремится превратиться Львов, ни к чему городские подземные переходы. Сопротивляются и мешают окончательному превращению только пять веков его камня — окаменевшая история и застывшая музыка. Приношу извинения за банальную цитату, но музыка привлечена здесь не ради красоты слога или интеллигентских стенаний. Это особая музыка, которую расслышать способен только горожанин. Для сельского уха она такой же сумбур и какофония, какой погонщику верблюдов показалась бы настройка инструментов в оркестровой яме. (Справедливости ради стоит отметить, что и горожанину медведь наступил на ухо, только с другой стороны: лишив способности слышать таянье снега, говор дождя или упиться шелестом трав. Но не об этом сейчас речь.)
Городские башни способны дать представление, как может и должен «правильный» город звучать в ангельском ухе. Как-то летом мне повезло так услышать Киев с большой колокольни Киево-Печерской лавры, а буквально через день — Львов, с кругового балкона на башне бывшего Бернардинского костела. То, что внизу было разбито кварталами на такты и фрагменты, поднимаясь кверху, создавало невыносимой красоты мелодию живого старинного города. Скрежещущие и визжащие звуки трамваев на поворотах не раздражали, а ласкали слух. Резкие клаксоны автомобилей трубили о радости жизни, о том же фыркали их моторы, сипели тормоза, шелестели шины. В гуле людского базара можно было разобрать отдельные голоса, как в пении а капелла, женские, мужские, детские. Ветер также не мог молчать и шевелил кроны каштанов внизу — те еще и раскачивались, отчего начинала кружиться голова. Вдруг проснулись часы на ратуше, прокашлялись и принялись отбивать полдень. И все эти звуки существовали неслиянно и нераздельно, вибрируя в моем тесном костяном черепе, как в резонаторе, барабаня по перепонкам и вестибулярным молоточкам и давя на слезные мешки.
Таким свой город я не видел еще никогда, хотя и раньше нередко поднимался на его башни, холмы и крыши. Возможно, ощущения были обострены чувством потери — дело шло к окончательной разлуке. Это был мой личный «Дублин», так гениально воскрешенный когда-то ирландцем на бумаге — выторгованный Джойсом у судьбы на один нескончаемый летний день. Сто лет спустя в руках у меня оказалась видеокамера. И звуки города поймались на ее пленку, как мухи на липучку, жужжат, как насекомые в запертом спичечном коробке. Поднесешь к уху — и все вернется. Но ничего не возвращается.
Десять лет прошло, как я покинул Львов. Копилось долго, но произошло это так. Как-то вечером выходного дня я пытался перебраться с одной окраины города на другую. Почти миллионный город лежал в транспортном параличе. Первыми исчезли городские такси, отреагировав на пустоту в карманах населения и дороговизну бензина. Остатки общественного транспорта больше походили на жертвы кораблекрушения, а пора юрких турецких «пежо» на улицах еще не наступила. Вечер успел перейти в глухую ночь, прежде чем показался наконец один из таких летучих призраков — раздрызганный «пазик», едва освещенный и набитый пассажирами под завязку. На остановке к его передним дверям прицепился еще целый свисающий рой. К тому времени меня уже полтора часа дожидались на другом конце города. Жестами я показал шоферу, чтобы он открыл задние двери, и денежку на билет. Он кивнул, и с шипением открылись двери, куда с трудом можно было еще втиснуться, стоя на одной ноге. Чувство благодарности дернуло меня расплатиться с ним поскорее, и я попросил кого-то с передней площадки передать деньги. Уцепившийся обеими руками за дверной проем молодой мужик попытался взять их… зубами. Я так и застыл с украинскими «купонами» в вытянутой руке. «Хлопче, — сказал я ему тогда, — зубами не надо. Мы пока еще люди». В тот вечер я уже никуда не поехал, а вскоре уехал в Москву — как в прорубь головой, никто меня в ней не ждал. О личных мотивах здесь не место распространяться. Но та мизансцена на автобусной остановке стала для меня последней каплей. Я перестал соглашаться и прекратил сопротивляться.
На всех платформах и перронах Подмосковья и Москвы прогуливались наряды с автоматами за плечом или на груди. Но метро работало как часы, в кранах была вода, и все кругом разговаривали по-русски. Однажды электричка проскочила мою платформу без остановки — стоило пропустить ее, чтобы увидеть, какую головомойку устроили возмущенные пассажиры бедным кассиршам, захлопнувшим окошечки и схватившимся за трубки служебных телефонов. Мой рот непроизвольно разъехался в дурацкой улыбке до ушей, с которой я ничего не мог и не хотел поделать. Столько людей в одном месте, не желающих позволить, чтобы их опускали, я не видел давно.
Во Львове таких тоже хватало, но разлетаться по всему свету они стали еще в «перестройку». Нечто загадочное и даже неполитическое тому виной, когда на тротуарах городов перестают встречаться так называемые красивые люди (по выражению не то Гиппиус, не то Блока, на которого перестали оборачиваться на улицах Петрограда). Исчезают не как кошки перед землетрясением или крысы с корабля, как кому-то это видится, — просто бывают условия, в которых они не размножаются и не живут.
Реванш села и его пиррова победа над городом — тема, которую я всячески развивал в своих статьях, — тоже только часть правды. Нелюбовь, активная неприязнь, даже ненависть к городу — печальный факт самочувствия многих запоздалых выходцев из села (я был изумлен и даже ошарашен, когда глаза на этот факт мне открыли молодые львовские реставраторы). Блажен поэтому тот, кто сумел полюбить нечто чужое смолоду — город, язык или страну. Но и сами горожане часто не имеют иммунитета к эпидемии деурбанизации — упадку города, распадению тонких и сложных связей, расползанию тканей, которые есть только следствие.
В один из приездов во Львов в середине 90-х меня поразило обилие на улицах внезапно охромевших мужчин среднего возраста. Своим внешним видом (а хромота, да еще с палочкой, самый наглядный вид увечья) они как бы сигналили окружающим: я калека, не обижайте меня, пропустите без очереди, уступите место. Может, это началось, когда пожилые матери семейств стали тайком поднимать с тротуаров окурки для своих мужей-пенсионеров?
Если ты десятилетиями жил с водой в кранах по расписанию, то и к отключениям света легко привыкнешь. Все происходит незаметно и очень быстро. В Петрограде, Афганистане, Сомали или Грозном. Во Львове, к счастью, далеко не так драматично и, считай, бескровно, но оттого не менее наглядно. Потому что город пропитан овеществленной Историей, как губка, каждый дом в центральной части и старых районах сочится ею, каждый холм источает ее пряный аромат.
Пятьсот лет, начиная с пожара 1527 года, здесь не прерывалось каменное строительство. Вырос удивительной красоты организм, оттого что предки горожан, несмотря на конфликты интересов, умели договариваться между собой и действовать сообща. Вроде и учили нас этому в советских школах и дома, но как-то плохо: говорили одно, делали другое.
А ведь это азы экономики, цивилизации и культуры — вообще всего хорошего. Где этого нет, наступают одичание и немедленное обнищание — просто потому, что два соседа, два человека одной веры и даже происхождения, не способны или не хотят договориться друг с другом. И тогда, как Наполеон говорил, народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. Или же вкалывать на чужом поле. Население Украины, десятая часть которого, только по официальной статистике, подалась в гастарбайтеры, лишь подтвердило это общее правило. На Кавказе, в Средней Азии, Молдавии дела обстоят и того хуже.
Гастарбайтеры сами-то работать умеют. Не умеют работать заработанные ими деньги — для этого нужны какие-то другие способности. Так вырастают просторные дома, в которых некому жить, которые некому продать, между которыми некому убрать кучи ничейного мусора. «Дикие» предприниматели захватывают первые этажи городов, выше которых хоть трава не расти — точнее, именно расти; карнизы и балконы — вались на голову, а штукатурка — сыпься. На центральной площади Львова все 90-е простояло два выгоревших многоэтажных дома — каких инвесторов вы заманите в такой город? Слава богу, на месте разукрашенных аляповатой рекламой руин один из банков построил наконец какую-то уродину. Возмущению безработных реставраторов и архитекторов нет предела — а пепелище что, было лучше? Сколько людей в цвете лет за это десятилетие вымерло в городе от безысходности? Сколько людей постарше, не столь чувствительных, дегенерировало, опустилось, спилось? Тяжело писать об этом, стыдно прибегать к пафосу, но замалчивание размеров происходящего было бы равносильно предательству.
Отчего-то самыми ломкими оказались тридцатилетние. Вспоминаю одного такого — молодого отставного офицера, вернувшегося из Крыма во Львов и за гроши служившего чьим-то личным шофером. Как-то в компании на мои нападки и инвективы он сказал: «Послушай, ну а ты вот, сидя в этих кабинетах, не делил бы пирог в свою пользу — не для себя лично, а для родных, близких?» Что я мог ему ответить? Во всяком случае, он заслуживал своей участи. Еще год-другой он побрыкался на «гражданке» и помер ни с того ни с сего, оставив жену с дочкой, окрещенной им как-то сдуру, по неопытности и невнимательности, в греко-католическую веру.
На круг своих знакомых и их детей я гляжу сегодня, как на прореженную и уже незнакомую рощу. Кучи мусора, свалки кругом.
Картина «хронической деурбанизации», конечно, намного сложнее. Организм города сопротивляется, вырабатывает антитела. Он покуда не труп, он только тяжело болеет, и ярким заплатам первых этажей не скрыть его худобы и лохмотьев.
С мая по сентябрь здесь по-прежнему бывает хорошо. Удвоилось число кофеен, и размножились без счету крохотные ресторанчики с отменной кухней — готовить здесь любят. И это самая привлекательная сторона нынешнего Львова. А вот уникальные городские парки становятся все более запущенными (после присоединения в 1940 году сюда командировали из Москвы советских градостроителей набираться ума-разума, тоже без толку). Оно и понятно: парки ведь нужны горожанам, а где они теперь? «Село» в выходные разъезжается по селам. Львовяне и сами не заметили, как оказались виртуальным клубом, существующим где-то во Всемирной Паутине — вне климата, погоды и времени. Самые юные, естественно, смотрят на сегодняшний день иначе. Границы открыты — одно это сделало бы меня когда-то счастливым. Но сегодня мой взгляд упирается в некий воображаемый кинотеатр в аварийном состоянии, где крутят теперь другое «кино»: вместо польских межвоенных мелодрам или советских военных фильмов торгуют мелочовкой в полутемном фойе, где играл некогда живой оркестр. В «перестройку» я отчего-то прекраснодушно был уверен, что архитектура переварит нашествие очередных варваров — не сразу, но переварит. Теперь у меня уже нет в этом уверенности — осталась только надежда. Города Прикарпатья захлестывает сегодня волна вторичной криминализации, надвигающаяся из обнищавших и обезлюдевших сел. И лучше не оказываться в этих краях в сезоны дождей и холодов, когда злая бедность и тщета особенно лезут в глаза.
Недавно воду в квартиры стали подавать во Львове не с шести до девяти часов утром и вечером, как в позднесоветское время, а на два часа дольше. Злые языки утверждают, что городской голова, желая переизбраться, выполняет таким образом свои предвыборные обещания решить проблему с водой. Решить ее сегодня можно: какой-то всемирный банк выделил средства на такую целевую программу, да вот беда — не позволяет властям растворить их в местном бюджете. А кому нужны такие деньги, которые нельзя украсть? Вот и слоняются жирные коты по своим коридорам и кабинетам, облизываются, мяучат, а дотянуться не могут. Год так продолжается уже, говорили мне чудом уцелевшие горожане, за целую жизнь так и не привыкшие обходиться без воды в своих домах большую часть суток.
Ничего нового или исключительного в том, что происходит, нет. Для деурбанизации не существует границ. Так, население немецкого Лейпцига, культурной столицы восточных земель, в 1997 году составляло 600 тысяч жителей, а к началу нового века — без всяких войн и депортаций! — уменьшилось на треть.
По контрасту с саморазрушающимся Львовом меня удивил вычищенный и вылизанный на немецкий манер, но без немецкой тщательности центр Ивано-Франковска по соседству. А ларчик просто открывался: сюда прибывает президентский кортеж. В тридцати километрах от города сооружена одна из резиденций для отдыха и встреч украинского гетмана с высокими зарубежными гостями. Естественно, вся инфраструктура подтянулась: банки, леспромхозы, егеря, молочные фермы, дороги — точнее, пряничные вокзальчики (для глаз САМОГО, остальное-то все для свиты). Короче, как в России: всё в центр — и всё из центра. Киев и является таким центром — светилом, единственным украинским городом, который не терзает деурбанизация.
И последнее. Как выразился один мой рано умерший друг, — а ведь каждому придется ответить за то, что натворили все. И это ужасно несправедливо, но правильно.
Спящий пробуждается
Есть что-то в том, что по железной дороге от Москвы до Питера и Киева примерно одинаковое расстояние — длиной в ночь. Поэтому отправляться в Киев удобнее всего поездом с Киевского вокзала российской столицы. Самые скорые и комфортабельные — фирменные № 1 и № 41 (отличающийся от первого только наличием плацкарт). Ими не ездят бригады украинских гастарбайтеров, и пассажиров поэтому меньше беспокоят пограничники с таможенниками. Оба составлены из новых днепропетровских, с иголочки, вагонов. Поначалу их дизайн и мягкие полки приятно удивляют, и только присмотревшись в пути, замечаешь, что они тесноваты, а зимой на окнах с внутренней стороны еще и образуется наледь. Старая история: внешний вид важнее удобств. То же с «пряничными» вокзальчиками, которые всегда легче привести в божеский вид и глаз проезжающего начальства порадовать, чем заниматься изношенными шпалами да рельсами.
Киевский вокзал в Киеве не меньше, чем в Москве, но есть у него один существенный недостаток. Он единственный пассажирский железнодорожный вокзал столицы Украины. Все пятидесятимиллионное население страны устремляется в эти ее главные ворота или прокачивается через них во всех направлениях. Чтобы уменьшить образование заторов хотя бы на вокзальной территории, нашли остроумный выход. Был возведен по другую сторону путей европеизированный хай-тековский «двойник» сталинского вокзала, с которым он соединен длиннющим надземным переходом со спусками на платформы. К этому зданию вокзала удобнее стало подъезжать из западной и южной частей города. А вот покидать район вокзала вам придется одним из трех способов: на такси (что, кстати, недорого), на городском транспорте, с пересадками, или через самое узкое место — вход в метро, где не исключено, что придется выстоять очередь за пластмассовыми жетонами, от которых Москва отказалась лет пять назад.
Эти пять лет и представляют собой примерную величину отставания во времени украинской столицы от российской, поскольку обе они движутся в одном и том же направлении. Обе переживают строительный бум и, имея около 7 % общего народонаселения, распоряжаются на порядок большей долей национального достояния. Киев сегодня фактически единственный бурно развивающийся город Украины и безусловный лидер «капиталистического соревнования».
Спускаясь в киевское метро, непроизвольно отмечаешь, что платформы и поезда здесь на треть короче московских. Зато и ветки короче, не успеваешь истомиться под землей. Только темновато как-то. Уже поднимаясь на эскалаторе, соображаешь, в чем дело. Лампы светятся строго через одну. Легко можно представить, что творится тогда в областных городах, райцентрах, вплоть до кромешной темени в селах. Из которых уже несколько миллионов жителей регулярно трудится на сельхозработах в странах Средиземноморья или на стройках у соседей — в России, Польше, Чехии. Или в Киеве, где можно сегодня заработать довольно приличные деньги и куда наметился отток рабочей силы и интеллектуального потенциала: молодых компьютерщиков, журналистов, дизайнеров, архитекторов. Не говоря уж о политиках, финансистах и украинских красавицах, которыми Киев славился всегда.
Две остановки метро — и мы на Крещатике, главной улице города, чье имя волнует слух и отсылает к его тысячелетней христианской истории. В Крещатицком яре Владимир крестил когда-то в греческую веру своих сыновей. Князь-идолоборец сам в виде истукана уже больше столетия озирает свои владения с Владимирской горки, а прах его тысячу лет как покоится в Киевской земле, по соседству с прахом Юрия Долгорукого, основателя Москвы. Киев — город святынь и захоронений трех сегодняшних народов и стран. В одной из пещер Киево-Печерской лавры, купив билет, всякий желающий может лицезреть высохший череп летописца Нестора, первым описавшего для потомков, «откуда есть пошла Русская земля». Отчего на собственном черепе посетителя волосы начинают шевелиться — когда тысячелетие прессуется у него на глазах в один нескончаемый, долгий день, а промелькнувшие века — в сон.
У украинца вообще, а у киевлянина в частности «пунктик» на почве подземных кладов. Может, скифские курганы пробудили в их предках кладоискательский азарт и он передается по наследству? Еще в советское время в подземном переходе под Крещатиком, прозванном Трубой, пооткрывались стекляшки, где можно было перекусить и выпить кофе. Этакая фантазия проектировщиков на тему ночной жизни крупных западных городов. Сегодня киевляне просто помешались на роскошных подземных торговых центрах, на манер Манежной площади в Москве. В районе Крещатика сооружено уже два таких. На Майдане Незалежности — многоярусная «теплица» со стеклянным куполом и фонтанами. И на другом конце Крещатика — «Метроград» с бутиками. От чего обитатели ветхого жилого фонда в районе знаменитого продуктового Бессарабского рынка пришли в сильное беспокойство, ожидая со дня на день, когда под ними начнет проваливаться земля. Пока что в Киеве только кряхтят и трещат старые здания от надстроенных этажей с мансардами и перепланировок — история москвичам и россиянам знакомая.
Самым живописным Крещатик был в начале XX века, когда Киев за 20 лет вырос вдвое, превратившись в крупный европейский город. Город этот сохранился в фотографиях и замечательных описаниях — от Лескова до Паустовского и от Нечуй-Левицкого до М. Старицкого. Его языком служил двуязычный суржик, так и не дождавшийся своего Жванецкого. На литературную карту мира этот город нанес Михаил Булгаков, описав в своей «Белой гвардии» его «апокалипсис» и покинув его навсегда. Булгаков вообще специализировался на превращении городской топографии в миф, привязывая своих героев к конкретному адресу и месту — в Киеве, Москве, воображаемом Иерусалиме. В Киеве таким мемориальным, культовым местом является дом № 13 на Андреевском спуске, в который можно зайти, как внутрь романа, — и это потенциально сильное переживание.
На крученом Андреевском спуске я оказался впервые в год Московской олимпиады. Стояла зима, улица была выселена под корень. Трущобы, безлюдные дворы. Из звуков — только звук льющейся из уличной колонки воды, сбегающей по обледенелой брусчатке вниз к Подолу, ремесленно-торговому посаду Киева. С этого началось преображение обветшалой, но живописной улочки в нынешний «кичок». Так на Украине зовут места, отведенные для уличной торговли предметами искусства (от слова «кич» — безвкусная поделка, попса). С годами «кичок» вырос в настоящую арт-зону со стильными галереями, уличными самодеятельными концертами, в место оживленной туристической и молодежной тусовок. Здешняя живопись переслащена, а вот народные промыслы, антиквариат и подделки под него, прикладное искусство представлены очень сильно. Украинец, так уж повелось, ценит в красоте прежде всего пользу. И никому не удастся уйти отсюда, не позарившись на крутобокий звонкий горшок, аптекарский флакончик с застывшими пузырьками воздуха в толстом стекле, изобретательное женское украшение или хотя бы полтавскую глиняную свистульку-«сракодув». Начало Андреевского спуска от изумительно поставленной Андреевской церкви пополнилось еще одной достопримечательностью. Памятником в «натуральную величину» героям фильма «За двумя зайцами» — а фактически киевской старине, так любезной сердцу киевлян. Поэтому здесь охотно ставят памятники актерам, сумевшим ее «сыграть». Борисову в роли Голохвастова, Гердту — Паниковскому, поразительному киевскому комическому актеру Яковченко, умудрившемуся в киноэпизодах выразить само существо украинского народного юмора (например, в роли Пацюка из «Ночи перед Рождеством», где в позе йога он поедает вареники без помощи рук). Эти памятники, работающие на воссоздание городской среды, резко контрастируют с идеологическими «новоделами». Помпезными Кием, Щеком, Хоривым и сестрой их Лыбедью — на месте правительственной трибуны для праздничных демонстраций советской поры. С которой 1 мая 1986 года на оживленные толпы киевлян, накрытых чернобыльским облаком, взирали последние партийные секретари, в надвинутых шляпах и плащах с поднятыми воротниками, кутаясь в шарфы, будто человеки-невидимки. Стоит помнить, что с этого все началось. С признания Горбачевым неделю спустя «утечки радиации» на Чернобыльской АЭС начался неудержимый оползень, похоронивший в конце концов советскую империю. А в те дни была похоронена антиалкогольная кампания — каберне «Оксамит Украины» («бархат» то есть) лилось на улицах Киева рекой. Кто из киевлян не разбежался, спасался от развития лучевой болезни красным сухим вином — считалось, что это помогает. Что имело неожиданные последствия для самочувствия современных киевлян, вдруг осознавших, что их замечательный южный город, будто нарочно созданный для удобства и радости жизни, так же не вечен, как и его обитатели.
И все же хочется верить, что Киев — город вечный и в перспективе — мировой. Как вечен Рим и всемирен Нью-Йорк. Ему, конечно, до них далеченько. Но, во-первых, ему идет уже вторая тысяча лет. Во-вторых, он очень красив — оттого что гениально расположен. Кажется, нет на свете другой такой столицы, которая была бы вписана в столь живописный ландшафт. Бывает генетическая удача. Этот город красив от рождения. Виднее всего его физическая красота со стороны киевского Ист-энда — плоского, унылого левобережья или с реки. Не забуду, как на железнодорожном мосту через Днепр меня подтянул за шиворот к вагонному стеклу китайский студент, которому я помог объясниться с пограничниками на российско-украинской границе. Он являлся сыном предпринимателя из Харбина (где от русских осталась одна память) и одним из 2 тысяч китайцев, составлявших киевскую диаспору. Это была форма его благодарности мне. По-китайски стыдливо кося, он сказал: «Глядите, какой красивый город!» )
Но не хуже любоваться им и с некоторых мест на правом высоком берегу. Со смотровой площадки за филармонией, с Гончарки или Поскотины — дикого луга на холме в 10 минутах ходу от Крещатика, валяясь в траве. Но лучше всего с большой колокольни Киево-Печерской лавры — незабываемое и фантастическое зрелище, достойное описания.
Я поднимался на смотровую площадку этой колокольни года два назад. Когда в Киево-Печерскую лавру доставили из Афонского монастыря чудотворные мощи св. Пантелеймона — его череп в ларце (отсюда мощи повезли в Москву и выставили в храме Христа Спасителя). За месяц поклониться им пришло около миллиона больных, страждущих и их родственников со всей Украины. С колокольни мне были видны: залитая солнцем пойма Днепра, от горизонта до горизонта; территория лавры с вьющимся хвостом паломников с детьми, терпеливо простаивающих в очереди не меньше суток; прямо под ногами строители, стуча молотками, заканчивали восстанавливать Успенский собор, взорванный в годы войны, — от его золоченых куполов было больно глазам; на пляжах Гидропарка купались люди, и речные трамваи доставляли к ним новые порции горожан; по фарватеру шли груженые баржи, их легко обгоняли «Ракеты» на крыльях; над горой справа от лавры господствовала колоссальная фигура из нержавеющей стали с поднятым мечом в руке — внутри монумента, я это знал, были проложены ходы и инженерные коммуникации для равномерного подогрева, охлаждения и текущего ремонта статуи; оттуда же, с невидимого склона, доносилась громкая музыка и развязные голоса ведущих концерт под открытым небом, с лотереей и розыгрышем призов; весь правый берег, как и город за спиной, залег в прохладной зелени, а над крышами домов чуть колыхался раскаленный воздух. Все эти разнородные впечатления совместились, образовав нечто вроде пасьянса, из которого не могло быть вынуто ни единой карты. Мне оставалось только пить их — как моллюску, дождавшемуся прилива, в полосе прибоя.
Это и был Киев.
Главная улица Украины
Крещатик — одна из самых широких и самых коротких главных улиц в мире.
Уже одно это делало ее привлекательной в глазах прилетевшего со мной фотографа Александра Лыскина: не придется «наматывать» километры в поисках кадра — ведь в ногах правды нет. В Киеве он был впервые, и чтобы задать масштаб предстоящей съемке, собственному очерку и самой улице Крещатик, я предложил к вечеру первого дня выйти на смотровую площадку над Днепром, в которую мысленно упирается начало Крещатика — всего в сотне метров за Европейской площадью. От вида свободно текущей по бескрайней равнине великой реки, что открывается с этих холмов, у меня всегда захватывало дух. Здесь замысел города Киева, от которого дышать хочется полной грудью. Если говорить об общедоступных местах, то лучший обзор открывается только с большой колокольни Киево-Печерской лавры.
Профессионалу объяснять ничего не надо, и Александр лишь сетовал, что не прольется никак сквозь облака рассеянный вечерний свет, способный обратить фотографию в живопись. Чтобы не терять времени, он уговорил симпатичных молодых киевлянок отставить пивные бутылки и попозировать у парапета на фоне реки. Кроме освещения наш фотограф, как мне показалось, помешан еще на поиске острохарактерных лиц. Особенно ему хотелось выловить где-то на Крещатике миловидное лицо типичной киевлянки, такое, как на полотнах Боттичелли или Кранаха. Нелегкая задача, когда глаза разбегаются, а лучшие из лучших давно разобраны состоятельными женихами, шоу-бизнесом и секс-индустрией.
Я же тем временем думал, как удачно и точно зовутся по-украински фотографии — «свитлынами» (от слова «свет»), а слайды — «прозирками» (по-русски было бы «прозрачнями»). Будто старовером каким придумано, с «мокроступами» заодно — вместо калош. Но куда конь с копытом, туда и рак с клешней. И, не дожидаясь нужного освещения, я тоже щелкнул несколько раз своей мыльницей, чтобы увезти на память незабываемую панораму: с Владимирской горкой «ошую», Речным вокзалом и Подолом внизу, похожим на раскрашенную почтовую карточку начала XX века, с вытянутыми облаками над равниной, речным трамваем и вьющимся около него, как назойливая муха, водным мотоциклистом; и с мурашами «одесную», тянущимися вереницей по пешеходному мосту на Труханов остров, чтобы искупаться на его песчаных пляжах. Короче — весь этот предвечерний Киев.
Стараясь при этом не слышать грохочущих за спиной аттракционов, не замечать суровых советских скульптур под советской же Аркой дружбы — колоссальной металлической дугой, окрещенной диссидой тех лет «московским хомутом». Вкус киевлян, впрочем, рассевшихся за столиками павильонов в бывшем Царском саду (Купеческом, Пролетарском, Пионерском саду, а сегодня Крещатом парке), ничто здесь не смущало. С видимым удовольствием они попивали свое бутылочное пиво и вели неторопливые беседы. Как и положено летним вечером в южном городе.
Всякий древний город — как пергамент-палимпсест, где скоблятся старые записи, чтобы сделать поверх них новые.
Серьезные люди утверждают, что название «Крещатик» произошло от Крещатого яра — «крещатого», то есть изрезанного поперечными балками, словно оттиск рыбьего хребта. Но ухо и что-то еще заставляет расслышать в этом названии также отголосок крещения князем Владимиром своих детей в ручье, сбегавшем по дну этого самого яра.
В любом случае несомненно, что Крещатый яр существовал, а подобный рельеф — небольшое удовольствие для разрастающегося города. В промежутке между Киевом — столицей Киевской Руси и современным Киевом, начавшим складываться в нынешних очертаниях лет двести назад, на этом месте соседствовали три поселения городского типа. Внизу — ремесленный Подол, над ним старый Верхний город (на месте древнего Киева, сожженного почти дотла Батыем), а за Крещатым яром, горбами и оврагами — процветающий Печерск. Через лесное Перевесище и Конную площадь в начале нынешнего Крещатика проходила дорога, связывавшая все три поселения. За то и недолюбливали тогдашний Киев русские цари, от Екатерины II до Николая I, что Киев тех лет на город был мало похож. А самострой на берегах яров больше напоминал «нахаловку», с расставленными как попало хатками, будками-«халабудами» и дымящими винокурнями. (Киев всегда считался еще и столицей самогоноварения. В советские годы я знавал здесь одного химика, презиравшего «монопольку» и добавлявшего в бутыль щепотку какого-то порошка со словами: «Так, а сейчас мы разрушаем длинно-молекулярные связи…»)
Фактически из этого императорского неудовольствия и начал возникать постепенно современный Киев — с того, что Крещатый яр засыпали, а на его месте стала расти Крещатицкая (поначалу Театральная) улица. Подол и Печерск были обречены отойти в тень, и самые сообразительные и состоятельные их обитатели принялись переселяться сюда — с царями не поспоришь. На несколько десятилетий самой востребованной и хлебной в городе сделалась специальность землекопов-«грабарей», перевозивших срытый грунт и засыпавших бессчетные овраги, колдобины и ямы. Нечто похожее, кстати, происходило в конце XVIII века повсеместно в Европе, где сносились остатки городских стен и укреплений и засыпались рвы, мешавшие городам расти. В результате рельеф Киева сильно изменился, перестал быть таким раздробленным, и город принялся бурно развиваться. Чему немало способствовал приток капитала, когда в 1797 году царским указом Контракты (помесь ежегодной оптовой ярмарки с биржей) были переведены из Дубно сюда — вначале на Подол, а впоследствии на Крещатик.
Движение Крещатика в направлении Бессарабки подстегнуло строительство железнодорожной станции, и во второй половине XIX века Крещатик приобрел свою нынешнюю длину — 575 саженей, или 1225 метров, — дотянувшись до Бессарабского рынка и Бибиковского (теперь Тараса Шевченко) бульвара, ведущего к вокзалу.
Вернемся, однако, в нынешний день.
Внешне наш таксист до смешного походил на загримированного Штирлица, собравшегося на свидание с Борманом. А вот темперамент у него оказался прямо-таки неаполитанский. Ему явно недоставало еще одной пары рук, потому что все 40 километров от международного аэропорта он постоянно бросал баранку своего поношенного «вольво», принимаясь на пальцах и в лицах изображать то, что ему так не терпелось сообщить. А именно: как он возит немцев и турок к украинским невестам, а донбасских братков к народным депутатам; как извозом зарабатывает на учебу сыну, чтобы выучить его на дипломата; как купить настоящий киевский торт — только в магазине при кондитерской фабрике! А также — где недорого и сытно поесть на Крещатике: в бистро «Здоровеньки булы» на углу Лютеранской! Он загибал пальцы на руке: шесть только первых блюд, которые в ресторане обойдутся в десять раз дороже и будут вдвое хуже. Пальцами по баранке он показывал, как и куда следует пойти, чтобы самому взять поднос. При этом отвлекаясь и комментируя самое пустячное событие на улице, словно записной комик. Мы с фотографом сразу «догнали», что мы на Украине, что здесь юг, где смесь корысти с простодушием разит наповал, и никого ни о чем не надо расспрашивать — сами все расскажут. Напоследок мы записали номер мобильного телефона, чтобы Василий — так звали таксиста — отвез нас в аэропорт в начале следующей недели, скрасив нам расставание с украинской столицей.
Наша гостиница нависала над Майданом Незалежности, как недостроенная уменьшенная копия московской высотки. В Варшаве и Риге успели отгрохать похожие, а вот киевским Хрущев в свое время посносил башни и шпили своим указом о борьбе с архитектурными излишествами. Три «звезды»: как и положено, вода в кранах еле теплая, рассохшийся паркет, высоченные потолки, за завтраком вместо шведского стола носится не меньше дюжины бестолковых официантов, скудное меню общепитовской столовой и отметки в гостиничных пропусках, чтобы кто-нибудь не позавтракал дважды. Фотографу, конечно же, номер с окном на Майдан — пусть любуется. Зато у меня в номере гигантская двустворчатая балконная дверь с видом на бывший парк Шато-де-Флер, со спрятанным в нем футбольным стадионом «Динамо». А еще стрижей на моем этаже можно рукой ловить. Далеко внизу — угол Майдана. Прямо — старинное здание института благородных девиц с ротондой и залом на 2000 мест, сегодня его занимает культурный центр. Направо вверх карабкается улица Институтская в направлении респектабельнейшего киевского района с уютным названием Липки. В целом неплохо.
Пятизвездочный отель, не считая президентского, в Киеве один — как раз бывшая «Украина» на другом конце Крещатика, напротив Бессарабского рынка. Теперь, как и сто лет назад, она зовется снова «Палас-Ройяль».
Но пора выходить на улицу — на главную улицу Украины. Повезло же ей.
Архитектурную и бытовую философию Крещатика мне изложил самый любопытный из сегодняшних киевских краеведов Анатолий Макаров, человек 60 с лишним лет с неожиданным хвостиком волос на затылке (даже никогда не бывавшим в Киеве рекомендую для чтения его восхитительную «Малую энциклопедию киевской старины»). Архитектурное обоснование придумано сталинскими градостроителями, за полтора десятилетия построившими новую улицу на месте взорванной в войну подпольщиками старой, еще дореволюционной (из столичных городов так горела разве что Москва в 1812-м; вскоре после отступления Красной армии взлетело на воздух и выгорело свыше 300 домов на Крещатике и прилегающих улицах, что стоило жизни трем сотням немцев и нескольким тысячам расстрелянных фашистами заложников; при своем отступлении Киев жгли и фрицы, но это уже другая тема). Как ни превозносили себя московские и киевские архитекторы того времени, мало кого убеждает помпезная застройка Крещатика. Весь пар уходил в детали наружного оформления: использование фигурной и глазурованной цветной плитки и коростенского гранита в отделке фасадов, «протаскивание» элементов украинского барокко, осторожные заимствования из архитектуры Юго-Западной Европы (где похожий климат) и бывших испанских колоний (в помешанной на шпиономании стране даже удалось отправить бригаду архитекторов в загранкомандировки для изучения и копирования образцов). Хотя что с того, что на доярке бижутерия почти как у испанской королевы? Парадокс, однако, что при всей своей, мягко говоря, художественной вторичности улица получилась славной — в первую очередь благодаря градостроителям (мыслящим Город как живой организм), а не архитекторам (отвечающим за отдельные здания). И в этом градостроительном смысле современный Крещатик уникален: гибрид бульвара (это его левая нечетная сторона — тенистая, просторная, людная и гульливая большую часть суток) и монументальной административной застройки советского образца (по правую руку, с широким лысым тротуаром в самый зной). Шарма добавляют ему изгиб в районе «поясницы», у так называемой административной дуги, и высокие склоны со старой городской застройкой по обе стороны улицы. Но главное — это своеобразная пульсация (по выражению академика Чепелика, «соловья» послевоенного Крещатика) его площадей, полуплощадей и открывающихся перспектив — в обоих концах улицы и по пути, — отчего прогулка по Крещатику никогда не кажется монотонной. Короче: праздник для зевак.
Мой персональный «кайф» состоял еще и в том, чтобы через сиюминутный и плоский Крещатик прозревать слои его прошлого и сам его мерцающий замысел. Странное все же имя — Крещатик. Временами он даже мерещился мне каким-то древнекиевским ящером, засыпанным «грабарями» землей, чей хребет застраивается то так, то этак — безостановочно. Ведь не зря в Киеве так любят дореволюционного архитектора Городецкого, и особенно его знаменитый «Дом с химерами».
Повернемся спиной к Днепру и начнем свою прогулку по Крещатику с «истока» — от Европейской площади (побывавшей поочередно Конской, Театральной, Европейской, Царской, III Интернационала, Сталина, Ленинского комсомола и вот теперь снова Европейской — чувствуете, как мерцает и «глючит» виртуальный Киев?). Свое имя площадь получила от гостиницы, построенной на месте первого городского театра, а уже на ее месте было возведено похожее на киберпаука здание музея Ленина (никогда не бывавшего в Киеве даже проездом), превращенного после провозглашения государственного суверенитета в Украинский дом. Отсюда сбегает Владимирский спуск к Подолу и поднимается в старый Верхний город крутая Трехсвятительская улица. А в противоположную сторону, по направлению к Киево-Печерской лавре, разгоняется улица Михаила Грушевского, первого и самого образованного украинского президента.
С этим начальным отрезком Крещатика связан один драматический исторический сюжет. К пятидесятилетию отмены крепостного права в России у входа в Царский сад, между зданием Купеческого собрания (теперь Национальной филармонией, побывавшей в промежутке еще и Дворцом пионеров, где как-то Хосе-Рауль Капабланка провел сеанс одновременной игры на 30 досках с киевскими школьниками) и зданием киевской Публичной (сегодня Парламентской) библиотеки был установлен памятник царю-освободителю. Это на его открытие прибыл в Киев с царской свитой премьер-министр Столыпин, где день спустя и был застрелен в партере театра. Убитому реформатору памятник поставили всего через два года перед зданием гордумы на Думской площади (нынешнем Майдане), но уже через четыре года, в марте 1917 года, возмущенный народ не оставил и следа от обоих памятников. Александру II не простили антиукраинского «эмского указа», который самодержец подмахнул, отдыхая в немецком Эмске, а Столыпину, надо думать, приверженности идее великой России. Любопытно, что из всего дома Романовых киевляне делают исключение только для богомольной супруги Александра И, которой он почти в открытую наставлял рога. Оскорбленные чувства униженной императрицы легко находят отклик в украинских сердцах — оттого и уцелел в Киеве такой осколок проклятых времен царизма, как восстановленный стараниями Марии Александровны Мариинский дворец елизаветинских времен (использующийся сегодня для официальных приемов на государственном уровне).
К чему ни прикоснешься в Киеве — под ним века истории. Постараемся не проваливаться в них очень глубоко и для начала пройдемся по правой, четной стороне Крещатика. Первое угловое здание принадлежало АПН, теперь УНИАН, о чем до последнего времени свидетельствовала фотовитрина. Далее — впечатляющий ряд банковских зданий и более или менее доходных домов начала XX века, периода интенсивного соперничества Киева с Ригой за статус третьего после Петербурга и Москвы города Российской империи (обошедших на вираже купеческий Нижний Новгород и портовую Одессу). Здания солидные, стильные и на самом деле напоминают своей внушительностью и тяжеловесностью застройку немецкой Риги. В крупных европейских городах перед Первой мировой войной сделалась нормой 6–7-этажная застройка, и Киев старался наверстать упущенное. Молодой капитализм любил аллегории, но среди типовых Вулкана (Промышленность), Меркурия (Торговля) и Нептуна (Судоходство) резко выделяется на одном из фасадов копия рельефа бельгийца К. Менье «Индустрия» с изображенной на нем бригадой «ударников капиталистического труда» — качественная работа во всех смыслах. Чтобы рассмотреть ее, необходимо задрать голову — благо ширина тротуара это позволяет. На пустынном тротуаре только девушки-зазывалы из ресторана «Кавказская пленница» да колченогие стенды пунктов обмена валюты. Между банками и учреждениями, только уже нынешними, затесался последний уцелевший продуктовый магазинчик на четной стороне Крещатика. Особенно меня в нем умилил последний из советских «рокфоров» (их и делали только в Москве, Ленинграде и Киеве), на ценнике которого было написано «сыр „Рошфор“», и стоил он вдвое дешевле суррогатного немецкого «Дор-блю».
Об отелях «Хрещатик» и «Дтпро», по обе стороны улицы, можно только сказать, что лучше бы и честнее называться им по-советски гостиницами (хотя последний и гордится своим рестораном и списком именитых постояльцев, по Софию Лорен и Джину Лоллобриджиду включительно). Нечетная сторона стала еще скучнее четной, когда пару лет назад снесли следующий за «Днепром» конструктивистский дом 1930-х годов с рестораном «Столичный» и крытой галереей перед ним (после расширения Крещатика вдвое, а кое-где и втрое пришлось выпотрошить часть первого этажа, чтобы старый дом не перегораживал нового тротуара). Эта пешеходная галерея была одной из немногих изюминок советского Крещатика. Место ныне пустует, что возведут в образовавшейся прорехе, говорят по-разному, спросить не у кого. Однако чемпионы скуки — это глядящие на Майдан Незалежности бывшие Укркоопспилка (теперь банк) на нечетной стороне и Дом профсоюзов на четной (с главными киевскими электронными часами на угловой четырехгранной башне).
Только машина времени способна как-то оживить этот самый казенный квартал Крещатика. Ведь на месте пресс-агентства «Новины» находилась когда-то знаменитая ювелирная фабрика с магазином Иосифа Маршака, уступавшая в России мастерством и знатностью только фирме Фаберже. А строго напротив, где теперь «Днипро» с прорехой в застройке, находился легендарный дом певца и хормейстера Агренева-Славянского, затеявшего строительство самого большого концертного зала в Европе на 5 тысяч мест. Не получив финансовой поддержки, амбициозная затея затмить «Ла Скалу» провалилась, дом был перестроен и сдавался в аренду многочисленным общественным организациям, офицерским клубам, землячествам и т. п. Место дореволюционной Биржи в конце концов заняла Укркоопспилка, а Дворянского собрания — Дом профсоюзов.
Характерно, что за все время существования Крещатика не было даже попыток воздвигнуть на нем церковь. Все первые этажи, как правило, отводились под всевозможные магазины, рестораны и кондитерские, фотоателье и кинозалы, театрики и кафешантаны. Вторые этажи занимали конторы и учреждения, верхние этажи — жильцы, а полуподвалы, подвалы и дворовые постройки использовались под склады и мастерские. Таково было устройство главной торговой улицы Киева, хотя даже на ней власть денег никогда не была безраздельной и уравновешивалась просветительской и меценатской деятельностью корпораций.
В громадном зале с лучшей в Киеве акустикой Купеческого собрания давали концерты приглашенные знаменитости. Дворянское собрание приютило и поддерживало городскую публичную библиотеку и устраивало в своих залах первые выставки передвижников, пробудившие в киевлянах увлечение живописью (увы, сменившееся стойким отвращением к реалистической живописи к XL такой выставке, открывшейся в 1913 году). Самыми «продвинутыми» оказались биржевики, поддержавшие новые направления в искусстве и охотно отдававшие второй этаж Биржи в свободное от торгов время под выставки современной живописи и фотографии (здесь даже провели как-то свой II съезд фотографы России).
Занятно, что у Биржи, самого денежного заведения в Киеве, имелся теневой двойник через дорогу, на углу нынешнего Майдана. В респектабельнейшей и воспетой журналистами, литераторами и мемуаристами кондитерской швейцарца Семадени заключались сделки в обход официальной биржи — здесь с утра до вечера околачивались авантюристы, аферисты, черные маклеры, евреи-нелегалы из черты оседлости и всевозможные любители скорой и легкой наживы. Особенно живописным это заведение сделалось с началом Гражданской войны, когда из северных столиц хлынули на юг богачи и аристократы, увеличив население почти полумиллионного Киева еще на треть. Заканчивался самый колоритный отрезок («отрезок» — нечаянный каламбур) истории города — так называемый киевский ренессанс, двадцатилетие с 1895 по 1914 год, — который кто-то сегодня идеализирует, кто-то клеймит, но уж в живописности ему точно не откажешь.
Потому и обрел тот канувший в Лету старый Киев многочисленные отражения в искусстве и литературе (от пьесы «За двумя зайцами» до романа «Белая гвардия»), чудесным образом избежав забвения. Можно разрушить дома, но нельзя, невозможно стереть матрицу. Подобно грибнице она прорастет сквозь тротуарную плитку то бронзовым Паниковским, «косящим» под слепого на Крещатике, то Голохвастовым в исполнении Борисова. Есть подозрение, что зоны грустного и смешного расположены по соседству в нашем сердце…
Пересекая Майдан Незалежности, мы с фотографом приостановились у парня, гревшегося на солнце с крохотным крокодильчиком на руке.
— Его можно погладить, — сказал парень, не вставая с парапета.
Глаза крокодильчика были широко раскрыты, а пасть стянута аптечной резинкой, что придавало ему комический вид. Гладить его не хотелось, как и задерживаться на солнцепеке. Фотограф все же присел и щелкнул для коллекции парня с крокодильчиком, да и я потянулся за «мыльницей» и снял жанровую сценку на память. Парень наконец поднялся и заявил, что фотографирование стоит денег:
— С вас пять гривен (то есть $ 1), и с вас тоже пять гривен.
Мы не сразу даже сообразили — о чем это он? А парень между тем становился все недружелюбнее, вырастал и раздувался, будто кобра, с крошечной черной бейсболкой на голове.
— Мужчины, вы зря теряете время. Вы что ж думаете, я здесь просто так сижу? Хозяин вон там, видел, что меня снимают, я должен сдать ему деньги.
— Во-первых, предупреждать надо, — возмутился фотограф. — Какой хозяин? Влад? Давай сюда своего Влада. Разберемся!
Парень принялся высвистывать своего запропастившегося босса, а по газону к нам потянулся целый зверинец со всего Майдана. Такие же молодые парни с соколами и белыми совами на руках, симпатичными мартышками в детских памперсах, варанами и прочей живностью. По мобильнику они сообща вызвонили Влада, дружно уговаривая нас тем временем разойтись по-хорошему.
— Зверям ведь кушать надо! Содержание их тоже стоит денег…
Выяснилось, что крокодильчиков разводят в Черниговской области на какой-то ферме. Наконец показался и Влад с двухметровым питоном на шее. Мы ожидали появления какого-то братка, «крышующего» прибыльный бизнес на Крещатике, но Влад оказался самым интеллигентным из них, возможно даже киевлянином. Несмотря на явное недовольство своей бригады, он согласился, что о плате за съемку надо предупреждать заранее, а не попрошайничать на улице. На этом мы и разошлись, не став «лохами», но услышав по своему адресу от виновника инцидента что-то совсем уж несуразное про «украинских жлобов», что нас изрядно развеселило. Такой вот аттракцион. Знакомая журналистка еще в тот же день рассказала мне, что этот вид полулегального фотобизнеса рассчитан на приезжих и семьи с детьми, а обезьянки, при случае, очень умело обследуют карманы простофиль, чему она сама как-то стала свидетельницей. Досадно, когда детская в своей основе любовь к диким животным становится заложницей диковатых нравов вида гомо сапиенс. Массовое распространение «мыльниц» свело на нет заработки уличных фотографов. Тогда комбинаторами был придуман новый ход, а устаревший фанерно-чучельный антураж заменен живой натурой.
Еще два фотоэпизода приключились с нами на другом конце Крещатика. Первый — даже какой-то чрезмерно светлый, точнее, сладкий. Симпатичная украинка (вот как-то сразу было видно по ней, что украинка) садилась в иномарку с умопомрачительным фруктовым тортом в форме сердца, но неожиданно легко разговорилась с нами и согласилась попозировать со своим изделием на фоне Бессарабского рынка. Она оказалась, ни много ни мало, шеф-поваром торгового комплекса отеля «Палас-Ройяль». Зовут Татьяна, едет поздравлять с днем рождения киевскую телезвезду, сама родом из Закарпатья, за рулем сын Дима — спортивный и хорошо воспитанный парень, к своим 23 годам имеющий два юридических диплома, Киевского университета и Пизанского.
— Ой, «Вокруг света»! Это же был любимый журнал моих родителей — с детства помню. Приходите к нам завтра в 7 вечера на фуршет в «Палас-Ройяль»!
Увы, именно на это время у нас были обратные авиабилеты на Москву.
Живая, смущающаяся, открытая — настоящая южанка. Для своего кондитерского шедевра она использовала ликер на апельсиновых корках «Куантро». Я поинтересовался:
— Отчего же не «Гран-Марнье» на диких померанцах?
После чего мы обсудили сравнительные достоинства того и другого в тортах и мороженом, обменялись телефонами и распрощались, обоюдно очарованные, словно Чичиков с Маниловым. Типа: жизнь удалась. Здесь-то и подстерег нас очередной фотоинцидент.
Собственно, мы направлялись напоследок в художественный музей Ханенко, зятя сахарозаводчика Терещенко, собравшего в специально построенном здании и заказных интерьерах компактную и со вкусом составленную коллекцию западного и восточного искусства. Всем рекомендую — счастье Украины, что такое применение находили в ней когда-то шальные сахарные деньги (когда догадались добывать дешевый сахар из свеклы). Конечно, коллекция выглядит неухоженной, плохо освещена, что-то оказалось в запасниках (французские готические витражи, например, о которых я, как витражист в прошлом, «напел» нашему фотографу), потемневший лак на полотнах (Веласкеса, Рембрандта, Гварди и др.!) не обновлялся, наверное, с 1917 года. Александра, как и ожидалось, не захотели пускать с его фотокофром в экспозицию. Ему о терактах в Лондоне, о правилах в Лувре — а он только что оттуда, насилу убедил. Какое-то нездоровое местами в Киеве отношение к человеку с фотоаппаратом. О чем свидетельствует следующая история.
Еще умиленные после расставания с шеф-поваром лучшего киевского отеля, через несколько десятков шагов мы поравнялись с этим самым пятизвездочным отелем. Александр привычно потянулся за фотоаппаратом, но из тени, от входных дверей шагнул к нам на упреждение гостиничный охранник и попросил отказаться от фотографирования.
— На каком основании?! — возопили мы.
— Это частная собственность, — отвечал охранник.
— Памятник архитектуры в центре Киева, и нельзя фотографировать?! А кто этот собственник?
— Акционерное общество и совет директоров. Без их согласия фотографировать не разрешается. Поймите меня, я человек маленький, выполняю распоряжение.
Дикость распоряжения и нелепость всей этой сценки были восхитительны. Собственно, отель как объект нас не интересовал, а тратить воскресное утро на разборки с секьюрити, администрацией, а там и милицией очень не хотелось. Да пусть живут, как хотят, — вот только самих киевлян неужели не возмутило до сих пор нечто такое, или киевлянам не до того? Тогда и наша хата с краю — и, не тратя нервов, мы продолжили свою воскресную прогулку. Ничто, кстати, не мешало нам сфотографировать эту дореволюционную постройку с противоположной стороны бульвара — но зачем?
Стоит упомянуть, пожалуй, еще о поисках изображений старого Крещатика. Альбомов с раскрашенными почтовыми карточками начала XX века издано множество, но качество печати в них, как правило, не ахти. Мне показалось, что то, что нам нужно, мы найдем в музее истории Киева, — но не тут-то было. Здание Кловского дворца, где располагался музей, недавно оттягал у него Верховный суд, и музей временно перевели на верхний этаж Украинского дома. Вся экспозиция в ящиках, посмотреть ничего не возможно. Нам посоветовали посетить «Музей одной улицы» на Андреевском спуске. Подходящих открыток мы там не нашли, зато обнаружили нечто превосходящее их по силе воздействия. Киевское общество любителей старины собрало впечатляющую коллекцию утвари и обстановки столетней давности и воссоздало в застекленных боксах типичные интерьеры того времени. Особенно хороши лавка с колониальными товарами и кассовым аппаратом, уголок портнихи, обстановка за карточным и за обеденным столами, из-за которых все на минуту вышли по какой-то надобности (будто на «Марии Целесте»!). Кто неравнодушен к ретро — посетите обязательно. Вряд ли крещатицкие интерьеры сильно отличались от любых других в центральной части города.
А вот сам Андреевский спуск на этот раз меня сильно разочаровал. От бывшей самой оживленной уличной арт-зоны в Восточной Европе осталось одно воспоминание. Ни тебе полтавской керамики, ни кривобоких аптекарских пузырьков и толстостенных штофов. Из гуцульского — одни овечьи одеяла-«лижныки». Интересных художников и неисхалтурившихся ремесленников — раз-два и обчелся. Всё вытесняют китайский ширпотреб и собственного изготовления мещанские безделушки-обереги. Иностранцев почти не видно, молодежь, тусовавшаяся здесь, перешла на Майдан или куда-то еще. Может, об этом плакала скрипка уличного «Яши Хейфица» посреди брусчатки на крутом спуске? От чистого пронзительного звука, когда ничего такого не ожидаешь, мы с Александром остановились как вкопанные. Скрипачу с подпухшим лицом подыгрывал гитарист постарше. В паузе я переговорил с ними и купил два CD с их записями. Они сказали, что, если понадобится, они могут выступить на корпоративной вечеринке — на дисках есть контактные телефоны. После чего заиграли ощутимо хуже и торопливее. Похоже, обоих мучила жажда.
Но пора, давно пора приступить к описанию сердца Крещатика — Майдана Незалежности. За мной, читатель!
Павло Тычина
Когда-то эта местность звалась Козьим болотом. Только когда это болото замерзло, Батый сумел наконец подойти вплотную к стенам Киева и начать отсюда штурм города.
Большую часть XIX века здешняя площадь называлась Крещатицкой, а после постройки здания городской думы с фигуркой небесного покровителя Киева Архистратига Михаила на шпиле (1874–1878) площадь получила название Думской. Как она звалась в советское время, не так уж интересно, если сам Крещатик полтора десятилетия числился улицей Вацлава Воровского. Майданом Незалежности она сделалась после провозглашения Украиной государственного суверенитета в 1991 году. Облик площади так часто менялся и продолжает меняться сегодня, что нет смысла на этом задерживаться. Оглядимся лучше и обойдем ее по часовой стрелке, от здания Почтамта начиная.
Выходящий на площадь фасад этого здания украшен портиком, который отчего-то считается самым красивым на Крещатике. В 1989-м во время ливня он обрушивался, похоронив под обломками 13 человек. Его восстановили и укрепили, и под ним опять безбоязненно назначают встречи киевляне — под квадратными часами с циферблатом, по которому легко узнать время во всех 24 часовых поясах и мировых столицах. Перед Почтамтом колонной обозначен нулевой километр, ее постамент испещрен расстояниями отсюда до городов Украины и все тех же мировых столиц — только уже в километрax (расстояния между городами и принято считать от почтамта до почтамта).
Эта разрезанная Крещатиком на две части площадь немало повидала на своем веку исторических и драматических событий. Из того, что еще живо в памяти: кошмарную первомайскую демонстрацию 1986 года, после взрыва в Чернобыле (о чем знали только закутанные, подобно человекам-невидимкам, люди на правительственной трибуне); голодовку студентов, требовавших здесь осенью 1990 года провозглашения независимости Украины; и, конечно же, двухмесячный политический «марафон» оранжевой революции в конце минувшего года. От тех последних горячих событий победители решили оставить граффити на одной из колонн Почтамта. На часть этой колонны на уровне глаз надели стеклянный «бандаж», все остальные надписи смыли. Читать там особенно нечего, но получившаяся мемориальная витрина греет сердца участников противостояния со свергнутым режимом — каких-то хлопцев из Стрыя, каких-то «влюбленных на баррикадах», расписавшихся здесь. Площадь и до того была одним из излюбленных мест молодежи — даже когда здесь били не то в 500, не то в 5000 струй советские фонтаны. Но теперь Майдан приобрел для большинства киевлян и украинцев еще и сакральный смысл. В отличие от остального Крещатика, жизнь на нем продолжается большую часть суток — чуть не до утра, но об этом чуть позже и отдельно. Пивных павильонов, террас, ларьков на этой четной полукруглой стороне площади немерено. Хуже с туалетами. Биотуалетов я просто не видел, а в Макдоналдсе, выжившем отсюда единственный гастроном, дверь в туалет «закодирована» и открывается кодом на чеке. Ловко придумано: чтоб с улицы больше не ходили (тоже отголосок оранжевых событий).
С торца площади веером разбегаются шесть улиц — две параллельно Крещатику и четыре ведут в старый Верхний город, так что над площадью в отдалении виднеются позолоченные купола Святой Софии. Недурное градостроительное решение. Архистратиг Михаил, долго отсутствовавший, лет десять назад вернулся на площадь. Постояв на колонне над нулевой отметкой, он уже в новом веке перелетел на восстановленные Лядские, или Печерские, ворота, через которые проходила дорога из Верхнего города на Печерск. Архитекторы рассказали мне, что при постройке аналога подземного комплекса на Манежной, который зовется здесь «Глобус», действительно был обнаружен и срыт фундамент Лядских ворот. Чтобы реабилитироваться перед реставраторами и общественностью, срочно соорудили на этом же месте новодел. Надо сказать, выглядит он довольно неуклюже, поскольку расположен под углом к оси площади и боком прислонен ко вздувшемуся стеклянному пузырю «Глобуса».
Прежде чем перейти на другую сторону площади, стоит поговорить о подземном Киеве. Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что просвечивают какие-то очень архаичные слои украинского менталитета в том энтузиазме, с которым киевляне относятся к освоению подземного пространства. Что-то тянущееся от кладоискательства в скифских курганах и монашеских пещер лавры. Вскоре после пуска киевского метро и сооружения первого в Украине подземного перехода под Европейской площадью был построен разветвленный подземный переход под Крещатиком с торговыми точками и входами в метро — знаменитая Труба. Здесь к началу 1970-х пооткрывались «стекляшки», в которых можно было ночью выпить кофе и перекусить, будто ты не в скучном советском Киеве, а в каком-нибудь Нью-Йорке, где бурлит ночная жизнь. Кстати, и сегодня в Трубе популярны крошечные заведения, в которых очень прилично готовят вареники и драники.
Любопытно, что на другом конце Крещатика, также уже в новом веке, был сооружен еще один подземный торговый комплекс — «Метроград». Хотя против «Глобуса» он легковес — тесно, душно, низкие потолки, как и в переполненной Трубе. Так что «Глобус» пока что безусловный фаворит подземного Киева, за что его и полюбили киевляне, охотно гуляющие здесь, среди дорогих бутиков, фонтанов и кафе, переходя с яруса на ярус и устремляясь по подземной галерее в еще более просторный и фешенебельный «Глобус-2» на другой стороне Крещатика. В этом новом «Глобусе» — западные эскалаторы, стеклянный лифт, легко дышится, под самым куполом вертится самолетных размеров пропеллер вентилятора, а внизу варится прекрасный крепкий кофе, доллара за два, и есть столики, где можно курить.
Доминантой этой стороны Майдана, да и всей площади, является высоченная колонна с женской фигурой, символизирующей независимую Украину, — монумент Незалежности Украины, воздвигнутый уже в новом веке. Эстетически этот белоснежный камень с позолотой выглядит несравненно лучше простоявшего здесь последние четырнадцать советских лет десятиметрового Ильича из красного гранита под охраной четырех грозных бронзовых гигантов — матроса, солдата и работницы с рабочим, — охранявших заодно правительственную трибуну с членами ЦК уже вполне человеческих размеров. Сегодня здесь ступени, газоны, замечательный тротуарный фонтан, где в жаркие дни топчутся босые дети и молодежь, — небольшие прохладные гейзеры бьют здесь из-под ног, и радостный гомон стоит в воздухе, словно над детской площадкой. Здесь же описанный уже мной зверинец — с фотографированием за деньги с гадами, хищными птицами или катанием на печальном черном пони по кличке Барон. За монументом Незалежности вход под купол «Глобуса», а полукруглые каменные скамьи предназначены для меломанов — с галереи бывшей консерватории (теперь это оперная студия Национальной музакадемии) транслируют ненавязчивую, как правило, современную музыку. Положение центральной площади столицы, однако, обязывает, и в левом углу площади возвышается «эскорт» — четверо в одной лодке: князья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. А в правом углу — суровый бронзовый козачина с бандурой и прекрасно вылепленным конем. На народных картинках этот козак Мамай чаще всего лиричен, меланхоличен — здесь же он на державной службе и потому суров и грозен, как истинный степной ариец.
Вернемся все же на четную административную сторону Крещатика и пройдем ее до конца скорым шагом. А потом развернемся и возвратимся не спеша по бульварной стороне.
Боковой фасад Почтамта и следующее за ним административное здание образуют в месте изгиба Крещатика так называемую административную дугу, что очень украшает улицу (много скучнее было бы, если бы совсем недлинный Крещатик просматривался из конца в конец). Здесь удачно расположилось заведение «Шато» с пивоварней «Славутич», где разливают свежесваренное пиво — серебряное, золотое и платиновое, отличающиеся степенью дороговизны, но по причине кислого привкуса уступающие любому пиву, в том числе марки «Славутич», выпитому мною в Киеве. Получается, что платишь не за качество, а за антураж — но это повсеместное явление в украинской столице.
Две большие арки в 7-этажном здании открывают проходы к 4-этажному зданию государственной телерадиокомпании, уцелевшему с дореволюционных времен (для киевского уха «Крещатик, 26» звучит, как для уха коренного москвича звучала, наверное, «Шаболовка»). Во время оно по соседству находился «Гранд-отель», а при нем — один из магазинов кондитерской фирмы семейства Балабухов. Прославленное киевское «сухое варенье» этой фирмы (уваренные в сиропе цукаты, их так и звали иногда — «балабухами») считалось образцовым и стоило рубль за фунт. Его чуть не с XVIII века пудами закупали состоятельные гурманы и монархи Европы (как выясняется, бывшие изрядными сластенами). На углу Крещатика и Прорезной расположен телерадиокомитет, а до войны здесь стояло здание, спроектированное архитектором Городецким, — в 1941 году в нем расположилась немецкая комендатура. Его в числе первых и подорвали советские подпольщики 24 сентября — именно отсюда начал расползаться по Крещатику пожар, уничтоживший то, что не взлетело на воздух. Но более всего этот крещатицкий угол знаменит тем, что на нем «работал» Паниковский, если верить Ильфу с Петровым. Симпатичный памятник этому комическому персонажу, сыгранному в кино Зиновием Гердтом, установлен в сквере чуть выше по улице Прорезной, ведущей к Золотым воротам.
В этом месте через дорогу глядят друг на друга два жутковатых идентичных портика (считающиеся не столь удачными, как портик Почтамта) и два ультрамариновых киоска с золоченым растительным орнаментом, которым не откажешь даже в некой тяжеловесной извращенной стильности, какой полно на ВДНХ, — этакие безделушки сталинского Большого стиля. Кстати, киевские острословы гениально обыграли местный аналог ВДНХ, сократив «Выставку передового досвиду (опыта то есть)» до… «Выпердос»: «Поехали на Выпердосы!» (Прости мне, читатель, эту грубоватую шутку, которой захотелось поделиться, — не хмурься, здесь и не такое можно услышать.)
Следующий квартал Крещатика начинается с министерского здания с большим книжным магазином «Планета» внизу — раньше, помнится, здесь торговали книгами соцстран, и публика сюда ходила начитанная, все чем-то не удовлетворенная. В отличие от многих сегодня, я отлично помню чем. Дальше — чудом уцелевшее здание дореволюционного Внешторгбанка архитектора Лидваля. Если бы не фасад цвета серой пемзы или спекшегося вулканического пепла, оно смотрелось бы очень выигрышно, поскольку очень напоминает итальянские ренессансные палаццо и, как ни странно, не выламывается из застройки. И снова админздание с просторным магазином «Фарфор» на первом этаже. А дальше… палатки. Что за палатки? Революция же закончилась. Но нет, молодежь требует отставки городского головы Омельченки — главного «руйнатора» исторической застройки и злостного врага зеленых насаждений, чем-то мешающего ныне победителям (а ведь это он предоставил под их штабы Украинский дом и другие муниципальные помещения меньше года назад). Пока что это предложение голове и кому-то еще по-хорошему уйти в отставку, здание мэрии не блокируют — только около полудня устраивают малолюдный митинг с мегафонами на солнцепеке, а в остальное время парятся в синтетических палатках, где можно только спать или совещаться до опупения, — не сезон. Нашему Александру с его фототехникой опять не повезло: юный бунтарь обозвал его агентом СБУ (службы госбезопасности) и в крайнем раздражении скрылся в палатке. Александр недоумевал:
— Вы же вышли на площадь, у вас здесь политическая демонстрация — и вы против того, чтобы вас фотографировали?!
Однако не под натиском уличной демократии отступило вглубь квартала 10-этажное здание мэрии с арками по бокам, не уступающими высотой аркам на Тверской (улице Горького — вот она, «рука Москвы»), По замыслу послевоенных архитекторов, здесь должна была взметнуться к небу одна из высоток со шпилем, да не судьба.
Заканчивается квартал еще одним уцелевшим в войну и достроенным конструктивистским зданием ЦУМа. У входа в него, на углу растет неказистая липа, которой, по словам краеведа Макарова, лет полтораста. Зачем и как пощадили взрывы и пожары это единственное на Крещатике довоенное дерево — загадка. Снимите головные уборы, господа! Этой бы липе прочесть краткий курс истории и теории роста где-нибудь в Киево-Могилянской академии, где русский ученый Аверинцев, в связи с присуждением ему степени доктора «гонорис кауза» незадолго до смерти, вынужден был читать свою лекцию… на английском языке.
Необходимо сказать, что представлял собой прежде этот квартал между Прорезной и Фундуклеевской (в честь штатского губернатора Фундуклея), сегодняшней Богдана Хмельницкого. Здесь находился Старый, или Малый, пассаж, но своей популярностью у киевлян квартал обязан был огромному скоплению кинотеатров. Кино в Киеве знали с 1896 года, сюда приезжали сами братья Люмьер, братья Патэ десятилетие спустя открыли здесь свой филиал, здесь гастролировал в 1913 году комик Макс Линдер, тогда же познакомивший крещатицкую публику с «последним писком» — танго. Кино поначалу крутили в паноптикумах, цирках и ярмарочных балаганах (а на Крещатике их было немерено, особенно в праздники; кстати, в одном из них демонстрировали бородатую женщину Юлию Пастрану, мое поколение должно помнить ее по рисунку в советском школьном учебнике анатомии). Изысканную публику знакомили с новинкой в обычных театрах и ученых собраниях — как с волнующим аттракционом. Как только не называли эти первые кинопередвижки и иллюзионы в наспех приспособленных помещениях (вроде перестроечных видеосалонов): и электрохроматограф, и эдисоноскоп, и даже генеральный электробиограф. Только с появлением кинопроката возникли стационарные, специально оборудованные кинотеатры с наклонным полом (и в этом их отличие от «синематографов», а киносеансы — достижение уже советского времени). Самый большой из этих кинотеатров, на 1100 мест (это в 1912 году!), находился как раз на месте нынешней мэрии. Его владелец Шанцер еще «немного шил» — сам выпускал фильмы. Он нанял прославленного летчика Нестерова (чья «мертвая петля») пролететь на высоте полутора километров от Киева до Нежина с посадкой в Козельце, а его оператор заснял перелет на кинопленку — можно представить себе разинутые рты зрителей тех лет в течение этого получасового кинозрелища! Злые языки утверждают, что Шанцер работал на австро-венгерскую разведку — что ни доказать, ни опровергнуть сегодня невозможно, а, может, уже и не нужно.
Очень хорошо, что дома с № 40 по 52 признаны историко-архитектурными памятниками. Хотя последний, уцелевший практически целиком, квартал на правой стороне Крещатика несколько разочаровывает. Для мифа о «киевском ренессансе» и старом Крещатике было бы лучше, чтоб его взорвали в первую очередь. Типичная застройка рубежа XIX–XX веков, как в любом другом губернском городе. Но именно ее заурядность доказывает одну очень важную вещь.
Город — это не сумма более или мене удачных зданий, даже лучшие из которых рано или поздно превращаются в руины. Город — это даже не его обитатели, сегодня одни, завтра другие. Город всегда «в голове» — это некий замысел, который его обитатели пытаются осуществить сообща, часто об этом даже не подозревая, и когда их витальность и творческая энергия бьют ключом, самые заурядные декорации преображаются и расцветают. Выдерните фантастически окрашенную тропическую рыбку из родной среды, будто почтовую карточку, и через полчаса на воздухе она у вас посереет. Город — это постоянно меняющийся, разворачивающийся миф, сочинителями и действующими лицами которого мы все являемся (Городецкий со своими зданиями, Сикорский с моделью первого вертолета, Макаров с ворохом газет столетней давности, шеф-повар с тортом и парень с крокодильчиком — кто во что горазд).
Красочность истории с лихвой искупает архитектурную недостаточность Крещатика. На углу Крещатика и Фундуклеевской, где сегодня закрылся на ремонт гастроном «Центральный», столетие назад находились магазин швейных машинок американской фирмы «Зингер» и гостиница, где останавливались художник Врубель и без пяти минут гетман Скоропадский. Самое интересное здание в этом ряду — предпоследнее, занимаемое сегодня Театральным институтом им. Карпенко-Карого. После киевского еврейского погрома 1881 года здесь выступала актриса Сара Бернар, приглашенная из Парижа богатыми киевлянами, чтобы поддержать соплеменников (в зале на втором этаже, выделяющемся на фасаде непропорционально большими окнами). А в начале 1920-х здесь открылся муздрамтеатр имени композитора Лысенко, где некоторое время был деканом и вел занятия «украинский Мейерхольд» — Лесь Курбас.
Если вычесть из этих ветхих зданий их историю, что останется? Корчма «Козацька втиха (утеха)» в глубине двора, с запахами, доносящимися с кухни (а знакомый ресторатор советовал мне в таких случаях уходить немедленно: в хороших ресторанах запах должен исходить от блюда, а не из кухни). Я поискал вареничную «Старый Киев», о которой был много наслышан от ностальгирующих бывших киевлян. Заведение с таким названием в этом квартале я нашел легко. В середине дня зал его был пуст, не считая скучающего за столиком кавказца, который оказался буфетчиком и официантом в одном лице. Вареников не было вообще, а про свой борщ он отозвался так: «А что борщ — красный борщ он и в Африке борщ!» Двух его ответов мне хватило, чтоб развернуться и выйти вон, а ему — снова разочарованно плюхнуться на свой стул.
О, если бы этот борщ был красным, кисло-сладким, обжигающим, со всем, что ему положено! Увы, такой в Киеве мне не удалось съесть ни разу — даже в заведениях с неплохой репутацией. Отчего побурел украинский борщ? Почему повсеместно «киевской котлетой» зовется ее грубый муляж без всякой косточки? И отчего вареные раки у торговки на конотопском перроне вкуснее, чем у ресторанного повара в Киеве? Почему в 9 из 10 случаев у него не получается элементарная сочная свиная отбивная? Или здесь не рассчитывают, что вы придете или приедете еще раз? Официанты, по-прежнему нерасторопные, но уже вежливые, а повара — святых выноси, кулинарный техникум на практике. А ведь кухня — одна из опор жизни страны. Если немецкий пивовар или французский винодел нарушат технологию, их или посадят, или свои же оторвут им голову. Пригодился бы достоверный кулинарный гид по Киеву — да где ж его взять? Пользуясь случаем, я спросил Татьяну из «Палас-Ройяля» об одном из крещатицких ресторанов, куда подумывал заглянуть. Ответ ее был красноречив: «Если я его не знаю, он не может быть хорошим».
Вот и повод перейти к следующей главе.
Если Майдан — сердце Крещатика, то Бессарабская площадь с главным киевским рынков несомненно, его брюхо. Рассказывают, что ни по чему так не убиваются бывшие киевляне в Новом Свете, как по творожку «как на Бессарабке» и прочим украинским эксклюзивам. На Бессарабском рынке почти все они высшего качества, что подтверждается их ценой. Вообще-то, цены на всех киевских продуктовых рынках в этом году обогнали Московские на 30–50 % — и это на Украине, где земля гудит от плодородия и все растет, — киевляне глазам своим не верят. Но Бессарабка и в этом отношении чемпион — килограмм колбасы домашней выделки здесь стоил этим летом $ 20. С такой ценой, кстати, я сталкивался в Киеве до смешного часто. Столько же стоит такси из Борисполя (если, потооговавшись, снизить ее вдвое), в дождливую погоду — зонт в подземном переходе на Крещатике, в книжной лавке уцененный англо-украинский путеводитель по Киеву (лучший на сегодня, изданный в 2001 году львовским издательством «Центр Европы»). Логика такая: больше вряд ли дадут, но запросить стоит по максимуму, и сто гривен — самое то.
Под крышей Бессарабки чуть не половину площади занимают цветы и похожие на торты красивые букеты — за ними подъезжают к рынку представители фирм, для которых вопрос цены букета не стоит. Много красной и черной икры браконьерского вида — говорят, азовской. Для мяса и молокопродуктов места осталось чуть-чуть, в одном из углов идет ремонт. Нам с Александром удалось взглянуть на торговый зал сверху. Охранники подвели нас к директору рынка, и тот, слегка удивившись, любезно согласился проводить нас на галерею, где расположилась администрация. Он производил впечатление «человека на своем месте»: знающего и любящего свое дело и рабочее место, дорожащего собственным положением в городе и испытывающего скрытое удовольствие от всего этого. Все, что о рынке знал я, было ему известно: что по завещанию и на деньги сахарозаводчика Лазаря Бродского здание Бессарабского рынка в модном стиле модерн спроектировал варшавский архитектор Гай, а построил к 1912 году и насытил изобретательными стальными конструкциями киевский инженер Бобрусов (один из многих в Европе, завидовавших тогда белой завистью своему французскому коллеге Эйфелю, — так в Риге колоссальный крытый рынок уже в 1920-е годы соорудили… из разобранных конструкций ангаров для дирижаблей). Из окон галереи рынок смотрелся как произведение прикладного искусства. Директор с гордостью сказал, что высота от пола до потолка в центре зала 40 метров. Я спросил: а кто покупатели, новые украинцы? Он уклонился от ответа, сказав, что люди готовы платить за качество и что этот рынок никогда не был дешевым. Между тем это не так. Задрав голову, вы увидите на главном фасаде два рельефа с фигурами сельских жителей — крестьянина, везущего на волах товар в город, и разносчицы молока с десятком кувшинчиков на шесте, вроде коромысла. Молока в каждом было 0,4 литра, около фунта, горожанин прямо на улице выпивал прохладное молоко, возвращал кувшинчик и рассчитывался с босоногой наверняка крестьянкой. Сбоку от Бессарабки, перейдя дорогу, мы повстречали сегодняшних ее сестер из сел — прямо на крещатицком тротуаре они разложили свои овощи и фрукты, поскольку заплатить за место на рынке им не хватило бы дневной выручки. Неподалеку сидел на деревянном ящике мужчина с картонкой, на которой от руки было написано «Раки». Я поинтересовался: где же раки и почем? По $ 12 за килограмм, в багажнике машины вон там, в тени деревьев, можно пройти. Солнце уже припекало вовсю.
Но прежде, чем покинуть Бессарабскую площадь, стоит оглядеться кругом. Крещатик упирается здесь в очень импозантное здание в стиле французского неоренессанса, бывшее столетие назад гостиницей «Орион». Сегодня его слегка привели в порядок и сдают под офисы. Уже в новом веке за ним понастроила каких-то офисных башен австрийская фирма «Макулан», но самоустранилась, а новые владельцы никак не разберутся, что со всем этим хозяйством делать. В этом квартале родилась когда-то Голда Меир, чем киевляне гордятся, словно грузины Сталиным. Здесь же проживал Шолом-Алейхем, который хотя и дал в своих книгах Киеву малозвучное прозвище «Егупец», киевляне и ему в конце 90-х установили памятник.
Налево вниз отсюда уходит улица Бассейная (название подходящее — весь XIX век сюда устремлялись воды с Крещатика, из канавы в канаву, а затем в специально проложенную огромную трубу, через которую сбрасывались не то в Кловский поток, не то в Тартар, — в газетах писалось, как в трубу в ливень затягивало неосторожных прохожих с Крещатика, где они тонули; а «бессарабами» называли селившихся здесь бродяг и беглых — место то еще было).
Крещатик переливается здесь в узкую горловину улицы Червоноармейской (которая не выглядела бы такой тесной, не будь Крещатик на своей финишной прямой так широк — 130 метров!). А направо вверх круто поднимается в направлении вокзала бульвар Тараса Шевченко, обсаженный в два ряда тополями. Собственно, в этом и состоит изюминка, заставляющая меня здесь задержаться.
Из энциклопедии Макарова я выудил любопытнейший сюжет о ботанической войне между тополями и каштанами. Суть его вкратце такова. От изменения городского рельефа и ландшафта в первой половине XIX века пострадали в первую очередь деревья (в результате — пыльные бури, непролазная грязь и прочие прелести). В южных городах хорошо растет акация, деревце неказистое, низкорослое, дающее дырявую тень. Альтернативой могли стать липы (ау, Унтер-ден-Линден!) и вязы с их плотной тенью и шаровидной кроной — их сторонницей была гордума. Царизм в лице Николая I и его верного служаки, героя Бородино, однорукого генерал-губернатора Бибикова настаивал на тополях, которые тени почти не давали, зато хорошо строились в шеренги и придавали вертикальное измерение малоэтажной застройке (подобно кипарисам в средиземноморских городах). А вольнодумство киевлян проявлялось в упорном и злонамеренном высаживании ими конских каштанов — деревьев цивильного вида, в пору цветения похожих на букет, с кронами, волнующимися от дуновения ветра, словно женские юбки. Принимались указы, чиновники лишались постов, деревья вырубались и вновь насаждались. Уже в послевоенное время победу на Крещатике отпраздновали каштаны (дореволюционный Крещатик был почти гол). Но Бибиковский бульвар, сменивший название, не сдался и выстроился в торец Крещатику колонной тополей, которую возглавляет уцелевший памятник Ильича на цилиндрическом постаменте (трудно и даже невозможно представить его под сенью каштанов, согласитесь). Такие вот неслышные битвы кипят в городе — и на утомленной зноем плеши Бессарабской площади это бросается в глаза, как нигде в Киеве.
Благодаря густой каштановой аллее утренние прогулки по нечетной стороне Крещатика — просто роскошь. Покуда бульвар не переполняется народом. Тогда улица становится, в понимании большинства, оживленнее и живописнее, ну а для мизантропов вроде меня, отдельных снобов и самих жителей Крещатика — невыносимее. Однако положение обязывает нас гулять. Что ж, пошли.
Тесно расставленные под каштанами скамейки заняты отдыхающими людьми всех возрастов и состояний. На одной скамье солдатики в увольнении лопают мороженое и глазеют по сторонам. На другой — стайка девчонок, не обращая ни на кого внимания, громко обсуждает свои проблемы, попивает пиво и время от времени проверяет мобильники. На третьей скамье присели пенсионер, вытирающий потный лоб носовым платком, и бомж, оценивающий количество собранных бутылок-банок в своем пакете. Вот сухощавый старик тащит куда-то два «тещиных языка» в вазонах — один катит за собой в сумке на колесиках, другой прижимает к груди. Еще один бомж, облюбовавший Крещатик, сидя на поребрике, сосредоточенно читает журнал «Деловые люди». Продавщица соседнего лотка не выдерживает, обращается к нему: «Слушай, вода в Днепре уже теплая, ты бы сходил хоть искупался, что ли!» — но тот не слышит ее, статья журналиста его явно увлекла. Мне кто-то говорил, что крещатицкая разновидность бомжей воспряла и окрепла духом в ходе оранжевой революции, накормившей их досыта, обогревшей и приодевшей. На тротуаре часто встречаются электронные весы. Скучающая барышня периодически тычет пальцем в кнопку, и тогда механическим бодрым голосом они предлагают прохожим взвеситься, чтобы таким же голосом сообщить результат. Желающих немного. Перед аркой с выходом на Лютеранскую (когда-то здесь была немецкая колония, со своими школами, кирхами, конторами и пивными) два исполнителя брейк-данса в окружении плотного кольца молодежи извиваются на тротуаре на лопатках, будто укушенные змеей (я-то полагал, все уже позабыли этот лежачий танец перестроечных времен). Еще один парень что-то при этом говорил в мегафон. Говорят, на этом пятачке часто устраиваются всякие отборочные конкурсы самодеятельных исполнителей.
На ступенях под этой аркой я договорился в один из дней встретиться с любимцем киевской молодежи и местной артистической богемы, художником и драматургом Лесем Подервянским. Вот уж кто на Крещатике свой, проживший здесь за малыми вычетами все свои пятьдесят лет, крещатицкий денди с младых ногтей, входивший в круг чрезвычайно талантливых молодых художников, часть которых очень скоро перебралась в Москву. Росший в на редкость культурной семье, славой своей он обязан в первую очередь… матерным пьесам на украинско-русском суржике, местами гомерически смешным и часто с философским подтекстом (первая из них, написанная четверть века назад, называлась «Гамлет, или Феномен датского кацапизма»). А во-вторых — своей патрицианской внешности писаного красавца, в молодости — Аполлона, сегодня — тронутого увяданием путти или Купидона (качество скорее натурщика, чем художника, но молодые киевские журналистки млеют от одного его вида).
Мне хотелось взглянуть на Крещатик сверху, и Лесь согласился отвести нас с фотографом в мастерскую своего отца в мансардном этаже одного из зданий на Крещатике, в самом живописном месте на нечетной стороне улицы. Это одно из трех зданий наиболее удачного архитектурного ансамбля послевоенного Крещатика — дома № 23, 25, 27 архитектора А. Добровольского. Центральная высотка отступает вглубь и поднимается на гору, к ней ведут ломаные марши лестниц, а в горе спрятан грот с кафе и рестораном (был еще фонтан). Короля играет свита — и эскортом высотки симметрично застыли внизу два 11-этажных здания, массивных и стройных одновременно, с могучими и витиеватыми эркерами по углам, что делает их похожими на испанские галеоны.
В одно из этих зданий мы и поднялись на последний этаж. Внутри все выглядело не так роскошно, как снаружи. В подъезде попахивало, лифт тесный, какие-то двери с решетками — и то, что когда-то воспринималось как «Монмартр на Крещатике», сегодня явило свою природу областного худфонда или общаги с коридорной системой.
За тонкой дверью оказалась комната с неожиданно высоким потолком и такими же давно не мытыми окнами. На подоконник пришлось взбираться по лестнице, а оттуда уже через открытое окно выходить на разогретую крышу, залитую битумом и огражденную грубым подобием балюстрады. Вид отсюда открывался замечательный в обе стороны Крещатика, но мне отчего-то было невесело, а Александра огорчило освещение в этот вечер, и он почти не снимал. Поэтому мы скоро вернулись в душную мастерскую, где, обливаясь потом, распили фляжку коньяка. Поговорили о Швеции, где Лесь прожил год на гранте, о Киеве и Москве, об общих приятелях, об оранжевой революции, наконец. Лесь ее горячий сторонник и предсказывал такой сценарий за полгода до событий, когда никто не верил, что полмиллиона людей выйдет на улицы, — а вышло два миллиона, по его словам.
— Ты что, еще и политолог теперь? — спросил я.
— Та нет, я просто пророк, — отвечал он (вот он, фирменный киевский стеб).
После чего мы с ним немного попререкались, кто из нас больший пророк.
Лесь принялся расхваливать традиционную украинскую хату как экологически чистое жилье: глина, камыш, хозяин умирает, стены обрушиваются, земля всасывает и переваривает ее бренные останки, не оставляя никаких отходов и следов.
Я возразил:
— А способен ты представить себе город из таких хат?
На этом мы закончили спор и вышли немного пройтись по Крещатику. Уже через минуту повстречали каких-то знакомых Леся, пивших пиво за столиком на уличной террасе, но присоединяться не стали. Лесь признался мне, что сегодняшний плебейский Крещатик выносит с трудом и снимает с молодой женой квартиру на другом берегу Днепра, а сюда приезжает только навестить родителей. Вот если бы уличная оранжевая революция никогда не кончалась — другое дело, это было что-то! После этих слов мне сделалось совсем грустно. Напоследок Лесь показал мне закамуфлированный гастроном на этой стороне улицы, где я встал в очередь за сухим вином, чтобы вернуться в гостиничный номер и принять душ — июльский зной меня достал. Мы распрощались. Александр остался на улице дожидаться несказанного вечернего света в тротуарной толчее.
Кстати, в той «генеральской» высотке № 25 на Крещатике были и однокомнатные квартиры. В одной такой жил как раз генерал Макаров с семьей, отец будущего краеведа. Хрущев запретил своим указом надстраивать в числе прочих и эту высотку, зато предоставил генеральской семье двухкомнатную квартиру в «хрущобе» — можно представить себе, какой свирепствовал в стране жилищный голод.
На нечетной стороне улицы также кое-что сохранилось от старого Крещатика. Двухэтажный дом 27-А был флигельком в глубине двора за зданием «Интимного театра», где всходила когда-то звезда киевлянина Вертинского и одессита Утесова (Вейсбейна, как дотошно уточняет большинство киевских краеведов), выступавшего поначалу в разговорном жанре. По этому зданию можно судить, насколько уже был довоенный Крещатик. Сейчас его делят Союз журналистов Украины, с входом с Крещатика, и казино, с входом со двора. В крещатицких дворах меня удивило обилие машин с номерами вроде 1111, 2222, 5555, из чего я заключил, что иметь жилье на Крещатике по-прежнему считается престижным.
Помимо ансамбля с высоткой, эффектнее всего на нечетной стороне Крещатика смотрятся две великанские арки. Первая, высотой 5 этажей, с выходом на поднимающуюся вверх улицу Лютеранскую, и вторая, пониже, являющаяся входом в жилищно-торговый Пассаж, построенный в начале Первой мировой войны. По проекту немало поработавшего для Киева петербургского архитектора П. Андреева Пассаж должны были накрыть еще стеклянной крышей размером в полквартала, да не успели, не до того стало. Но Пассаж и без стеклянной крыши выглядит чрезвычайно солидно, на уровне аналогичной питерской или рижской ансамблевой застройки — где-то между эклектикой, неоклассицизмом и модерном (куча реминисценций, Большой стиль — каменный «Титаник» с прибамбасами, короче). Здесь было и есть самое элитное жилье на Крещатике. Здесь долго жил забулдыга-архитектор, окопный офицер и лауреат Сталинской премии по литературе, диссидент в берете Виктор Некрасов, эмигрировавший, когда стало окончательно ясно, что Крещатик в Монмартр, а Киев в Париж не превратятся никогда. Хотя кому нужны эти клоны «маленьких Парижей»? Крещатик есть Крещатик, есть Крещатик, есть Крещатик. И каким он будет завтра, мы можем еще догадываться, но уже послезавтра — только гадать.
Между упомянутыми двумя арками — здание 1960-х годов, не вписывающееся в общий стиль застройки. На первом его этаже был и остается вход на центральную станцию киевского метро «Крещатик», с замечательным плиточным панно в фойе — сочной абстракционистской вариацией мотивов народного искусства, орнаментальных и колористических. Когда-то моднейшее место — с мюзик-холлом и рестораном «Метро» (теперь с Макдоналдсом и «Эльдорадо»). Фарцовщики — в баре, богема — в стекляшке по соседству…
На слова «Крещатик», «Киев» нанизаны такие разные города и улицы, что только диву даешься. Где все эти крещатицкие иллюзионы, советские вареничные и кинотеатры? Где магазины поставщика двора ЕИВ (Его Императорского Величества) Брабеца, изготовлявшего, среди прочего, сейфы с самострелами от взломщиков и пищеизмельчители для беззубых? Кому что-то говорит сегодня имя Павла Германа, которого комиссары свозили в 1920 году на военный аэродром, и он сочинил для них текст «Авиамарша» («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»), а затем написал романс «Только раз бывают в жизни встречи» и «Кирпичики», прославившие Клавдию Шульженко? Где друзья-поэты Гумилев и Мандельштам, добывшие в Киеве жен — Аню Горенко и Надю Хазину? Где киевские философы Бердяев, Шестов и Булгаков — почему не на киевских кладбищах? Как и другой Булгаков, нанесший Киев на литературную карту мира? А были еще Скоропадский с Петлюрой, Серж Лифарь. Но не станем множить пустые вопросы. Я хотел только, чтобы читатель ощутил, какой вал времени проносится в каменных берегах Крещатика — и пока он легко вертит вами, как спичкой, вам не ощутить его сокрушительной мощи и скорости.