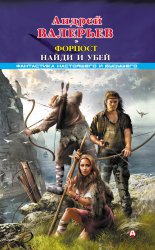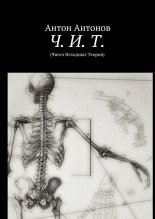Последний властитель Крыма (сборник) Воеводин Игорь

…Сотни, тысячи мужчин с выпученными глазами, с руками в карманах брюк, работая локтями в невероятной давке, пробивают себе дорогу к краткому и сомнительному счастью. Сорок с лишним публичных домов образуют спадающий вниз проход, толпа молчит и тяжело дышит, лишь крики торговцев рубашками, носками и часами раздаются вокруг.
Старые, кажущиеся ветхими здания, заплеванные лестницы, безобразные старухи с огромными грудями, говорящие на всех языках мира, рекламируют свой живой товар. Можно не опасаться языкового барьера – большинство девочек здесь из бывшего СССР, цена любви для самых истерзанных воздержанием (сколько оно длится? час? неделю?) от 5 долларов. За пятьдесят «зеленых» приличная девушка, наряженная школьницей, банты на русых волосах, гольфы, передник.
Узкий пенал, в который вмещаются топчан и душ за занавеской, вокруг в таких же загонах для скота, – вздохи и стоны, бормотания и взвизги.
Через час «мамаша» стукнет в щелястую дверь: или плати еще, или выметайся.
– Из Крыма я, – говорит девочка. – Ехала, думала, стриптиз будем танцевать, а как паспорт по приезде отобрали, так вот и танцую тут уже полгода…
– Откуда из Крыма?
Она смотрит на меня подозрительно: странный клиент, не лапает ее, не валит на топчан, не берет наскоро, задыхаясь. Что ему нужно, может, полицейский? Но полицейские сами сюда каждый день наведываются.
– Из Севастополя, – помедлив, отвечает она.
Я не полицейский. И уже не журналист. И не писатель. И не режиссер. И не ловец приключений, хотя последнее ближе. Я не могу объяснить сам себе, откуда во мне этот интерес, почему я преследую тень белого генерала, который год, как червь, роясь в архивах, как конь, бороздящий просторы Таврии, как больной манией подглядывания человек, страницу за страницей изучающий чужую жизнь. И все так же который год маячит впереди, то чуть ближе, то чуть дальше, высокая фигура в длинной кавалерийской шинели с грязевым подбоем, шаркающей походкой бредущая поодаль, почти рядом, в по-тустороннем прозрачном мире – бывший правитель Крыма, всадник и вешатель, генерал Яков Слащов.
Он иногда оборачивается и смотрит на меня, чуть усмехаясь, и идет дальше. И всегда рядом – фигурка поменьше, в кавалерийском полушубке, в папахе, из-под которой видны огромные глаза и полуулыбка, ободряющая и дарованная мне, когда она оборачивается, – спутник и невенчанная жена Нина, по спискам Белой армии проходящая как «мичман Нечволодов», личный адъютант и последний преданный генералу человек, дважды раненная и дважды спасавшая ему жизнь. Они бредут из ниоткуда в никуда, судимые и рядимые всеми, оболганные, поруганные, убитые, но не упокоившиеся – они не могут успокоиться, покуда неспокойно мне, а я им – седьмая вода на киселе, не родственник и не знакомец, никто, но я послушно бреду за ними поодаль, чуть левее, почти след в след, и только у них под ногами январский снежок 29-го года да скрип фонарей позади, а у меня – то крымская грязь, то незалежность в самостийной Украине, то московский бедлам, а сейчас – дощатые стены лупанария на Юксек-Калдырым, где русская девочка за пятьдесят баксов рассказывает мне, почем он, фунт лиха, и почем она, копеечка, и что такое для русских заграница, когда впереди – пусто, а позади ничего.
…И сквозь поток толстопузых мужчин с выпученными глазами, тяжело тащащихся сквозь ее пенал, по десять за ночь, нет-нет, да и мелькнет тень в шинели без погон, в черкеске без газырей, в сапогах без шпор, в застиранной гимнастерке или залатанном камуфляже ветераны каких войн, герои каких сражений, у которых также пусто и ничего. Они приходят сюда, но не с пятьюдесятью долларами, а с засаленной пятеркой, чтобы получить кусочек своего тепла и счастья, вдали от Родины, желая забыться и мечтая вернуться. Они приходят уже сто лет, иногда заглядывают и в храм, не очень понимая, в чем их вина, и не слишком веря в молитвы, и в бардаке потухшим взором смотрит на них русская девочка, в храме – русские святые, спасибо, Господи, хоть без укора, а в спину, через Черное море, через Европу и Азию, где бы они ни были, им молча смотрит Россия, и их счастье, если это выплаканные глаза матери, значит, еще есть куда и есть зачем возвращаться. Но чаиге Родина им смотрит вослед стылыми глазами пустых и заплеванных площадей, где на брусчатке – кровь и где им лгали – то с Лобного места, то с Мавзолея, призывая под знамена и продавая людские души и солдатские тела как самый ходовой, каждый год подрастающий вместо убиенных, свободно конвертируемый товар.
15 июня 1920 года, Северная Таврия
– Что Вы мне, поручик, «камуфлет» да «камуфлет»! – горячился Ла Форе. – Даму я вашу покрыл, пардон за скабрезность, как кобель сучку, или не покрыл? Так извольте платить!
– Идите вы к черту, – как всегда, слегка грассируя, тянул поручик Арсеньев, следя за обширной задницей хозяйки, ворочавшейся у печки. – Какой выигрыш, когда и деньги, и карты граната в воронку утянула?
– Так хоть водки ставьте! – не унимался тот, блестя глазами. – Карточный долг, господин поручик, – это вам не девок по хуторам прижимать.
– Господа офицеры! – вдруг крикнул Серебряный, растянувшийся на кровати и вмиг с нее соскочивший, левой рукой одергивая гимнастерку и правой застегивая ворот.
Вскочили и Арсеньев с Ла Форе, выпрямилась с ухватом в руках молодуха у печки. В хату входил шаркающий кавалерийской походкой, в длинной солдатской шинели с бурым грязевым подбоем последний правитель Крыма, вешатель и георгиевский кавалер, генерал Яков Александрович Слащов.
– Стул мне! – негромко приказал он, и мгновенно два казака подвинули ему огромное кожаное кресло, явно из господского дома, доставшееся хозяевам при дележе награбленного.
– Сидите, господа, – сказал генерал вытянувшимся офицерам. – Чайку в этом доме найдется?
Хозяйка охнула, засуетилась и через секунду подала на серебряном (господском?) подносике стаканчик самогону и ломоть крестьянского хлеба с толсто порубленным салом на дощечке.
Генерал выпил самогон механически, поморщился, отщипнул корочку посмачнее и отмахнулся от сала.
Хата постепенно наполнялась штабными, Ла Форе куда-то исчез, а Серебряный с Арсеньевым неловко чувствовали себя в присутствии командующего корпусом.
– Да вы не тушуйтесь, господа, – чуть улыбнувшись, сказал Слащов, я на минутку, пока авто мое починят…
Странная была его улыбка: бескровные, чуть раздвинувшиеся губы обнажили зубы, и тут же потухла улыбка, и гримаса какой-то внутренней, застарелой боли сменила ее, и генерал, как нахохлившаяся птица, ушел в себя, втянув голову в плечи.
Всем в хате стало тесно, повисла тишина, хозяйка старалась не шуметь, раздувая самовар, офицеры придумывали повод, чтобы исчезнуть, и лишь два казака за спиной генерала чувствовали себя относительно спокойно, но их взгляды из-под лохматых папах ясно говорили, что они зарежут и черта, если их любимому генералу будет угрожать хоть малейшая опасность.
Слащов сидел молча, глядя в скатерть с петухами, и не отреагировал, когда Арсеньев, прокашлявшись, спросил вполголоса:
– Ваше Высокопревосходительство, разрешите выйти в батарею?
Урядник глазами показал на дверь, и офицеры, как нашкодившие щенки, вырвались наружу, где в пыли молоденький шофер в английском френче возился у машин да конвойная сотня донцов, спешившись, перекуривала.
– Принесла нелегкая командующего, – сказал Арсеньев. – И надо ему было поломаться у нашей хаты!
– Да ладно вам, – улыбнулся Серебряный. – Не отобьет он вашу красавицу…
Арсеньев вскинулся, но тут подошел Ла Форе.
– Господа! Не желаете познакомиться с большевичком? Комиссара поймали, да немалого, с золотыми часами.
Артиллеристы и адъютант подошли к группе казачьих офицеров. Чуть поодаль, у самого автомобиля, стоял комиссар, весь в черной коже, но золотых часов и золотого же портсигара при нем уже не было.
Молодой подъесаул удивлялся:
– Почему среди убитых нет обезглавленных? Можно ли, господа, одним ударом отсечь голову? Видишь иногда прекрасные удары – череп рассечен наискось, а вот отрубленных голов не видал.
Старший офицер, приземистый подполковник, объяснил:
– Чтобы отрубить голову, вовсе не надо слишком сильного удара. Это вопрос положения, а не силы. Нужно находиться на том же уровне и рубить горизонтальным ударом. Если конный противник нагнется, он всегда нагибается, то горизонтальный удар невозможен. Пехоту же мы рубим сверху вниз… Эх, жаль, если бы подвернулся случай, я бы показал, как рубят голову.
– Простите, как ваша фамилия? – спросил Ла Форе комиссара. Тот протер круглые очки, откашлялся и сказал:
– Рубинштейн. Сергей Рубинштейн.
– Это что, композитор, что ли? – удивился Арсеньев, и кругом засмеялись. Улыбнулся и пленный.
– Нет, к композитору Антону Рубинштейну я не имею касательства, – сказал он. – Я закончил физический факультет Петербургского университета.
Кто-то удивленно присвистнул, и пленного окружили. Ему протянули папиросу, и он вертел ее в толстых пальцах, стесняясь попросить огоньку.
– То есть вы – человек образованный и в Бога, стало быть, не веруете, раз служите безбожной власти? – спросил Серебряный, впрочем, не испытывая к пленному никакой ненависти, а лишь отчасти любопытство.
Комиссар пожал плечами и стесненно улыбнулся.
– Видите ли… – сказал он. – Я прекрасно понимаю, что нахожусь отнюдь не среди единомышленников, но я считаю, что человек – существо исключительно физическое.
В этот момент Слащову доложили, что можно ехать, и он вышел на улицу. Все вытянулись, и даже комиссар подобрал живот. Слащов подошел вплотную и спросил у Ла Форе:
– Кто это и что он делает около моего автомобиля?
– Из штаба Жлобы, Ваше Высокопревосходительство, – почтительно доложил адъютант. – Мне думалось, вы захотите его допросить…
– Вовсе нет. У меня масса работы. Потрудитесь разобраться сами.
Слащов сел в автомобиль, пыль вырвалась из-под колес, и донская сотня по трое в ряд стала вливаться ему вслед.
– Вот случай, который напрашивается сам собой, – сказал пожилой.
Поручик Серебряный почувствовал, как у него пересохло во рту, он хотел крикнуть: «Не надо, прошу вас!» – но что-то похожее на любопытство, но уже более сильное, и неверие в происходящее одновременно подвели ему холодом живот и помешали.
Подполковник зашел за спину комиссара и сухим горизонтальным ударом отсек ему голову, которая покатилась на траву. Тело стояло еще секунду, потом рухнуло. Шея комиссара, толстая до того, вдруг сократилась в кулак, из нее выперло горло, и полилась черная кровь.
Ла Форе затошнило, и он бросился прочь. Все происходило без злобы, исключительно как демонстрация хорошего удара.
– Это что, – говорил пожилой. – Вот чтобы разрубить человека от плеча до поясницы, нужна сила. – Он вытер шашку о траву и сел на лошадь.
С гиканьем и свистом отставшие донцы бросились догонять сотню.
Серебряный и Арсеньев стояли посреди пыльной улицы, у их ног лежало обезглавленное тело, и два пехотинца уже вытряхивали комиссара из тужурки.
Офицеры вернулись в хату, Ла Форе молча подал им по стаканчику, и они выпили самогон, как воду. Несколько минут была тишина.
– А все-таки, господа, человек – тряпка, – произнес Арсеньев. – Ну, что вы скуксились, господа офицеры? Он еще дешево отделался. Небось, красные бы наши души за просто так на тот свет не отпустили… Хозяйка, – крикнул он, – наливай! Да пожарь яишню, что ли…
– А я вам куренка варю! – приветливо отвечала казачка, стреляя глазами из-под платка.
– Да что нам на троих твой куренок? – грассировал Арсеньев, заходя к ней на кухню и задергивая за собой занавеску. – Он, небось, не такой, как ты, упитанный?
В кухоньке что-то звякнуло и загремело, послышался взвизг хозяйки.
– Знаете, поручик, что я каждый раз забываю сделать, когда вижу казни? – спросил Серебряный. – Надо бы в лицо смотреть, чтобы видеть, как родит жизнь, а я забываю. Или боюсь, – добавил он через минуту.
…Казачка и Арсеньев куда-то делись из хаты. Куренок закипал, и аромат бульона щекотал ноздри все сильней. Серебряный смотрел в окно. Пехотинцы еще возились у трупа. Наконец один, вынув папиросу из пальцев комиссара, заложил ее себе за ухо, и они, взяв обезглавленного за разутые ноги, потащили в проулок, на зады, где пленные красные закапывали своих расстрелянных товарищей под присмотром седого казака. Кровь мгновенно скатывалась в мягкой дорожной пыли в шарики, и они тянулись становящейся все уже тропкой за обезглавленным телом. А где-то на окраине уже жарила вовсю гармошка, слышались посвисты да притоптывания, и в послеполуденном мареве разносилось:
- Барыня, барыня!
- Сударыня, барыня!
20 сентября 1919 года, госпиталь II армейского корпуса
…Все затихло в госпитале, и ночь вступила в свои владения. Кто-то из раненых забылся спасительным сном, кто-то с ужасом ждал темноты, чувствуя, что в этот раз ее не переживет. Странно, смерти меньше боятся днем, может, потому, что кругом люди, а на миру и смерть красна… Ночью же ты остаешься с ней один на один, и некому помочь, и некого позвать, и душащий полусон-полукошмар опрокидывает навзничь, и от пота намокает подушка, и странные образы подступают из темноты, и ты дрожишь, и нет сил молиться – ты ведь спишь, нет сил бежать – ноги вязнут, как в глине, ты кричишь, но из отверзтого рта доносится лишь стон, не слышный никому, и черти рвут тебя крючьями за жизнь твою и волокут в бездну, и спит, спит, не слышит старая санитарка в коридоре у лампы, и нет шкачы измерить твой ужас – а ведь это только повысилась температура…
Койка Нины Николаевны стояла у самого окна во флигеле старинного особняка. Две соседние койки были пусты – не потому, что личному адъютанту командующего корпусом предоставили отдельную палату. Просто жена полковника Ставского, страдавшая камнями в почках, выписалась накануне, и больше никто не поступал.
Генерал сидел рядом с койкой на табурете. Слабый, успокаивающий свет ночника выписывал в полумраке раскрасневшееся лицо Нины Николаевны, жар уже спал, но глаза еще блестели лихорадкой и тревогой.
Сделав укол морфия, ушла сестра. Рана в ноге была не опасна, но Нина потеряла много крови, и врачи опасались антонова огня.
Слащов держал подстаканник обеими руками и изредка делал глоток-другой остывающего чая.
– Яков… – позвала Нина, – я же тебя совершенно не знаю, какой ты в нормальной жизни… Мы с тобой только воюем, кажется, это было и будет всегда… А я хочу знать тебя другим, не ожесточенным, не усталым, а просто – человеком…
Слащов улыбнулся, и Нина Николаевна поразилась не тому, что генерал улыбнулся впервые, наверное, за многие месяцы, а тому, что улыбка его была и горька, и болезненна, и напоминала скорее судорогу.
– Странное дело – память, – произнес Слащов. – Почему-то вспомнил сейчас себя маленьким… Впрочем, хочешь, расскажу?
Нина положила ему ладонь на запястье, генерал поставил чай на вечную больничную тумбочку и весь собрался, ушел в себя, вспоминая.
– 1898-й, бабушкино имение Покровское под Петербургом. В имении когда-то бывало много гостей. Мне было лет четырнадцать… Помню, что тем летом между гостями был офицер Терского казачьего войска Зеленый. Он носил черкеску с кинжалом. Сначала избегал верховой езды, но потом привез свое казачье седло и оказался хорошим наездником.
– Почему же вы раньше не ездили? – спросил его я.
– Не хотел садиться в штатское седло. Это «штатское» было произнесено с презрением, а седло на самом деле было хорошим, английским.
Зеленого – понятно, в его отсутствие – мужчины называли дикарем и полуразбойником. А дамы рыцарем без страха и упрека. Конюхи же считали джигитом, и их мнение было для меня решающим…
Он заметил мое обожание и как-то, когда поблизости никого не было, показал свой кинжал. Кстати, когда его просили показать клинок взрослые, он отвечал: «Это не игрушка и не забава, а оружие. Обнажать его можно только для удара…» И все поспешно отходили…
Но мне он улыбнулся и, протягивая кинжал, сказал:
– Посмотри хорошенько. Ты нечасто увидишь подобный клинок. Это кара-табан, старый и редкий.
Сталь была темная, как бы в волнах. Меня предупредили не хвалить ни одну из вещей Зеленого, потому что по кавказскому обычаю он должен будет мне эту вещь подарить. Красивая традиция – забылась из-за того, что люди ей злоупотребляли…
– Где вы его купили, господин хорунжий?
Он сверкнул глазами и вложил кинжал в ножны.
– Я не армянин, чтобы покупать оружие.
Поняв, что сказал бестактность, я покраснел. Он заметил, взял меня за руки и сказал:
– Запомни на всю жизнь: оружие не покупают, а достают.
– Как?
– Получают в наследство, в подарок, крадут, берут у врага в бою, но никогда не покупают. Это было бы позором.
– А разве красть не стыдно?
– Нет. Украсть коня, оружие или женщину вовсе не позорно. Наоборот… Но ты слишком мал еще, иди играть…
– А коня? Как достать коня?
Он снова сел:
– Коня? Можно получить его от отца, в подарок. Можно даже купить. Да, купить, как жену. Случается часто. Но его и воруют или обменивают. За хорошего коня можно отдать персидский ковер или даже приличную шашку. Но лучший способ взять коня – это в бою. Я взял одного кабардинского жеребца, красавца, каракового. Звали его Шайтан, он им и был. Когда я на него садился, было чувство, что крылья вырастают.
И он замолчал.
– А что же с ним сталось? Он у вас еще? – донимал его я. Зеленый не шелохнулся. Я думал, он меня не слыхал. Но после молчания, со взглядом, все тонущим в пространстве, он нехотя обронил:
– Нет его у меня… Я его обменял…
– На что? – изумился я.
– На женщину.
Он встал и пошел. Вдруг вернулся, взял опять меня за руки и заговорил, обжигая глазами:
– Если тебе когда-нибудь придется выбирать между женщиной и конем, возьми коня.
И он ушел, оставив меня как зачарованного.
Я ни словом не обмолвился родителям. Понял, что это значительный разговор. Да, видишь, он и запомнился на всю жизнь…
И генерал замолчал, но морщины его, и «гусиные лапки» возле глаз, и складка вокруг всегда упрямо сжатого рта как будто слегка разгладились.
Тихо было в госпитале. Только капала равномерно вода из неплотно прикрытого крана в перевязочной, да чуть поскрипывали половицы старого, дубового, помнящего лучшие времена рассохшегося паркета, да еле слышно шушукались за обоями мыши, совещаясь, отважиться на вылазку за хлебными крошками или погодить.
– А я? – блестя глазами и волнуясь, спросила Нина. – За меня ты отдал бы коня, генерал?
Слащов посмотрел ей прямо в глаза.
– Да, – уронил он, помедлив.
22 февраля 1918 года, Ставропольская губерния, село Лежанка. Первый бой Белой гвардии
Бум-бах! – шрапнель красных разорвалась слишком высоко, чтобы причинить ущерб кому-нибудь. Части 39-й пехотной дивизии, стоявшие в Лежанке, были распропагандированы большевиками и только что бросили Турецкий фронт под Эрзерумом. Но офицеры не снимали погон, дисциплина сохранялась, вот только грабежи и насилие над населением уже принимали масштабы, характерные для полностью красных частей.
– Заряжай! К бою! – Офицеры-артиллеристы 39-й дивизии нервничали. Впереди, на гребне высоты, лежали такие же русские люди в погонах, в такой же форме, но оставшиеся верными… кому? Или чему?
– Огонь!
И снова «журавель», шрапнель рвется высоко, не может рука не дрожать и бить прицельно – свои же, русские…
– Заряжай!
…Офицерский полк перевалил через гребень и в походном строю, колонной, двинулся к Лежанке. Расстояние до села, раскинувшегося на той стороне реки Средний Егорлык, было около двух километров, и потому начавшаяся стихийно ружейная и пулеметная пальба красных не могла пока наделать серьезных бед.
– Замело тебя снегом, Рос…сия! – сквозь зубы, так, чтобы было слышно ему одному, не напевал – бормотал себе под нос генерал Марков, шагая впереди полка метров на пятьдесят. – Замело тебя…
– Раз! И-ряз! И-ряз, два, три! – мерно раздавалось сзади. Это взводный капитан Згривец, из солдат отсчитывает шаг, задавая тон всему движению: – И-ряз!
Марков, в неизменной белой папахе, видной отовсюду, вызывал на себя все усиливающийся огонь.
Бум-барах, б-бах! Наконец офицеры 39-й справились с волнением и стали более точны. Когда после боя, у стенки, их спросят, почему вдруг они стали стрелять точнее, их командир ответит Корнилову:
– Профессиональная привычка…
Марков идет в атаку с нагайкой. Отбивая шаг, он хлещет себя по правому сапогу:
Замело тебя снегом, Рос…сия! – Сергей Леонидович! – доносится до него голос полковника Тимановского. – Расстояние – верста!
Марков остановился и повернулся к колонне.
– Полк! Слушай мою команду! – перекрывая пальбу, разнесся над весенним полем его голос. И под дублирующие команды ротных и взводных он снова повернулся к Лежанке, чтобы не быть убитым в спину.
Маркова убьют еще не сегодня. И ни один человек из вышедших в Ледяной поход трех тысяч офицеров, юнкеров, кадетов, студентов, штатских, сестер милосердия и врачей не будет убит в спину за эти два месяца. Будут зарубленные топорами, будут расчлененные заживо, будут со снятой кожей, но побежавших не будет.
Полк, развернувшись цепью, по-прежнему с винтовками за плечами, впечатывает сапоги в грязь. Стрельба со стороны Лежанки все усиливается, и пули свистят прямо над головами.
Марков, достав портсигар, закуривает на ходу «Боже мой, – мелькнуло в голове Сергея Леонидовича, – какое же все-таки идиотское название у этих папирос – “Бим-бом”!» и машет рукой Тимановскому:
– Командуйте!
– Винтовки к бою! – раздается сиплый голос полковника, команды дублируются, и ряд штыков, покачнувшись, ложится под углом в сторону красных.
– Юнкер Пржевальский, поручик Якушев, – шипит капитан Згривец. – Чтобы шинельки кавалерийские обрезали по-пехотному после боя! – Он морщится, глядя, как ломают строй эти двое, путаясь в полах и еле выдирая сапоги с «малиновыми» шпорами из егорлыкской грязи.
– И шпоры, господа, к черту в задницу! – добавляет он.
«Бим-бом! Бим-бом! Бим-бом! – отсчитывает шаг Марков нагайкой по сапогу – Боже мой, что мне мерещится!»
Через триста метров – спасительные камыши, за ними – огороды с окопами красных и село. Ноги невольно убыстряют шаг, потому что уже невозможно идти вот так, смерти в лоб, через весеннее поле, по просыпающейся земле, готовой жить, идти в боевом порядке, с винтовкой наперевес, из ниоткуда в никуда, вопреки отчаянно бьющейся в висках мысли: «Жить, жить, жить, о Господи, жить! Что же это такое, жить!» – под не ломающийся, только чуть-чуть, самую малость убыстрившийся счет Згривца:
– И-рряз, ряз, ряз, два, три!
Несколько шрапнелей батареи полковника Миончинского заставляют умолкнуть артиллерию красных, и вот уже первые цепи Офицерского полка достигают спасительных камышей, но собрались с духом и красные, стрельба стала осмысленней, и верхушки камышей срезает будто серпом.
Командир 3-го взвода первой роты капитан Згривец был слишком далеко и от Маркова, и от Тимановского, чтобы слышать их команды о перегруппировке атаки на мост. И взвод прямиком через камыши пошел к реке, задыхаясь, утопая по пояс в плавнях.
Маленький Ла Форе в кадетской курточке с юнкерскими погонами (шинель он перед боем оставил Маше Мерсье, которую отпаивала чаем сестра Варя, – Маша температурила) вяз по грудь и захлебывался, проваливаясь все глубже и поднимая винтовку над головой. У поручика Арсеньева сбило фуражку, а поручик Мяч, больше всего на свете и в Мировую, и в Гражданскую войну боявшийся получить пулю в пах и прикрывавший это место в момент атаки котелком, услышав, как что-то звякнуло, достал из пробитого котелка винтовочную пулю и с изумлением показывал ее тяжело дышащим офицерам.
– Вы бы, господин поручик, свое достоинство ротным котлом, а не котелком прикрывали, – под общий смех и неодобрительное ворчание Згривца сказал Серебряный обескураженному поручику, – маловат котелок-то!
Взвод оказался на чистой воде, и от пуль красных вода вскипела. До камышей противоположного берега было всего метров двадцать, но положение офицеров казалось почти безнадежным – Егорлык имел слишком илистое дно, и ноги уходили в него до колен.
Красные расстреливали взвод, как на учениях, почти все были ранены, но каким-то чудом никто пока не убит.
Двадцать человек, почти мальчишки, из которых всего шестеро воевали прежде, рвались к берегу. Не оставалось в душах ничего, даже страха, который мог парализовать волю, ни темного ужаса перед бездной, ничего, только одно билось в висках: «Господи, жить!»
Пуля ударила Сергея Серебряного в плечо, другая проделала вечный пробор в волосах. Он сразу не понял, что случилось, почему вдруг стало так тихо и почему он на всем бегу, задыхаясь, больше не выдирает ноги из илистого дна Егорлыка, а, нелепо взмахнув руками, уронив в воду винтовку, медленно поворачивается вокруг своей оси и видит потемневшую от пота тужурку Ла Форе, мокрый по пояс снизу, он мокр теперь и сверху, и от спины валит пар… и почему так приближается вода, вскипающая от пуль, и что это красное несет Егорлык?
Поручик рухнул в воду и из-под воды, зеленой, темнеющей, видел, как пули прошивали поверхность реки и, потеряв силу, оставляя за собой след захваченного в воздухе кислорода, медленно опускались к нему, совсем нестрашные, и поручику захотелось поймать одну из них рукой: вот рассказов будет потом в полку – рукой пулю поймал, почище, чем котелок у Мяча! Но тут же пришла ясность, что никакого полка больше не будет, что он все глубже опускается в эту темно-зеленую глубь, и поручику мучительно захотелось рыдать и кричать от этой нечеловеческой несправедливости, он же никого не убил, он даже ни разу не выстрелил, и он так молод, Господи, так молод, почему же, за что же эта темно-зеленая бездна, и навсегда, и там – ничего?! Как же так ничего?!
Он забился в ужасе, в смертном ознобе, в нечеловеческом напряжении и отрицании того, что происходило, что свершалось, грубо, наплевательски по отношению к его душе, к его доброте и деликатности, к его любви к жизни и к людям, к его неспособности сделать что-либо плохое и к его такому детскому, такому чистому, такому само собой разумеющемуся желанию делать только хорошее, и чтобы всем было хорошо – как же так, вот так, безжалостно и навсегда?!
Последней мыслью поручика Сергея Серебряного было: «Боже! Уж лучше в ад, чем ничего!» В следующий миг он потерял сознание, захлебнувшись в последнем крике мутными илистыми водами взбаламученного Егорлыка.
И еще через секунду его мощным рывком вытащил на поверхность капитан Згривец, и двое офицеров, подхватив обмякшее тело поручика под мышки, дотащили его до берега, где засели красные, и бросили ниц – повезет, так вода вытечет, нет – возиться пока некогда. Оставшиеся в строю, израненные, бросились на окопы, где засели сотни красных, в штыки, так и не сделав пока ни единого выстрела.
Красных при виде этих демонов, от которых валил пар, как от жеребцов, истекающих кровью, но не падающих, страшных, охватила паника, и они бросились в Лежанку, оставив пулеметы. Офицеры, обезумев, гнали их, как стадо, коля штыками и сваливая выстрелами, и все пространство перед селом было занято убегавшей пехотой 39-й дивизии, и русские люди гнали русских же, ничего не разбирая и никого не щадя, и трупы усеяли поле.
Перед самым селом к убегавшим красным подскакали двое верховых в погонах. Один из них, прапорщик Варнавинского полка барон Лисовский, кричал:
– Товарищи! Собирайтесь на Соборную гору! Кадеты штурмуют мост!
Дружный залп белых заглушил его крик.
Прапорщик, совсем мальчик, упал навзничь, его хилая грудь дернулась пару раз и, казалось, хрустнула, когда, прыгая через него, его задел кто-то из офицеров. Лицо, еще незнакомое с бритвой, хранило гримасу удивления: как же так, господа? Но ведь это же все не всерьез? Правда, не всерьез?
Прыгавшим через него казалось, что он сейчас встанет и рассмеется, и, тряхнув головой, скажет: «Надо же, господа! Мне сейчас та-а-кое помстилось, господа, вы не поверите!»
Но черная кровь, вытекавшая из шеи и с правой стороны живота из крохотных, по виду совсем не страшных дырочек, и полудетская рука, сжавшая ком черной грязи и не захотевшая больше разжаться, говорили об обратном.
Он затих, и только в его широко распахнутых серых глазах все отражались перемахивавшие через него люди в шинелях с развевающимися полами, как диковинные и злые, но ему теперь уже совсем не страшные птицы, – это подтянулись на выручку взводу капитана Згривца вторая и третья роты. Вечером, после боя, Згривцу принесут письмо и фотографию девушки, найденные в карманах прапорщика.
Письмо было по-французски, капитан, который и русской грамотой владел не очень, приказал Ла Форе перевести письмо, и тот, прочитав, первые слова: «Mon ami!», залился никому, впрочем, в полутьме у костра не видимыми слезами, ибо барон Борис Лисовский был его товарищем и по детским играм, и по корпусу кадетов, где, учась на год старше, был наставником Ла Форе и защищал того от цуканья. Девушку же юнкер знал тоже и даже шармировал и пожимал ей ручку в атласной перчатке на балу в Смольном, и, слушая во время вальса ее учащенное дыхание, понимал, что она никак не может выбрать между ними двумя. И вот она выбрала.
11 сентября 1995 года, Нассау, Багамские острова
Казино отеля «Mariott» считается самым крутым в Нассау. Настолько крутым, что каждую ночь, отправляясь играть, мне приходилось напяливать джинсы вместо шорт.
Одно из самых экзотических путешествий моей жизни выглядело нелепым: с утра я купался в зеленом Карибском море и садился за покер. С обеда, когда просыпалась она, я начинал пить и выяснять с ней отношения. К вечеру я отправлялся играть и падал, отрубаясь, часов в пять утра. В день я высасывал литр – полтора Jack Daniel's да пол-литра Hennessy, на сорокаградусной жаре разбирало быстро. Правда, быстро и улетучивалось: полчаса по волнам на скутере вдоль крохотных необитаемых островов – и как новенький.
Ну да еще, может, пол-литра – литр Baccardi, но он ведь пьется с колой и льдом, так что можно и не считать, так, водичка… Это продолжалось уже недели две, а поскольку спал я часа по два в сутки, то можно представить, что иногда я начинал советь прямо в казино.
Да еще эта пышнозадая негритянка с подносом коньяка появлялась тут как тут, стоило мне выиграть 300–400 баксов, она вырастала за моей спиной, как Немезида, и уже не уходила из мозгов, как Клеопатра.
Потом мне люди добрые объяснили, что так казино ломало игру, но в тот вечер я проигрался и сам, и ломать мне было нечего.
– Faitez votre jeux, madames et monsieurs (Делайте ваши ставки, господа – франц.), – пела крупье. – Rien ne va plus, merci… (Ставок больше нет – франц.)
Костяной шарик перестал слушаться моих мыслей и упорно ложился не туда. Rouje et noir, zero, merde… (Красное, черное, зеро, дерьмо – франц.) Rien ne va plus, merci (Ставок больше нет – франц.), давай сюда свой коньяк, черная задница…
Огромное помещение казино, более похожее на стадион, заставленный столами и автоматами, внезапно заполонила лощеная толпа негров – мужчины, худые и высокие, были, как один, в смокингах, их породистые длинноногие женщины в блестящих вечерних платьях, облегающих фигуры, как лайковые перчатки.
– Это выборы мисс Багамы, – улыбнулась мне седовласая дама в легком летнем и явно сумасшедше дорогом костюме, и я даже не сразу сообразил, что она говорит по-русски.
– tez vous russe? (Вы русская? – франц.) – задал я идиотский вопрос. Впрочем, мне было простительно – русских, кроме тех, с кем я приехал, я не видел уже давно, а в тот день, кажется, я положил на обе лопатки не только пару jack’ов, а еще пару-тройку его весело шагающих шотландских друзей.
Врут все, господа, что те, кто пьет скотч, в рот не берет бурбон. Не про русских это сказано… Да, о чем это я?
Ах, да. «Мисс Багамы», – сказала эта старушка, а черно-пышнозадая официантка с подносом коньяка вдруг потеряла ко мне всякий интерес. Ну откуда ей, сучке, знать, может, я сниму сейчас с карточки еще штуку? Но ведь знает – не сниму…
Старушенция подняла приветственно свой стакан с виски, я поднял свой, и она, что-то сказав своим спутникам, переместилась на соседний со мной стул.
Не помню, сказал я или нет, что от стола с рулеткой я уже давно переместился в бар для Ожидающих Лучших Времен и оттуда следил, как проигрывает наши последние деньги в Black Jack моя подруга. Как ее звали? Да нет, блин, не подругу, такое не забудешь, старушенцию, говорю, как звали?
– Елизавета Петровна Остальская, – протянув мне руку, сказала она и добавила: – Боже мой! Я уже лет тридцать не произносила этого по-русски!
Океан рычал и бросался грудью на пляжи и пальмы. Мы сидели на веранде «Мариотта», за нашей спиной плакал и жаловался на судьбу саксофон, мисс Багамы, пьяную до бесчувствия, давно уволокли в лимузине трое каких-то шведов, а я, слушая женщину в костюме от Valentino, все пил, но меня уже не брало.
Иногда я извинялся, потому что влажная жара начинала ломать меня, спускался на пляж и, скинув джинсы, кидался в волны. Плавок на мне не было, но не это приковывало ко мне внимание полуночников. Голыми там были все, просто мой зад был единственным белым и сиял под луной островком России среди теплых, но кишащих разными тварями не наших морей.
Я возвращался, и седая женщина запивала ирландским виски какие-то таблетки («А, ерунда, не обращайте внимания, мой друг, просто возраст, а я сегодня так взволнована, я уже не помню, когда последний раз говорила с соотечественниками»).
– Я родилась, – говорила она, – в декабре 1918 года в Ростовена-Дону. Я никогда не видела ни мать, ни отца – отец еще до моего рождения погиб в Ледяном походе, а мать, отлежавшись после родов и так ни разу не дав мне грудь, оставила меня своим родителям – дедушка был врач – и ушла назад, в армию, в Корниловский полк, и ее тоже убили… Потом – эмиграция вместе со всеми, оставаться нам было нельзя, расстреляли бы из-за меня и дедушку с бабушкой… Впрочем, вы ведь из России, может быть, вам кажется, могло быть иначе, может, это все слухи эмиграционные? – Она пытливо смотрит мне в глаза и ждет, и что ей сказать? Что напрасно ее увезли? Ох, боюсь, не напрасно, хотя с младенцами Советская власть не воевала…
– Вы что-нибудь, Елизавета Петровна, знаете о ваших родителях?
Она горько хмурится, потом пьет:
– Знаю только то, что рассказывали деду в штабе полка, и потом, в эмиграции, находились свидетели. Вот слушайте.
4 марта 1918 года, Кубань, станица Кореновская
Бронепоезд Красных войск главковерха Сорокина «Смерть буржуям» стоял у моста, на высокой железнодорожной насыпи, и в упор из башенных орудий расстреливал наступающую на него в лоб 4-ю роту Корниловского полка.
В версте от полотна, возле стога, наблюдал за происходящим, в бессилии ломая пальцы, сам Лавр Корнилов. Резервов больше не было, даже из его личной конвойной сотни текинцев оставалось всего семь человек, тех самых, что пришли с ним с фронта, что не предали, и он никогда не посылал их в бой, этих семерых, если не возглавлял атаку сам.
Бронепоезд бил шрапнелями в упор, каждый залп вырывал из кучки бегущих с гранатами в руках к стальному чудовищу несколько душ, и только они знают, что это такое – наступать в лоб на орудие главного калибра, методично, раз в полминуты, выплевывающее смерть прямо в лицо.
Слава Господу что бронепоезд стоял высоко, а пехота бежала низом, иначе на всю роту было бы достаточно одного залпа…
Слезы текли по калмыцкому лицу Корнилова, старик текинец, расстелив одеяло у его ног, молился на восток.
Зеленое знамя текинцев и их малиновые шаровары – это были единственные цветные пятна того сумрачного дня.
Бисмилля-у-иль-раха-иль-рахим, нараспев тянул старик, и в этот момент прямо под колесами бронепоезда взорвались гранаты. Несколько человек, уцелевших под шрапнелью сорокинского бронепоезда, сделали свое дело, и атака сорокинцев захлебнулась.
Бронепоезд перестал стрелять даже из пулеметов и торопливо отошел за мост. Впрочем, остановившись через версту, он сосредоточил свой огонь на мосту, который оседлал пулеметный взвод Офицерского полка.
Белые переходили реку, победа была почти полной, но преследовать сорокинцев не было сил – потери корниловцев в атаке составили до 150 человек убитыми и ранеными, и это не считая потерь в Юнкерском и Офицерском полках…
Два залпа артиллерии бронепоезда – и от пулеметного взвода не осталось почти никого. Атака захлебнулась, белые залегли, и только те, что форсировали реку, продолжали движение вперед.
Поручик Остальский был ранен в живот, его друг и однокашник еще по Николаевскому училищу поручик Корнецов – в голову, и, сжимая ее руками, он мычал и свертывался в узел.
Несколько офицеров-корниловцев с черными от пороховой гари лицами толпились рядом, не стрелял и бронепоезд.
Капитан Ткаченко, стоя на коленях, пытался отжать пальцы от головы Корнецов, чтобы увидеть рану, но тот не давался и все мычал, и тыкался головой в грязь, и алая кровь все сочилась меж пальцев.
Остальский медленно открыл глаза. Перед ним, без папахи, с перепачканным порохом, грязью и слезами лицом на коленях стояла Шура Рогова, его невеста, прапорщик пулеметной команды. Чуть поодаль, теребя в руках наган, жался его приятель – прапорщик Офицерского полка Рейнгардт.
– Прощай, Шура, – одними губами, белыми от кровопотери, прошептал Остальский, – не хочу быть помехой в обозе.
– Юра! – позвал он через секунду Рейнгардта, из последних сил зажимая жуткую рану в животе. – Дострели нас, голубчик.
Тот в испуге замотал головой и отступил на шаг.
– Стреляй же, браток, стреляй же, сука, – шептал Остальский, – ну же, Юра, давай, больше невмочь…
И тогда Шура, вытащив свой наган, поцеловала в губы Остальского и, положив руку на плечо Корнецову, добила его в висок. Затем, глядя прямо в глаза Остальскому, приставила дуло к его голове.
В ее глазах сейчас не было ни слез, ни боли. Была одна сухая решимость и то, что, наверное, зовется любовью, ибо без истинной любви нельзя и убить – так, глаза в глаза.
– Стреляю? – спросила она одними глазами, и поручик, чуть улыбнувшись ей благодарно, опустил веки.