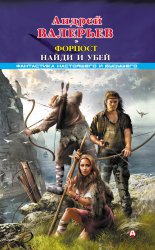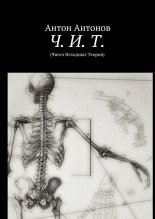Последний властитель Крыма (сборник) Воеводин Игорь

От автора: Большинство из описываемых в этой книге событий мною не выдуманы и произошли. Увы.
Предисловие
Что объединяет эти две истории – белого генерала, кумира юнкеров, водившего батальоны в психические атаки, и никому не известную девушку из заштатного сибирского городка, которую в округе считают сумасшедшей и безжалостно травят, пользуясь всеобщим равнодушием?
Прежде всего то, что истории эти невыдуманы.
Второе – неизбежный, неизбывный, вечный и беспощадный, всегда кончающийся примерно одним и тем же конфликт личности и планктона. Впрочем, давайте ограничимся политкорректным словом «социум», а там уж пусть каждый определит себя сам, «тварь ли он дрожащая, или повелевать смеет».
Третье и, наверное, главное – любовь. Вот такая уж, как есть, не из глянцевых журналов и не с экранов мелодрам. Такая же, как и жизнь, – без камуфляжа.
В книге о генерале Слащове я оставил за бортом повествования большую часть из того, что сумел раскопать в архивах и забытых изданиях белогвардейцев – правда эта была невыносима. Достаточно сказать, что, работая над маленькой этой повестью, я исследовал восемьсот с лишним источников информации – в основном мемуары непосредственных участников Гражданской войны, опубликованные в эмигрантских журналах двадцатых годов двадцатого столетия.
Они, бывшие офицеры и солдаты той бойни, главным делом своей жизни считали те бои и, работая чернорабочими по всему миру, на скудные копейки содержали своих беспомощных друзей и издавали только ими и читанные журналы, в которых до мельчайших подробностей воссоздавали то, чему были свидетелями.
Надю, героиню повести второй, я знал лично. Я своими глазами видел, что над ней творили. Я снял о ней фильм. Я пытался остановить тот каток, что грозил ее раздавить.
Остановил ли?
Пусть за меня ответит Пастернак:
- Я один. Все тонет в фарисействе.
- Жизнь прожить – не поле перейти.
Но есть и четвертое, что роднит героев двух книг, а с ними – и меня, и вас.
Надежда. Потому что, если вы прочли эту книгу, значит вы – неравнодушный человек. Нетеплохладный.
Следовательно, никто не один.
«Ты не один» – вот что я то шепчу на страницах, то хриплю в теле– и радиоэфир.
Ты не один.
Знай это, помни – иначе мир не устоял бы ни мгновения.
Аминь.
Точка невозвращения. Книга усталости
Повесть написана по реальным событиям
0 градусов по Цельсию, точка замерзания
Безразличие. Оно приходит на смену усталости, холодком остывающей души. Не жаль никого, и с полуусмешкой вспоминаешь, как совсем маленьким ты мог всерьез страдать из-за случайно раздавленной неосторожным прохожим козявки. Непоправимость – вот что владело тогда крохотной душой, осознание непоправимости происшедшего, и ясное понимание того, что мир уже никогда не будет прежним, полноценным, совершенным, из-за того, что кто-то, даже не заметив, прервал чью-то жизнь, уничтожил чью-то маленькую вселенную.
И еще я знаю – старость приходит тогда, когда перестаешь летать во сне. Сколько бы тебе ни было, семнадцать или пятьдесят. Ты еще молод и силен, все краски мира свежи, женщины приветливы и обольстительны, горизонты ясны, но ты уже постепенно забываешь это странное, мучительное и легкое одновременно, непостижимое наяву и такое само собой разумеющееся во сне ощущение – когда ты паришь над землей.
Последний раз, когда я летал – в сонме иных, – меня и во сне не покидало чувство безысходности, непоправимости, потери и потерянности – навек, навсегда, без просвета и надежды.
Куда мы летели?
Я хорошо знал, что оттуда уже нет возврата. Да. И было темно. Обычно во сне не замечаешь – день, ночь ли. Но тогда не было света. Не Солнца. Света.
С тех пор я больше не летаю. По-прежнему передо мною стелются дороги и по обочинам всегда готовы для меня кров и приют. По-прежнему я живу в пути, планирую, но не парю, горячусь, а не горю. Меня не удивляет седина, я привыкаю к холодку ощущений и пустоте встреч – все более и более скука и безнадежность овладевают мной.
Сжимаются дни, растягиваются ночи. Привыкаешь и к чувству стыда – как за содеянное, так и за несовершенное.
Не знаю, мой друг, не помню. Не помню, летел ли тогда и ты со мной в этом медленном вихре, нескончаемом хороводе душ.
Если да, то скорее проснись.
3 градуса по Цельсию
Не дойти до этих мест, не доехать, не доскакать, а только долететь или доползти. От БАМа, проткнувшего Восточную Сибирь стальною струной, сотни верст на север по грунтовке через Муйские хребты, и тот, кто ни разу не бродил, не пробирался, не плутал российским бездорожьем, да еще в местах безлюдных, диких, где каждый встречный – либо друг, либо враг, и никак иначе, да еще через горы, где каждый шаг – как по минному полю, шагни, не осмотрясь, на край, отвернись, зазевайся, отвлекись, прикуривая в ладонях извечный российский «Беломор», как раз и попадешь на промоину, что подточили, расковыряли горные ручьи, да дожди, да снега, и рухнет душа в пятки, когда зависнет колесо над пропастью. Жми тогда пяткой – тормоз ли, газ ли, – мир сожмется для тебя в окружность руля с четким распятием посередине…
А вокруг – только горы, только они, под высоким синим небом, по которому плывут хлопья облаков, безразличных ко всему, холодных, отчужденных, сколько хватает глаз, – только облака и горы.
Тяжеленный «БелАЗ» трое суток ползет по этой грунтовке от станции Таксимо до городка со средней скоростью пять километров в час. Шофер, если останется живой, трое суток потом не человек, а варенье.
Плохие эти места, гиблые, тунгусы, пока еще себя помнили, пока еще не разбавили себе кровь водкою так, что только один химический анализ и может теперь определить, течет ли кровушка по жилам или нет ее, а одна только белая водка и бежит по венам, – тунгусы в этих местах никогда не останавливались на ночлег, это еще в долине Таксимо, а уж в глубь хребтов вообще никогда не совались. «Борони Бог! – скажет тунгус. – Однако, шибко плохой это место…»
Только и пути сюда, что по Угрюм-реке, а это еще крюка в триста верст давать, да жить захочешь – крюк этот тебе закорючкой покажется, лишь бы обойти стороной мрачные эти хребты, где драм одним и место и куда доброму человеку соваться негоже.
Да и доплывешь – вряд ли будешь рад, разве уж только самая горючая нужда погнала тебя в путь…
Нужда эта спокон века одна и зовется наживой. Потому что напичканы, набиты туго, под завязку, окрестные горы золотом, так, что стекает оно ручьями с хребтов, не смотрись, пришлый человек, в хрустальные эти воды с конопушками золотинок – ослепнешь, забудешь себя, затмит тебе глаза жадность, задурманит голову, и навек ты пропадешь среди гиблых топей, среди чахлых сосенок, среди лысых гор, как без счету до тебя пропало здесь народу, и каждый знал, верил, чувствовал – уж он-то не сгинет, он-то уж подержит в руках птицу-удачу, всласть поерошит ей непокорный хохолок, надергает волшебных ярких перьев из хвоста и будет кум королю.
Многих, шибко многих, однако, навеки приютила, приголубила эта долина, где ляг во мхи, и ртом, ртом собирай голубику, где грибы косят косой, а не ищут, где и медведь, пока с избытком лосося в реках, не тронет человека, но тронет его человек… Но коли подфартила тебе судьба, коли рассыпала перед тобой несказанные свои россыпи, напоила допьяна хмельными своими медами, постелила тебе в изголовье духмяное разнотравье – спи, удачник, и видь счастливые свои сны, будто снова и снова бредешь ты через Муйские горькие хребты и впереди сияет и манит тебя прохладная и тихая Золотая река – Подай Бог! – молились тунгусы, радуясь, что пришли неведомо откуда непохожие на них люди с рыжими волосами под лицами и принесли много, шибко много хороших, славных вещей, и брали они за эти вещи так, пустельгу, совсем, однако, пшик – тот тусклый и желтый металл, что без счету и меры валялся кругом, – совсем, однако, плохой тот металл, шибко мягкий, не сделаешь из него ни ножа, ни крючка…
– Подай Бог! – молились они. – Жаловаться грех…
Так и закрепилось это имя за центром Ленских приисков – Бодайбо, так и осталось.
И закрыл свои глаза Господь, увидев, что делает человек с человеком за золото, и ушел из этих мест, и только темные духи Муйских хребтов все морочат да дурманят человека, все обводят его вокруг пальца и влекут его к Золотой той реке, иже несть ни печали, ни воздыхания…
– Подай Бог!
А еще сотни и сотни верст, все севернее да восточнее, стоит городок старателей да шахтеров, и имя ему – Алмаз, ибо немерено рассыпано в тех местах самоцветов, день и ночь лопатят там горные речушки трехэтажные, пятиэтажные драги, рыча, отплевываясь, злобствуя и огрызаясь, крутятся они посреди ручейков, перейти которые человеку – плевое дело, и делают из тех ручьев запруды, на десятки метров вглубь и вбок перемалывая берега.
На самом верху железной этой махины, что дробит и пережевывает землю и валуны, в самом конце матерчатой ленты ее конвейера, остаются протрясенные, промытые, пропущенные через сита невзрачные блеклые камушки – бриллианты. Каждый весом в карат, и каждый – человекоубийца, ибо за них, покуда вида не имеющих, будут убивать.
Правит город Алмаз всей округой, и мало, мало осталось не прельстившихся игрой его граней, не поклонившихся ему, не принявших на душу клейма его огранщиков.
И рассыпает Алмаз среди подданных своих дурман успеха – кому на грамм, кому на карат, кому на осьмушку…
– Какой-такой обман?! – скажет тебе здесь всяк встречный-поперечный и махнет рукой: – А, пустые твои слова…
– Так-то да… – призадумается кто порассудительней и добавит: Ну, а как без денег-то прожить, мил человек?
И только стон над тайгой, да вой над тундрой, да скрежет зубовный, да тьма в ослепших глазах.
– Борони Бог!
А кто живет по-иному, кому иные видны горизонты, быстра тому вода на стремнинах, холодна тому она на глубинах. Потому что не горы круты, а души черствы да слепоглухи.
Надя сняла трубку. Телефон звонил полчаса с короткими перерывами.
– Рыжая! Выдь на час! – услыхала она.
1 градус по Цельсию
– Эй, Рыжая!
Она не слыхала.
– Рыжая!
Герольды уже протрубили сбор на Торговой площади – их горны еще торчали из-за зубчатых башенок замка. Солнце вставало в зенит. И на площади весело стучали молотки и топоры – это королевские плотники готовили сцену для заезжей труппы.
– Представление! Вечером будет веселое представление! – гомонили в толпе. – Это будет совсем новая пьеса!
Торговки и белошвейки, мастеровые и ландскнехты, рыбаки, горшечники, менялы, часовщики, мамаши, солидные горожане в выходных костюмах в будний день, сводня, проезжие – все были в радостном предвкушении праздника.
И герольды его объявили – большой праздник, трехдневный.
– Слушайте все! – далеко слышный, разносился над площадью зычный голос глашатая. – Слушайте!
Турниры и застолья – вот что ждало город в ближайшие три дня, и веселье, веселье без конца и без края, ибо сватать королевскую дочку съехались женихи со всех концов земли, и народ дивился тяжелым латам иноземных рыцарей, богатству шатров, шелкам и парче, верблюдам и ослам бедуинов, васильковой красоте славянских князей, бездонности и черноте глаз женихов из Валахии.
– Это будет славный праздник! – говорили в толпе. – Пива сварили без меры, и Толстый Томас, главный придворный пивовар, так и не отлип в своих кожаных штанах от очередной скамьи, проверяя варево… – Да здравствует король!
– Ты чё, шалава, оглохла?!
Она словно очнулась. Развалились крепостные стены, исчезли герольды и мулы, простолюдины и вельможи, истаял, будто вовсе и не был, старинный город с узкими кривыми улочками между лепившимися друг к другу домами под красными черепичными крышами, стекавший к морю с холма.
Вместо беленых домов нависли сопки, подернутые кое-где, как ряской, тайгой, кое-где лысые. Грязные дома, позабывшие тряпку и кисть маляра, щербатая мостовая, ларек.
Перед ней стояли двое. Один был смутно знаком – тот, что щерился полуулыбкой, и сверкала фикса в полуденном мареве. Второй, пожиже, был странно напряжен, и глаза его жгли угольями.
– Сударь, это вы мне? – спросила она и машинально поправила светлый локон, что так и норовил выбиться из-под беретки.
«Может быть, это одни из тех чужестранцев, что прибыли искать моей руки. И они совсем не знакомы с нашим этикетом?» – думала она. – Но какое же все-таки безобразное слово – “шалава”!»
– Ну чё, Надюха, куда пробираисси? – спросил высокий и как бы невзначай притиснул ее к себе.
– Я понимаю, незнакомец, что вам невдомек наши приличия, – отстраняясь, но оставаясь дружелюбной, промолвила она. – Но неужели там, откуда вы прибыли, благородный господин, принято дотрагиваться до королевны?!
Высокий заржал.
– Ну, Колян, а я те чё говорил?! В натуре, да?! – спросил он товарища.
Низкий не ответил, но потом вытолкнул звук с видимым усилием:
– Вы… Это… Королевна! Может, прогуляемся, поговорим?
Она милостиво улыбнулась:
– Конечно, господа, ваши манеры оставляют желать лучшего, но поведение ваше простительно, учитывая ту честь, что вы оказали нашему городу своим приездом. Охотно познакомлю вас с нашими традициями и окрестностями, а вы, господа, надеюсь, просветите меня относительно вашего происхождения и подданства!
– Ништяк! – заговорил было длинный, но умолк, получив тычок от низкого.
– Вот тут… Неподалеку… – бормотал низкий, слегка подталкивая ее к скамейке за стеной Дома творчества, что еще совсем недавно был Домом пионеров. – Вот тут…
Ветер трепал линялую афишу с несмываемыми буквами: «Вечер отдыха молодежи». Возле скамейки валялись битые бутылки, окурки, воняло мочой.
– Какое, однако, странное место, господа! – удивилась она. – Надо будет наказать будочников за весь этот беспорядок! Но позвольте! – попыталась высвободиться она от внезапно обхвативших ее рук. – Сударь, да вы шутите!
– Ничё… Ничё… Ща, ага, – гомонили оба враз, валя ее на скамейку. – Ща, погодь…
– Но позвольте, чужестранцы! – Она оттолкнула низкого. – Если уж таково ваше желание… И ваше нетерпение… А! Мне понятно – вы просто желаете знать, хороша ли невеста без покровов? Что ж, это естественно, хотя и несколько странно… И совершенно не принято, позволю заметить, в наших краях! Но, господа, из уважения к вашим, без сомнения, высоким родам я могла бы удовлетворить ваше любопытство…
– Во дает! – в восторге прошипел длинный. – А чё те, в натуре, базлал?! Сама дает!
Она улыбнулась снисходительно – о, эти иностранцы, какие необычные! – и повела плечами. Не горностаевая мантия, но легкая «кислотная» курточка упала с ее плеч.
Солнце застряло на сопке, зацепившись за сосну. Тень скользнула по городку, будто его, забытого Богом, накрыл своими крылами ангел. Тень прошлась над бараками, свалками, горами шлака и отработанной породы, над шахтами и Угрюм-рекой. Это заходил на посадку огромный ТУ-95, стратегический бомбардировщик с ядерным оружием на борту, – неподалеку от городка находилась промежуточная база Дальней авиации. Диковинные эти птицы из двух оставшихся у России дивизий, когда им давали горючее, барражировали над Сибирью и Дальним Востоком.
Враги их не боялись. Они знали, что боевого приказа летчики не получат никогда. Но оставалась вероятность, что какой-нибудь сошедший с ума экипаж решит отомстить за поруганную честь страны, и потому спутники-шпионы и все станции слежения то ли друга, то ли врага буквально впивались в каждый борт, стоило ему подняться в небо над Благовещенском или над Тикси. Друзья-враги знали по именам все экипажи, всю их подноготную, все самое сокровенное этих вечно похмельных людей, и, высылая им в сопровождение свои самолеты, инструктировали летчиков:
– Разговаривать! Разговаривать! Обязательно разговаривать в воздухе с русскими, если не отвечают – это тревога!
– Привет, Иван! – неслось из наушников над Камчаткой и Таймыром, Охотским морем и Северным полюсом. – Как там дочурка, скоро в школу?
Самолеты шли и шли над океанами, тайгой и тундрой. Струилась в кабинах музыка сквозь попискивание и бормотание эфира, планета пила и гуляла, ревновала и влюблялась, а над вечно хмурыми волнами и над нехожеными пространствами бок о бок шли два самолета. Враги пили кофе. В русских машинах не было туалетов, экипажи возили с собой ведра, и иногда, откинув фонарь, опорожняли их – над волнами или континентами.
Рев двигателей заглушил возню на скамейке.
– Но позвольте, господа! Не будьте же так стремительны!
Она лежала на заплеванной скамейке, закрыв глаза. Герольды, юные герольды трубили сбор, фанфары и горны, начищенные до нестерпимого блеска, слепили всякий взор. Старухи и молодки, оруженосцы и лакеи, торговцы и кожевники, мальчишки и подмастерья в длинных фартуках толпились поодаль.
– Выбирает! – приглушенными голосами делились они друг с другом. – Королевна выбирает самого достойного! А как же? Она должна нарожать ему кучу ребятишек, и это государство станет побратимом нашего королевства!
– Тише, тише, мои подданные! – ласково уронила она, не открывая глаз и чуть поведя рукой: эти странные чужестранцы могут испугаться и так и не узнать, сколько ласки и любви может подарить супругу их госпожа!
– Я ласковый мерзавец, тра-ля, ля-ля, ля-ля, – донеслось из динамика над ларьком.
«Какие они все-таки милые, – подумала она, – позаботились о музыкантах… Наверное, этот тот, чьи глаза горели такой мукой и страстью…»
Самолет тяжело коснулся полосы, взревели двигатели. Шасси чиркнули по бетонке, оставляя черный след. Огромная машина, все сбавляя и сбавляя ход, покатилась навстречу КП. Рыжие окрестные сопки над студеным заливом, уже кое-где покрытые ранним в этом году снегом, приветливо кивали.
Машина встала.
– Ну, господа хорошие, с посадкой! – произнес командир, молодой ясноглазый подполковник, и достал фляжку. – Ура!
– Ура! Ура! Ура! – откликнулись штурман и радист. – Ура! Фляжки встретились и тряхнули друг друга.
От КП рулил уазик с командиром аэродрома. Чайки с визгом пикировали в воду в наступившей тишине.
«Слава СССР!» – было выложено железными бочками на главенствующей высоте. Бочки выкладывали с вертолетов.
Спирт перехватывал глотки. Его заедали солеными огурцами и чавычой.
Командир откинул фонарь. Ветер взъерошил его льняные волосы и швырнул в лицо пригоршню водяной пыли, подхватив ее с залива.
– Ну чё, мужики, норма? – спросил подъехавший полковник в два раза толще принятой в авиации нормы.
– Порядок, – ответил командир. – Рыба есть?
– А как же! И нельма, и муксун, и осетра найдем…
Экипаж спускался по алюминиевой лесенке на поле. Следующий полет мог быть, а мог и не быть. В дивизии было немало летчиков, прослуживших от лейтенанта до капитана и подавших рапорта на дембель, так ни разу и не поднявшись в небо.
А оно было рядом, вот оно, угрюмое, нависшее, брюхатое, душившее сопки своими ватными объятиями, и не было сил оттолкнуться от земли, стремглав прорваться сквозь тучи и взмыть в бездонную и вечную синеву.
4 градуса по Цельсию
– Ну, Иван, с прилетом!
За столом было шумно. Командир аэродрома, летчик с ТУ-95, экипажи вертолетчиков, штабные, офицеры роты охраны – все собрались сегодня, поскольку редкими гостями и в небе, и на земле алмазинского гарнизона стали летуны Дальневосточной дивизии.
«Шила» – по-севернорусски спирта – на столах было выставлено щедро. Да и казенная водка виднелась то тут, то там среди ведерок икры, гор копченых рыб, вареной картохи. Алмаз – одно из немногих мест в России, где водка только дешевеет. Во-первых, потому, что и так все пьют дармовое «шило», а торговлишку надо вести; во-вторых, чтобы совсем не разбежалось отсюда население, чтобы не остались только пришлые, сезонные, что вахтами приезжают сюда с Материка, как называют в Алмазе весь остальной мир, поработали да разъехались.
Вернутся ли?
Бог весть, но возвращаются. Может, и не только за деньгами. Да, душой чтоб не кривить, отнюдь не за деньгами. А зачем?
Спроси, московский человек, у вольного ветра, у чистого поля, у быстрой реки.
Попробуй – узнаешь. А объяснять бесполезно. И тот, кто не пил, не хлебал всласть, взахлеб воли и тишины, кто не целовал горячими губами в студеные здешние ночи близкие и колючие звезды, кому не рвали душу ветра, а сердце – смертная, непреодолимая потребность любить, у кого не костенел позвоночник до невозможности согнуться при одной мысли, что надо кланяться, кланяться, чтобы выжить, – без толку тому объяснять.
Были такие и за этим столом.
Сколько их?
Сосчитай…
Молодой, год как из училища, лейтенант Нефедов, штурман с залетевшего в Алмаз ТУ-95, больше слушал и смотрел, отвечал, если обращались, передавал, если просили, наливал, если подставляли.
А послушать было что, ибо сидели за столом все люди бывалые, судьбину знавшие и в хвост и в гриву, повидавшие, полетавшие. Асы, волки, зубры, послужившие на своем веку. Каждому было что вспомнить да рассказать, все знали друг друга подолгу, по разным гарнизонам, все хлебнули лиха да помыкались по белу свету.
За столом, кроме Нефедова, помалкивал еще один человек, майор Зубаткин, лишь недавно переведенный в Алмаз, да не откуда-нибудь, а из Приволжского округа, из самых что ни на есть европ, из цивилизации.
В залетный этот гарнизон абы как ни попадали, только проштрафившись, либо у кого блата не было, либо совсем мозги лишь Устав гарнизонной и караульной службы только и воспринимали. Летуны – дело особое, куда ж их, раз Дальней авиации в России только и осталось, что на Дальнем Востоке. А остальные все наземные да вертолетные, это смотри выше.
Вот и поговаривали, что случилась с майором в Приволжском военном округе какая-то история с какой-то школьницей, вот и загремел он комендантом в славный Алмазинский гарнизон.
Но как бы то ни было, службу Зубаткин тащил исправно, больше других не воровал, сильнее не запивал. Попривыкли к нему здесь, а чё, человек как человек, жена в музыкальной школе преподает…
– А чё говорят, что на бэтрах с кручи нельзя прыгать? – дождавшись паузы и осмелев, попробовал счастья втереться в высокий круг Зубаткин.
Повисла пауза. Толстый полковник только что рассказывал, как лихо они насвистались пива и шнапса в Дрезденской галерее, когда он служил в еще ГДР, и как командующий лично выручал их с немецкой гауптвахты.
Все повернулись к заговорившему, потому что голос за столом Зубаткин подал впервые.
Польщенный общим вниманием, майор выпил стопарь, подцепил вилкой белый грибок, отправил его в рот. Выждав паузу, он хитро посмотрел на слушателей.
Все смотрели на него.
– А чё? – сам себя спросил Зубаткин и сам себе ответил: – Да ничё, я прыгал…
Сидящие за столом еще несколько секунд рассматривали майора.
– Ну и как, Гордеич? – обратился командир роты охраны к полковнику. – Навешали вам там немцы беляшей?
– Это еще кто кому навешал! – гордо ответил полковник. – У них там такая водка есть, «Голдвассер» называется, так в ней крупинки золота плавают…
– Ну и чё?
– Да ничё! Поставил ящик кадровику, вместе и выпили с начальником немецкой губы…
Зубаткин сидел как оплеванный. Даже Розия, хорошенькая Розия, жена одного из вертолетчиков, служившая в финчасти, ради которой он, сам себе не признаваясь, и хорохорился, не повела в его сторону соболиной бровью.
Только залетевший на ТУ-95 лейтенант Нефедов и чокнулся с Зубаткиным налитым до краев лафитничком, предварительно налив и майору, и сочувственно кивнул.
Выпили.
– А ты где учился? – вполголоса спросил Нефедов Зубаткина, сидевшего напротив.
Шум и гам за столом нарастали, и никто на двоих приблудных, на получужаков внимания не обращал, и обрадованный человеческим участием Зубаткин охотно ответил:
– В Балашихе, под Москвой, в автомобильном. А ты?
– Я в Астрахани…
– Так мы с тобой зёмы! – еще пуще обрадовался Зубаткин. – Я ж в Приволжском округе семь лет оттарабанил!
Веселье шло своим чередом и грозило затянуться за полночь. Спал городок, и даже тише работали драги, глуше ухали шахты, почти погасли в округе огоньки. Только нес вахту караул возле складов ГСМ да на аэродроме, под дождем, под мокрой северной взвесью, что сеется невесть откуда, с неба ли, с земли – не поймешь.
Усталый ТУ-95, весь в капельках воды на серебристом фюзеляже, тяжко, бессильно раскинул руки-крылья под бетонкой.
Огромный самолет оканчивал уж третий срок службы, и ему, построенному еще при Сталине, все не было и не было смены.
И кажется, уже не будет.
Спал самолет и не знал, не чувствовал, как касаются его бортов невидимые лучи со спутников-шпионов, как вслушиваются в любой вздох и чих возле него за тысячи верст сидящие невидимые радиооператоры, как пеленгуют они все вздоры-разговоры по телефонам и по рации, что ведутся в гарнизоне, но не чуяла машина их внимательности и настороженности.
Только мерно шагал от хвоста до винта и обратно рослый ефрейтор в плащ-палатке, в пилотке и с автоматом, и подкованные его кирзовые сапоги вызванивали, выстукивали на бетонке:
– Ать-два… Ус-ни… Стра-на!
Ефрейтор высчитывал время до дембеля сначала в месяцах, потом в неделях, сутках, часах и секундах. В секундах казалось быстрее…
2 градуса по Цельсию
Горелки двух конфорок горели синим пламенем и гудели, как в аду. На крохотной кухоньке было тесно и душно, горевшие с утра и до ночи конфорки выжигали весь кислород, но Надя с кухни не уходила. Она сидела на табуретке в углу с ногами, сжавшись в комок, нахохлившись.
Банка с мокнущим «грибом» – многие еще верили здесь в это питье – торчала на подоконнике. Серенький промозглый денек льнул к окнам пузырьками дождя, щупальцами тумана. Ничего не было видно метрах в тридцати. С улицы не доносились звуки, и только гудели, сводя с ума, гудели и гудели газовые горелки.
– Мама, откуда у меня синяки? – внезапно спросила она, не сводя с матери глаз.
Та бросила бесцельное протирание тарелок и села напротив:
– Ты что, доча, опять ничего не помнишь?
– Нет.
Мать молчала. Потом, вздохнув, спросила:
– Совсем-совсем?
– Ну… – неуверенно ответила она, – два чужеземца… Они просили моей руки.
Мать всхлипнула-вздохнула и отвернулась.
– Наверное, ты в ванной ударилась, – ответила она чуть погодя. – Ты ведь вчера мылась?
– Мылась.
– Ну вот… Вот ты и ударилась в потемках, – заговорила мать. – Ты сегодня сиди, сиди, некуда ходить в такую темень…
Тут она вспомнила, что дочь вчера вернулась без только что купленной куртки, в разорванной кофте и босиком, неся в руках один сапог, как жезл, и заплакала.
Она плакала в голос и ныла, а дочь, сидя на табуретке, смотрела прямо перед собой недвижимыми глазами, силясь то ли что-то припомнить, то ли что-то разглядеть за серым переплетом окна с неотодранной с прошлой зимы бумагой, с порыжелой ватой, за серым маревом сумерек то ли вечера, то ли полудня.
Завыл вдалеке гудок шахты, и донесся скрежет драги с прииска – ответ металла металлу, и вновь пошли вгрызаться в чрево земли отбойные молотки, и зубьями отхватывать берега, и кромсать их, и пережевывать ковши драг, перемалывая в своих пастях глину и камни. Стон пронесся над тайгой, ударился в сырые переплеты окон неказистых домишек и затих.
Кудлатые сумерки опустились на городок, но все так же гудели и гудели, гудели и гудели две газовые конфорки – как вчера, как позавчера и послезавтра.
Она не видела ничего. Она не сказала матери, какие были встревоженные, требовательные и какие-то растерянные глаза того рыцаря, что пониже, какой страстью и мукой горели они и как ей хотелось утешить этого странствующего пилигрима любви, такого неуклюжего и нетерпеливого, расспросить, приголубить и обогреть, но боже мой, какие все-таки странные манеры приняты в их краях…
И откуда же все-таки эти синяки на шее и на руках?
Горелки все горели и горели, и мать, не пошедшая сегодня на работу, в сотый раз принялась протирать и без того насухо вытертую посуду.
Хлопнула дверь. На пороге кухни вырос ее брат-де сяти классник, широкоплечий и коротковолосый.
– На! – Он швырнул ей в лицо куртку, ее куртку, грязную и с порванным воротником.
Постояв пару минут и не сводя с нее ненавидящего взгляда, он резко повернулся и вышел. Хлопнула дверь.
Она непонимающе уставилась на мать.
– Ничё, ничё, голубка моя, – всхлипывая, заговорила та. – Возраст, это возраст такой, переходный, все образуется…
А горелки горели и чадили, и нечем было дышать.
5 градусов по Цельсию
…Музыка из огромных динамиков, установленных по периметру зала, оглушала, отупляла, била по голове ватным молотом, заставляла сердце стучать в такт ударным. Глаза танцующих были опрокинуты внутрь себя, на сцене кривлялись две девчонки лет семнадцати, под рев и улюлюканье зала они медленно стаскивали с себя кофточки и юбчонки.
Стены зала дискотеки в бывшем алмазинском Доме пионеров были размалеваны сценами из ада. Какие-то зеленые существа таращили налитые кровью глаза, высовывали алые языки. Кипели котлы.
Шел третий час ночи. Трезвых в зале не оставалось. За стеной, в баре боксерского клуба «Джебб», уже пятый раз за ночь выяснялись отношения, и правильные, конкретные пацаны все учили и учили уму-разуму неправильных.
Налитый силой, как молодой бычок, пацан без шеи, со стриженной под шар из кегельбана головой, закончив товарить какого-то чмыря с Заовражного, поселка из пригорода, где путевых-то ребят отродясь не было, вытер кулаки о штаны и с шумом плюхнулся на свое место за столом, где кучковались еще человек пять-шесть.
Стул закряхтел под ним, но устоял.
Четкий пацан, его звали Гиря, схватил бутылку «Клинского» – там оставалась половина – и допил.
Утерев губы, он пристально посмотрел на одного из сидевших.
– Ну, а ты чё, Забор? – начал он. – Долго ты шнягу эту терпеть будешь?
Забор, то есть брат Нади, потупился.
– Чё ты, мля, в натуре? – продолжал Гиря. – От пацанов тебе не стыдно?
– Ладно тебе, Гиря! – попытался урезонить говорившего один из сидевших. – Чё тут делать, коли она больная на всю голову?
– А то, что раз больная, пусть в психушку ложится, – отрезал Гиря, – хули ее выпускают?!
За столом замолчали.
Из зала глухо доносились ударные, визжали девки у стойки, которых бесцеремонно мацали ухажеры. Менты сидели за столиком у входа и лениво, с видом начальников, наблюдали за всем. Парнишка в очках, бармен, поставил им на стол блюдо с пиццей.
Менты не пошевелились.
– Эй, очки! – крикнул Гиря. – Пива!..