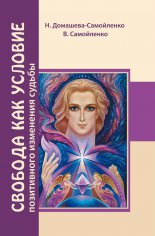Новый сладостный стиль Аксенов Василий

Часть I
1. Три ступени
10 августа 1982 года Александр Яковлевич Корбах впервые ступил на американскую землю. Пока стоял в огромной очереди к паспортному контролю терминала ПанАм, эта дата все крутилась у него в голове: какой-то в ней был еще дополнительный смысл. И только за контролем, уже возле багажной карусели осенило: день рождения! Каждый год в этот день ему что-то «исполнялось», вот и сейчас что-то исполнилось: сорок два, что ли, нет, сорок три. Думал ли год назад в Крыму, что через год буду отмечать день рождения в нью-йоркском аэропорту! 10.8.82, сорок три года, болит голова от вчерашнего, виза Н-1, в кармане полторы тысячи долларов, три тысячи франков, ничего не испытываю, кроме «самума чувств».
Первая встреча на американской земле оказалась приятной, если не сказать волнующей. Вдруг среди первых прибыл чемодан, выскочил из преисподней, демонстрируя странную подвижность, чтобы не сказать развязность. Склонный к неадекватным размышлениям на не относящиеся к делу темы, Александр думал, глядя на чемодан: вот ведь, затасканный по гастролям чемоданишко, а как-то душевно дорог. Вот ведь, по сути дела, что получается: забили где-то большое животное, из шкуры сделали в Латвии чемодан, и вот все зверское уже испарилось, чемодан превратился в предмет ностальгии.
Чемодан проехал мимо, столкнулся с индусским тюком, шлепнулся плашмя. На следующем обороте Корбах выхватил свое из чужого и стал пристраиваться к очереди на таможенный досмотр.
На него с высокого стула посматривал таможенный офицер Джим Корбетт. Все прибывающее в США барахло невозможно проверить, однако существует метод выборочного контроля, которым хорошо владеют профессионалы. Специалист таможни читает лица, жесты, любое движение. Потенциальный нарушитель иногда виден издалека. Вот этот, например, индивидуум с лысой, хорошо очерченной головой. Трудно классифицируемый индивидуум. Странно передергивает плечами. Впрочем, слишком как-то передергивает плечами. Перевозчик наркотиков так не вздрагивает. Ну, не буду его проверять, пусть проходит эта башка со своими ушами. «Будьте любезны, откройте ваш чемодан, – попросил он вежливо и добавил: – Сэр».
Индивидуум сует бумажку: «Декларэйшн! Декларэйшн!»
Э, да он по-английски не понимает! Джим Корбетт показывает: резкий поворот кистей рук и затем элегантный умеренный подъем ладоней: «Если не возражаете, сэр».
Ничего привлекательного, но и ничего особенно отталкивающего в чемодане не было. Среди пропотевших рубах книга в старинном переплете, большая «D» златой печатью на томе том. Двойного дна явно нет. Джим Корбетт заглядывает в паспорт. Гош,[1] этот малый из редких птичек, советский!
– Водка есть? – шутит офицер.
– Только здесь, – шутит в ответ приезжий, похлопывая себя по лбу.
Отличный малый, смеется Корбетт, хорошо бы с ним посидеть в «Tony’s».
Как много интересного каждый русский несет в себе, еще несколько минут думал Корбетт, пропуская потенциальных нарушителей без проверки. Страна исключительного порядка, все под контролем, никакого гомосексуализма, как это все там организовано?
Александр Корбах тем временем шагал в толпе ко входу в зияющий тоннель, за которым, собственно говоря, начиналась свободная земля. Тело, только что перелетевшее через океан, быть может, пребывает еще не в полном составе. Быть может, астральные-то нити, чакры-то все эти, иды, пингалы, кундалини не совсем еще совместились из-за не свойственной человеку авиационной скорости. Так думал он не без грустного юмора. Шарканье подошв еще ни о чем не говорит, просто движения бытовых автоматов, желающих в Америку. Должно пройти какое-то время, чтобы все опять запылали страстью.
Впереди вставали перед толпой три ступени, которые казались Александру Яковлевичу тремя уступами разных цветов: один белый, мраморный, второй шершавый, как бы из обгорелого камня и пурпурный до черноты, третий – огненно-алый порфир. Толпа молча втягивалась в тоннель.
Впереди, в конце тоннеля появилась другая, стоящая толпа, встречающие. Над ней уже торчали лампы телесъемки. Держаться сдержанно, сказал себе Корбах. Говорить только по-русски. Никаких унизительных попыток тарабарщины. Простите, господа, ситуация неопределенная. Театр пока существует. Вопрос о моем художественном руководстве подвешен в воздухе. Цель приезда – контакты с родственными по духу и стилистике творческими силами Соединенных Штатов.
Ну что ж, пока этот не отталкивающей внешности, вроде Лермонтова, хоть и с Андрея Белого залысинами, ростом 175 сантиметров главный герой подходит к телекамерам, мы, пользуясь романным пространством, можем слегка размахнуться по его curriculum vitae.
2. Curriculum vitae
В 1982 году советский человек еще понятия не имел, с чем едят эти два плохо выговариваемых слова. Не знал он, конечно, и сокращения CV, которое произносится как «си-ви» и всякий раз напоминает некую сивиллу, то есть предсказательницу будущего. В этом есть некоторый резон, поскольку си-ви, эта смесь анкеты и биографической справки, относясь к прошлому, всегда содержит в себе надежду на благие изменения в дальнейшем. По сути дела, это не что иное, как реклама отдельно взятой личности, сделанная в расчете на то, чтобы купили.
Реклама все-таки не должна обманывать, и поэтому автор в роли кадровика должен сразу открыть, что у героя в его си-ви имелись некоторые неясности, если не двусмысленности. Вот, например, вечно тревожный «пятый пункт» советского жаргона. Во всех документах Александр Яковлевич Корбах значился как еврей, а ведь не всегда он был таковым, должны мы признаться. Не всегда и фамилия его так сильно «ахала» по-ивритски. Да и отчество когда-то звучало приятней для красного уха.
В детстве и в раннем юношестве прогуливался наш друг в роли Саши Ижмайлова, русского мальчика. Был у него и соответствующий отец, Николай Иванович Ижмайлов, прихрамывающий и опирающийся на массивную палку герой ВОВ, которым Саша, как и полагается, гордился. Со своей стороны Николай Иванович относился к Саше со сдержанной строгостью, которую можно было принять и за сдержанную любовь, и только лишь в сильном подпитии называл его непонятным словом «ублюдок», после чего мама пронзительно кричала: «Умру! Умру!»
Работая в номенклатуре, Николай Иванович повышал жизненный уровень, и его семья, как в народе говорят, горя не знала. В послевоенные годы Саша обогатился братишкой, а потом и сестренкой. Николай Иванович нередко возился в кабинете на коврах со всеми тремя и лишь иногда, обхватив Валерку и Катюшку, горячо шептал: «Родные вы мои», делая ударение на каждом слове.
Это мы сейчас с вами, читатель, можем догадываться, а мальчик тогда не понимал, почему с годами восхищение отцом сменялось у него какой-то неясной настороженностью.
На периферии этого непростого семейства между тем всегда присутствовала бабушка Ирина, которая так звалась вроде бы просто по возрасту, но в то же время и не совсем только по возрасту. Она старалась появляться в те дни, когда Ижмайлов отправлялся в свои ответственные командировки. Привозила Саше сначала игрушки, потом коньки и клюшки, любовно смотрела на него, часами без устали вела беседы то об индейцах Америки, то о водителях фрегатов, то о мировой политической арене.
Бабка была нетипичная. Военврач, она прошла всю войну в полевых госпиталях. Ходила твердым офицерским шагом, в зубах неизменный «Казбек», большие очки приводили всю фигуру к общему знаменателю женщины-выдвиженки. Вдобавок ко всему этому облику все детские годы Саши бабка водила свой собственный автомобильчик, трофейный «опель-кадет».
Мальчик не понимал, с какой стороны эта примечательная особа приходится ему бабушкой, чувствовал какое-то семейное искривление, но не желал вдаваться в подробности. Иной раз он слышал, как бабушка Ирина и мама начинают говорить, что называется, на повышенных тонах. Бабка как будто предъявляла на него какие-то права, а мать со свойственной ей экзальтацией эти права отвергала. Только лишь в пятьдесят третьем, то есть на четырнадцатом году Сашиной жизни, все выяснилось.
Навещая однажды бабушку Ирину в ее большой комнате в Староконюшенном переулке, он заметил на стене нечто новое: увеличенную фотографию молодого военного со шпалой в петлице. Кто это? Он чувствовал, что приближается какой-то головокружительный поворот судьбы, но все-таки решился спросить.
– Это твой отец, – твердо сказала бабка и окуталась синим казбечным дымом. Она ждала возражений, но их не последовало. – Видишь, это же твое лицо: уши торчат, рот до ушей, глаза-смехачи. А вот и метрика твоя, это неправда, что она была потеряна в эвакуации. Это твой отец, Яков Рувимович Корбах, мой сын, а ты мой родной внук. Это я настояла тогда перед Лизой, чтобы отец был вписан в метрику, хоть он и пропал уже в тюрьме.
С этого дня Саша перестал называть Николая Ивановича Ижмайлова папой, несмотря на то, что мать, словно чувствуя приближение семейного развала, упорно настаивала на прежней ситуации: «пойди к отцу, спроси отца, посоветуйся с отцом».
Вместо объяснения в семье однажды произошло поразительное событие. Николай Иванович был в командировке (он в те годы курировал Донбасс по части окормления марксистской истиной), мать с младшими детьми ушла на утренник в ТЮЗ, Саша один сидел в столовой над учебником физики, что ли, и слушал по радио увертюру к опере Кабалевского «Кола Брюньон». Вихрь музыкального восстания захлестывал его, жаждалось куда-то немедленно рвануть, ну, к этим гезам, к бунтарям-аркебузникам. Тут прямо ему на голову упала с высокого потолка тяжеленная люстра сталинского ампира. И он потерял сознание.
Впоследствии он пытался вспомнить свои ощущения в этот момент, или в ничтожную долю момента, или в не объятую временем паузу. Сознание, очевидно, вырубается еще до того, как боль прошла к рецепторам, потому что боли не чувствуешь. Где в этой паузе пребывает душа? Именно в этой паузе? Он вспомнил, что пауза прервалась мгновением чудовищного сжатия и разрыва, после чего все как бы восстановилось, он открыл глаза и увидел над собой глаза Ижмайлова, вспыхнувшие при встрече с его глазами неистовой радостью. «Николай Иванович», – прошептал он, и Николай Иванович разрыдался. Что за дикий экзистенциализм, идиотическая недетерминированность? Ты сидишь за столом, слушаешь «Кола Брюньона», и в какой-то миг на тебя, а не на пустое место падает охуенная люстра.
Александру Яковлевичу не дано было узнать в течение десятилетий жизни, что этот момент сжатия-разрыва был все-таки детерминирован предшествующим развитием. Дело в том, что никакая люстра на него не падала. Осуществляя авторское право, мы могли бы об этом и умолчать, однако, помня и о праве читателя, мы не считаем возможным сохранять ухмыльчивую таинственность.
Дело в том, что в разгар увертюры в столовую вошел вернувшийся из командировки Николай Иванович. У него зверски в тот день ныла укороченная и скрепленная гвоздем нога. Недавняя кончина Иосифа Виссарионовича погрузила весь аппарат ЦК в поросячье ненастье, и Николай Иванович не был исключением. Даже в Донбассе почудилось ему что-то тошнотворное. В таком состоянии он увидел перед собой затылок ненавистного мальчика. Детеныша Яшки Корбаха, который владел Лизой, который лучшим другом считался, которого и сдал чекистам. Как после этого считать себя солидным партийцем, если сразу вслед за арестом Яшки стал насиловать Лизу, ошеломлять ее похотью? Как это можно забыть, если всегда перед тобой этот взрослеющий новый Яшка? Тут, задохнувшись, Николай Иванович поднял свою самшитовую палку и обрушил ее со всей мощью на макушку мальчика.
К чести товарища Ижмайлова надо сказать, что он сначала все-таки вызвал «неотложку» и только уж потом начал выламывать люстру, чтобы имитировать экзистенциальную катастрофу.
Несчастье почему-то примирило Сашу с фиктивным отцом. Объяснение всеми было молча отложено, и он стал называть отчима Николаем Ивановичем. И мама ему однажды сказала: «Николай Иванович – очень хороший человек, ведь он женился на мне, когда я была уже с ребенком, то есть с тобой, Александр». И он, несмотря на нарастающую с каждым днем мужественность, вытер глаза и погладил ее по голове.
Объяснение, и, пожалуй, не менее драматическое, чем то, несостоявшееся, произошло три года спустя, в пятьдесят шестом, когда Александр уже учился в десятом классе. Однажды за ужином Николай Иванович разнервничался с газетой, освещавшей венгерские события: «Мерзавцы! Мерзавцы! Вешали коммунистов вниз головой!»
Можно было, конечно, переждать с объяснением, перескочить этот нервный момент, однако Александр, побледнев, отодвинул тарелку и сделал заявление:
– Мама и Николай Иванович, я хочу вам сообщить, что беру фамилию моего отца и… и его национальность.
– Да ты с ума сошел! – тут же вскричала мать. – Ведь ты же всего на одну четверть!
Возникла мучительная пауза. Младшие дети сидели с открытыми ртами. Катюша механически продолжала свою гнусную привычку сливания из ложки обратно в миску.
– Убирайся вон! – наконец сказал Николай Иванович.
– Это третья вещь, которую я вам хотел сообщить, – сказал Александр. – Я переезжаю к бабушке.
Мама закрыла салфеткой лицо. Взгляды Корбаха и Ижмайлова встретились. Последний молча отмахнул ладонью: прочь! вон!
Расшифровав таким образом столь формальные пункты предполагаемой корбаховской си-ви, мы должны указать и на другие, пусть не столь важные, но существенные точки. Ну, вот, например, в графе «образование» можно просто указать «высшее», а можно и уточнить. В этом случае нам придется не одну высшую школу упомянуть, а целый список: филологический факультет МГУ, театральное училище имени Щукина, режиссерское отделение ВГИКа, Высшие сценарные курсы. Список этот, однако, ни к чему нас не приведет, кроме конфуза, ибо ни в одном из указанных заведений наш герой не снискал себе диплома.
Из МГУ после первого же семестра собирались его турнуть за «ревизионистские взгляды», однако турнули все-таки после второго семестра и с другой формулировкой: «отчислен за неудовлетворительную посещаемость». В театральное училище он было бросился с головой, как ныряльщик с вышки, в брызгах, в хохоте заново рожденной «балаганности», и добалаганился быстро до формулировки: «отчислен за срыв курсового спектакля».
Самым печальным, да, пожалуй, и самым опасным периодом Сашиного образования оказался Институт кинематографии. Увлекшись возможностями «скрытой камеры», он сделал двухчастевку о летних военных лагерях. То, что полагал мягким юмором, привело в ярость полковников с военной кафедры. Пленку затребовали в КГБ, где она и канула в бездонной утробе. Либеральный декан посоветовал юноше куда-нибудь на год уехать. Общество может не простить ему посягательства на «самое святое», на патриотический долг молодежи. В общем, и из ВГИКа наш герой свалил без диплома, а за сценарные курсы зацепился с помощью сильно пьющих друзей просто для того, чтобы не забрили в казарму, не припаяли тунеядство, не выслали за сто первый километр.
Черт с ними, с этими советскими вузами, подумал тогда Саша. Настоящее образование приходит сейчас не из официальной системы, а из катакомб: из запрещенных и забытых книг, из западных интеллектуальных журналов, из подпольных художественных выставок, а главное, из общения с еще живыми светочами «Серебряного века».
Продумав эту мысль, он отправился в Ленинград и умудрился напроситься в гости к Ахматовой и прочесть ей не менее метра своих стихов. «Вот это у вас неплохо, – милостиво сказала императрица „Серебряного века“ и повторила из всего метра одну строчку, которой он не очень гордился и которую попытался промямлить при чтении: – „Смелости шмель нашептал Шамилю“. Как у Хлебникова», – добавила она с улыбкой.
Один из друзей по неоконченному филфаку свел его с двумя великими стариками, что проживали в писательском кооперативе у метро «Аэропорт», Михаилом Бахтиным и Леонидом Пинским. Старики, не избалованные вниманием молодого поколения, приняли любознательного юношу с нескрываемым удовольствием. Саша не переставал благоговеть перед исполинами эрудиции. Пытался перенять у них даже и манеры старой интеллигенции, не всегда догадываясь, что на этих манерах и ссылка, и лагерный опыт основательно отпечатались – например, сильное облизывание ложки.
Важнее то, что от них загорелся он жгучим интересом к Ренессансу и понял, что это слово часто у нас употребляют неправильно, как возрождение того, что уже было когда-то рождено, а потом по каким-то причинам зачахло лет на пятьсот или на тысячу. С этой точки зрения, говоря о ренессансе русской философии в начале двадцатого века, можно подумать, что у нас на Руси когда-то творили Аристотель и Платон. Говоря о Ренессансе, очевидно, надо иметь в виду общий творческий подъем нации, группы наций или всей цивилизации.
Потрясенный молодой человек слушал, как бесконечно прикуривающие друг у друга старики запросто говорили о литературной сцене Флоренции XIII века, о «новом сладостном стиле», что пошел от двух Гвидо – Гвиницелли и Кавальканти,[2] о том, как мощно вошел в этот стиль юный Дант. За три столетия до Шекспира! За шесть столетий до Пушкина! За семь столетий до Саши Корбаха! А значит, до этого «нового» стиля уже тогда существовал «старый»? Ну, конечно же, вот они: одиннадцатый век, трубадуры Прованса! Оттого и новым стал называться этот стиль, что жаждали возродить старый, все эти излияния, все эти канцоны Бертрана де Борна, Раймбаута де Вакейраса и прочих куртуазных бродяг, опоясанных мечами.
Человеческая карнавальная процессия со всеми ее масками хохота и ужаса проходила перед ним, ведомая Михаилом и Леонидом, «мудрецами и поэтами» ОПОЯЗа, которым только к концу жизни, после арестов и лагерей, удалось унести «зажженные светы» в свои кооперативные квартиренки. Это были люди второго российского Ренессанса. При подходе двадцатого века у нас возник могучий поток творчества, плотину которому поставили два исчадия «позитивистского мышления» – Ленин и Сталин.
Вот, право, достойная цель жизни, решил вчерашний кумир советской молодежи, – работать для третьего Ренессанса! И вот, забросив гитару на бабкин шкаф, двадцатишестилетний Корбах, недоучка филфака МГУ и театрального училища имени Щукина, забаррикадировался от молодой жизни философскими трактатами и томами классиков. Стал даже после долгого перерыва навещать свою мамочку, что работала в отделе рукописей Всесоюзной Ленинской библиотеки и имела доступ в спецхран.
Жилое пространство его в те годы простиралось в закутке за массивными книжными шкафами Ирины Степановны Корбах, урожденной Кропоткиной – да-да, из тех Кропоткиных! – и бабка не переставала восхищаться духовной эволюцией этого, как она выражалась, нехудшего представителя своего неожиданного поколения.
Промышлял Саша дежурствами в котельной, не чурался и перепродажи книжного дефицита. Щеголял в черном флотском бушлате, у которого, разумеется, была своя история. Вот она в сжатом виде.
Запад Эстонии, Кейла-Йоа. Запретная зона. Телеграфная проза в расцвете. Заброшенное имение Волконских—Бенкендорфов. Штаб танковой бригады. В парке остатки мостов на остатках цепей. Остатки идиллий. Водопад. Вздыбленные гусеницами плиты некрополя. Золото искали танкисты.
Спуск к морю. Гул сосен. Свободное радио ветра. Зеленоватый и пенный накат. На мелководье – черный бушлат, как добрая половина человечища. Вступают глаголы и наречия. Схватил. Тащу. Тяжело. Устал. Перевернул. Умопомрачительно. Сверкнуло двубортное, не наше, стокгольмское!
Бушлат, тяжелый, как лев океана, был набит окаменевшим песком. Юный Саша три дня совком (!) вытаскивал этот песок из рукавов и карманов. Привезенный в Москву предмет еще три месяца сох и наконец ожил, лег на плечи плотной и мягкой шкурой, бушлат шведского кроя, второго такого нет на Арбате. Вот в этом странном одеянии с огромного шведского плеча он и пристрастился таскаться по городу, тем более что в бездонных карманах помещалась уйма книг.
В этой воображаемой нами си-ви был еще один весьма запутанный раздел, а именно «трудовая деятельность». Тут уж совсем шли какие-то зигзаги, спирали, рывки, а главное, какие-то провалы и затемнения. Вот, скажем, главный «кредит» А.Корбаха: актерство и худручество в одном из московских театров. Всем вроде бы известный факт, однако не старайтесь найти этот театр в списках московских храмов культуры. Не пытайтесь найти в газетах или в диссертациях титулы некогда шумных и даже скандальных корбаховских спектаклей, их там нет. Останется уповать только на разговоры московской публики да на собственные воспоминания, что мы, впрочем, и собираемся сделать.
Прежде, однако, позвольте вернуться к тому, что случайно сорвалось с пера строк сорок назад, к Сашиной всесоюзной эстрадно-магнитофонной славе. При всей своей курьезности она ведь все-таки тоже относится к трудовой деятельности.
Впервые он появился перед публикой со своей гитарой на конкурсе комсомольской песни и сразу же пошел в разрез с «романтикой дальних дорог», резко выделился как независимый бард, петух шестидесятых. Песню Саши Корбаха «Чистилище» переписывали по всем десяти часовым зонам еще на старых, скрежещущих магах. От романса-блюза «Фигурное катание» закружились повсеместно головы девушек.
Концерты Саши Корбаха никогда официально не разрешались, и тем не менее они происходили, и всякий раз в самых неожиданных местах: то на турбазе в Балкарии, то в красном уголке электролампового завода, в клубе шахты, в общежитии школы торгового ученичества, а то вдруг в стильном Бетховенском зале Большого театра, в павильоне «Мосфильма» и вслед за этим на сельдяном сейнере в сахалинском порту Холмск, а потом сразу на западе, во львовском ли Политехникуме, в рижском ли киноклубе. И вечно за ним тянулся дым доносов: бросал политические намеки, был вызывающе одет, совращал невинных девиц; обращаемся с просьбой в инстанции своевременно принять соответствующие меры.
Вот он выходит, юный паренек, худенький, но с атлетическим разводом плеч, отбрасывает со лба битловскую челку – тогда еще и челка имела место, – как он ее потерял, почему так быстро развеялась? – ударяет по струнам, запевает с хрипотцой, и – восторг, и мурашки по коже, и бежим отсюда, из этой грязи, подальше в море, повыше в горы!
И вдруг – пропал любимец публики. Пошли слухи, что за границу подорвал, что урки в Якутии зарезали, что от семи жен скрывается, и так далее. Мало кому в голову приходило, что, может быть, у бабушки в Староконюшенном переулке валяется на продавленном диване, книги читает и сочиняет стихи, а между тем, как мы уже знаем, так и было.
Однажды вокруг него снова закрутился человеческий круговорот. В те дни он сошелся с группой ребят, заостренных на гражданских правах. Нужно убедить людей, что власть нарушает свои собственные законы. Без прав человека невозможен никакой ренессанс, дорогой гитарист.
Стали собирать материалы для «белой книги» по процессу Гинзбурга и Галанскова, устраивать дежурства возле народных судов, где власть нарушала свои собственные законы. Там как-то обратала их «боевая комсомольская дружина», привезла в штаб на допрос. Дружинники сгрудились, когда узнали, что среди антисоветчиков Саша Корбах. Как же так, Саша, мы твои песни поем, «Балладу Домбая», «Дельфинов», а ты среди такого человеческого мусора?! Что же, тебе евреи ближе, чем масса молодежи эпохи НТР? Ладно, уходи, ты свободен, а с остальными разберемся.
Он отказался уходить, но тут какие-то доброхоты позвонили «куда следует», и в результате этих звонков в штабе появился самый ненавистный ему человек, отчим Ижмайлов Николай Иванович, член большой номенклатуры.
В принципе, ненавистный человек мог без труда прекратить всю эту глупость с задержанием кучки бездельников. За годы меняющихся «оттепелей» и «заморозков» Николай Иванович превратился в одного из самых «сбалансированных» сотрудников Старой площади. Не секрет, что иные мнения по закручиванию гаек застревали в отделе Ижмайлова. Встретившись, однако, с полным неприятием его доброй воли со стороны уже взрослого пасынка, государственный деятель удалился, предоставив события их естественному течению. Течение это привлекло всех задержанных в суд, где им прописали по пятнадцать суток, а потом в Бутырскую тюрьму отбывать наказание.
Сидя в огромной вонючей камере, Александр вдруг почувствовал колоссальную скуку этой правозащитной активности. Плачевна участь моя, если такие кретинские суды и унылые наказания станут моими звездными часами. Увы, как-то не вижу себя в этом контексте.
Он мычал себе под нос какой-то мотивчик, выборматывал рифмовку. В результате получилась «Баллада Бутырок», ироническая парафраза к уайльдовской поэме. Таким образом намычал себе и набормотал очередной поворот судьбы. Не будь за плечами этой смехотворной отсидки, быть может, проскочил бы мимо Анисьи Пупущиной, а так вот не проскочил: девица шла ему навстречу, сияя всеми своими данными как воплощенная антитюрьма. Давний приятель Ижмайловых, родитель девушки недавно попал в номенклатурную опалу и отправлен был послом на «пылающий континент», ну а Анис стала сама себе хозяйкой в большой квартире на Алексея Толстого. Ты что никогда не заходишь, певец? Он зашел и увидел в гостях у своей будущей жены сборище молодой московской богемы, и среди оной несколько светил: Тарковский, Высоцкий, Кончаловский, как будто польская компания собралась.
Выпивали круто, говорили веско, но, к сожалению, все одновременно, все сливалось в мешанину звуков, и не сразу можно было сообразить, что идет, скажем, экзистенциальный спор, нужно ли умирать, как Сократ, или стоит держаться, как Аристотель. Попутно слетали фразы о фестивале в Канне, кто-то нес комитетского зама Баскакова, а кто-то говорил, что он «все-таки мужик», уговаривались зимой сойтись в Ялте и впадали в раж, как будто вот там, зимой в Ялте, все и решится.
Он всех их знал уже давно, и они его знали. Давайте-ка, ребята, рванем, как когда-то: «Где мои семнадцать лет? – На Большой Каретной!» Андрей ему сказал: «Я помню, как ты репетировал Галилея в училище. У тебя, старик, появился какой-то необычный типаж. Давай приезжай завтра в шестой павильон, сделаем тебе пробу».
Как ни убегал Саша Корбах от своей популярности, она опять стала к нему возвращаться. Вдруг нечаянно-негаданно стал за пару лет заметным актером в кино, а потом просто прогремел в пятисерийном теледетективе. Несколько ролей сыграл по контрактам и на театре. Ко всему прочему обнаружилась и удивительная пластичность. На Таганке Саша отменно демонстрировал возобновленную биомеханику Мейерхольда. В спектакле «Десять дней, которые потрясли мир» в роли Керенского он делал серию переворотов колесом и кульбитов с завершающим обратным сальто. Вообще эта маленькая роль выросла вдруг в событие. Критики журнала «Юность» осторожно говорили, что Корбах делает заявку на воплощение современного молодого героя (это в роли Керенского-то!). Народ посерьезней, и даже отчасти близкий к диссидентским кругам, писал, что этому актеру «есть что сказать», имея в виду, что в экстравагантной форме он немало горечи изливает в адрес своего героя, не сумевшего уберечь молодую российскую демократию.
В начале семидесятых, этого «железобетонного десятилетия», времени бесконечных торжественных собраний с выносом знамен и сатанинскими хоралами, времени удушения правозащитного движения и расцвета гипнотического фигурного катания на телевидении, Саша Корбах снова всех удивил: создал театральную студию «Шуты». Там он был и режиссером, и ведущим актером, и автором первого текста, «Спартак – Динамо». Спектакль в стиле бурлеска оказался весьма двусмысленной парафразой к «Ромео и Джульетте», где уличная банда Монтекки была болельщиками «Спартака», а Капулетти защищали цвета «Динамо», иными словами, стихия Москвы, во всяком случае грузчики и продавцы, тут как бы противостояла «клубу органов».
Сразу после премьеры спектакль был, разумеется, закрыт, однако бесхозные «Шуты» продолжали играть свой мюзикл в каких-то клубах на задворках, куда, конечно, съезжалась «вся Москва». Тут произошло чудо: в Москву приехал некий западный классик культуры, который всю жизнь колебался в спектре красного цвета, от бледно-розового до темно-багрового. В тот момент он был в совсем бледном, едва ли не белом, секторе. Цекисты-международники решили показать ему «Шутов» как пример существования в СССР неформального искусства. Классик был вдохновлен: вот такие театры, товарищи, опровергают целые тонны буржуазной пропаганды!
Вдруг у «Шутов» появился почти официальный статус. Выделен был даже подвал на Пресне с залом на сто мест. Прислали партийного директора и товаристую завлитшу, иными словами, ввели корбаховскую гопу в нормальное советское русло. «Спартак – Динамо» получил несколько положительных рецензий, его классифицировали по разделу антимещанской сатиры. Прогрессисты из чухраевского объединения «Мосфильма» предложили сделать по спектаклю полнометражную картину. Картина получилась по тем временам совершенно невероятная. В городе заговорили о «корбаховском кино». Пророчили «Пальмовую ветвь» и «Золотого льва». На том, правда, все и кончилось: за границу не пустили. Получив самую низкую категорию, фильм застрял в прокате, похожем на все российское бездорожье.
Так началась история корбаховской студии «Шуты», взлеты и падения которой можно было бы обозначить температурной кривой малярийного больного: то горячечный подъем, статьи, поездки на Эдинбургский и Авиньонский фестивали, киновоплощения спектаклей, то арктическая стужа директивного молчания, запреты премьер, отмены гастролей, закрытие дома на капитальный ремонт, даже арест банковского счета.
Тем не менее все как-то устоялось. Директор Гудок оказался склонным к хорошей беседе за часто сменяемой поллитрой. Хорошенькую литкомсомолочку все ребята в труппе перетрахали, и она из стукачки превратилась в самого яростного патриота «Шутов», готового ради родного коллектива ну буквально на все. В творческий совет театра введены были и некоторые марксисты, которые хоть и речи Брежневу писали, но слыли скрытыми либералами, а также пара столпов почвенного искусства, коим доказали, что «Шуты» – это вовсе не продукт разлагающейся западной культуры, а, напротив, чистый ручеек исконного русского скоморошества.
Ну и, наконец, главный оплот передового советского искусства, мировое общественное мнение с его спецназом, корпусом иностранных журналистов в Москве, оно тоже не было забыто. Ни один спектакль не проходил без заморских гостей, что считали за честь познакомиться с главным «шутом», неповторимым Александром Корбахом, который со своим крутым лбом и развевающимися на висках патлами, со своими сатирическими, от слова «сатир», глазами и обезьяньей улыбкой являл собой как бы символ возрождающегося авангарда. Американские гости с Бродвея и офф-Бродвея[3] пожимали его крепкую, закаленную гитарой руку. «Oh, Alexander Korbach! It’s a great name in the States!»[4] Иностранцы балдели, оказавшись вдруг посреди маразматического «зрелого социализма» в компании подвижных и веселых ребят, современных каботенов,[5] воплощавших мейерхольдовскую идею театра-балагана.
В труппе было двадцать пять человек, и все знали общую тайную стратегию. Спектакль готовился в тайне. Потом устраивали просмотр «для пап и мам», и тут же распускались слухи о диком возмущении в верхах, о драконовских мерах чуть ли не до роспуска труппы. Ленивый минкульт еще и почесаться не успеет, а туда уже звонят из «Монда», «Фигаро», «Стампы», «Поста», «Таймса», «Асахи», «Франкфуртер альгемайне»: может ли министерство подтвердить слухи о запрещении нового спектакля «Шутов»?
Начинался телефонный перезвон по всей столичной культурной бюрократии. Подтягивалась тяжелая артиллерия аппаратных «либералов», а также всяких больших имен, столпов патриотизма, цековских дочек, выдвигался влекомый девичьим составом сам Клеофонт Степанович Ситный, московский гурман и генерал секретной службы. Предпремьерная артподготовка достигала апогея, когда радиоголоса начинали освещать очередной кризис в театральном мире Москвы в обратном переводе с языков корреспондентов. Возникало впечатление, что весь мир, затаив дыхание, следит за развитием такого ошеломляющего события. Усталый режим начинал сдавать под массированным нажимом. Ну берите, берите этого вашего Корбаха, этих ваших «Шутов», ей-ей, не рухнет от этого наша держава. Ну играйте, играйте этот ваш, как его, «Зангези-рок», только убавьте анархизму да прибавьте патриотизму, ну и название перемените.
Так к середине семидесятых сформировался репертуар «Шутов», в котором было не менее полудюжины пьес: «Спартак – Динамо» по мотивам Шекспира, «Минводы» по мотивам Лермонтова, «А – Я» по мотивам телефонной книги, «Бабушка русской рулетки» по мотивам Пушкина и Достоевского, вышеупомянутый «Зангези-рок» под новым, исконно русским названием «Будетлянин», также оригинальная народная пьеса одного из столпов почвенничества под названием «Овсо», что в переводе с пошехонского означало «Овес». Последнее произведение, в котором автор с трудом узнавал свой текст, тем более что актеры, игравшие колхозников, то и дело импровизировали по-французски, считалось как бы идейным стержнем «Шутов», показателем глубинной народности коллектива.
К концу десятилетия, однако, эта как бы установившаяся уже стабильность расквасилась. Сначала вышли из худсовета столпы патриотизма, причем автор «Овсо» в открытом письме снял свое имя со спектакля. «Положа руку на сердце, – писал он, – мне всегда были не по душе ваши, Александр Яковлевич, намеки на духовную и умственную ущербность нашего, столь чуждого вашему нутру, народа». Интересно тут будет заметить, что в письме не было ни одного слова, произведенного от латыни.
Затем на худсовет перестали приходить скрытые либералы из ЦК и Института философии при ЦК КПСС. Потом и Клеофонт Степанович Ситный как-то грузно посурьезнел: дескать, не одними только паштетами да девическими компаниями жив человек в наше строгое время. Похоже было, что где-то на самом верху, возможно, на уровне Ю.В. было принято решение покончить с «Шутами».
Однажды директор тов. Гудок пригласил худрука к себе и объявил, что министерство назначило комиссию по проверке сложившейся ситуации в театрально-эстрадной студии «Шуты». Среди прочего, ты уж меня прости, Александр, будут рассматриваться чрезмерно вольные нравы на половой почве. Поступили также сигналы о каких-то химических субстанциях.
Корбах смотрел на отчужденно сморщенный лоб Гудка и понимал, что театру конец. Теперь, наверное, они расшифруют и этот портрет Маркса в кабинете директора. На юбилей Гудка актеры, сложившись по рублю, преподнесли ему портрет основоположника. За год ни сам Гудок, ни его посетители не заметили, что грудь Маркса украшает орден Ленина.
– Эта комиссия, Еремей Антонович, – сказал неожиданно для самого себя худрук, – сможет работать только у вас в кабинете. В остальные помещения не пустим.
Началась бомбардировка и ответный зенитный огонь. Пришло письмо с гербом, запрещающее репетиции спектакля «Небо в алмазах» (по мотивам Чехова и Беккета). В ответ «Шуты»
на общем собрании постановили работу продолжать. Вдруг отключилось электричество. Срочный ремонт распределительного щита. Продолжали репетировать со свечами. Пожарная инспекция оштрафовала на неподъемную сумму, но электричество зажглось. Перед генеральной репетицией переулки рядом со студией были забиты иномарками корров и дипов. Звезды богемы и бюрократии давились в проходах. Успех ошеломляющий. На пресс-конференции, которая состоялась в 3.30 утра, корреспонденты устроили Корбаху и труппе овацию. Через три дня директору позвонил министр Демичев: «До меня тут дошло, что студия выпускает любопытный спектакль. Хотелось бы ознакомиться. Давайте-ка, товарищи, воздерживаться от жареного, давайте-ка создавать конструктивную обстановку».
«Алмазы» были, в конце концов, разрешены, но «конструктивная обстановка», очевидно, понималась сторонами по-разному. «Шуты» как творческий коллектив теперь более-менее твердо стояли в контексте столичной сцены. Под сомнение ставился только основатель, злокозненный Саша Корбах. Пошла работать гэбэшная машина слухов. Каждый день он узнавал о себе что-то новенькое: разводится с женой, потому что уличен в гомосексуализме, берет с иностранцев валютой в собственный карман, рукоприкладствует на репетициях, нюхает кокаин, антисоветчик, подыгрывает по контракту пропагандистским центрам, бездарность, крадет творческие идеи, ну и самое главное – антипатриот, еврей, в русском театре делает себе капитал на дорогу в Израиль.
В окно на десятом этаже влетел кирпич с приклеенной запиской «Чем раньше, тем лучше». На Кузнецком мосту два бледных гомика приглашали в машину, делая жесты руками и губами. На Пушкинской богато одетый левантинец попросил разменять «грэнд», тысячедолларовую банкноту. Домой как-то принесли мешок запрещенной литературы – как бы посылка от некоего Карповича из Вирджинии. По телефону не реже трех раз на день спрашивали с жутким еврейским акцентом, когда он едет. В почтовом ящике ежедневно обнаруживались приглашения от родственников из Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Кирьят-Шмоны. Трое брыластых прямо напротив окон взялись свинчивать колеса с корбаховской «нивы». Выскочил с газовым пугачом. Они уже отъезжали в черной «волге» с мигалкой. Хохот: «Привет дяде Бене!»
Все это было донельзя некстати. К своим сорока Корбах и без гэбухи подошел с серьезными проблемами. Мучительно уходил из семьи. Анис настраивала против него детей, десятилетних близнецов Леву и Степу. Выслеживала его временных подружек, звонила, говорила гадости. Требовала все больше денег. Постоянно делила имущество: стереосистему, библиотеку, полдюжины картин, все его жалкие накопления. Вдруг на обоих находило просветление, если так можно сказать о приступах сексуальной романтики. Она приходила в театр, все еще красивая молодая баба «с блядинкой», как тогда уважительно говорили в Москве. Он закрывал кабинет. Семейство на несколько дней восстанавливалось, чтобы потом развалиться с еще большим треском и подлой вонью.
Нападки властей мешали также и делу более важному, чем семейная ахинея, – приближению к «основному» спектаклю его артистической жизни. Задуманное громоздилось и светилось наподобие того аляповатого дворца, который мерещился Гоголю как вторая часть «Мертвых душ». Уже несколько лет Саша выборматывал диалоги и пальцем в воздухе рисовал мизансцены грандиозного шоу по мотивам жизни Данта.
Это началось еще в начале семидесятых, когда его вдруг включили в советскую делегацию на заседание театральной секции «Еуропа Чивильта» во Флоренции. Идея была все та же: пошлем туда Корбаха, пусть буржуи увидят, что их взгляды на советское искусство при-ми-тив-ны! А он сам, в немыслимом возбуждении, даже и не особенно сообразил, куда едет. Главное – еду, главное – за бугор! Главное – увижу всех этих Питеров Бруков, и Петеров Штайнов, и прочих! Главное – расскажу о «Шутах»!
В гостинице первым, кого он встретил, оказался старый друг, кругленький пышноусый русист Джанни Буттофава, говоривший по-русски на питерский, а-ля Бродский с Найманом, манер.
– Если ты еще не был – да? – в Тоскане, значит, ты не знаешь, что такое жрать, – сказал тот. – Пойдем, я научу тебя жрать по-тоскански!
Нажравшись и напившись в подвальчике на улице Гибеллинов, они вышли в ночной квартал. Лунный свет густо лежал на стенах, подчеркивая кладку тесаных камней. В маленькой нише под образом Мадонны в стаканчике трепетала крошечная фьяметта.
– Представь себе, что здесь и семьсот лет назад было так же, – сказал Джанни. – С небольшими добавлениями – да? – вокруг тебя Флоренция Данте.
Александр задохнулся от волнения. Пропали все неоновые вывески и дорожные знаки, даже и эпоха барокко заколебалась, уступая место грубой флорентийской готике Треченте.
Они пошли вдоль стены замка Борджелло с чугунными кольцами коновязи, которые, должно быть, использовались и для приковывания преступников, с крестообразными креплениями каменных блоков, с огромными воротами из почерневшего дерева и высоченными решетчатыми окнами, за которыми угадывались сводчатые гулкие залы. На другой стороне улицы стояли стены церкви Ле Баджиа, частично той же каменной кладки, частично покрытые желтой штукатуркой. Они перешли улицу и задрали головы, чтобы увидеть зубчатый верх Борджелло. Суровость архитектуры, казалось, ждала появления Данте и Джотто. Машины шарашили мимо будто фантомы, проникшие из другого измерения.
Покружив по старому кварталу, они прошли под мрачной аркой и вышли на узкую улочку, крытую протертыми до блеска каменными плитами разных размеров и неровных очертаний.
– Видишь, как точно – да? – они подгоняли друг к дружке эти камни, – проговорил Джанни.
– Ты хочешь сказать, что это еще с тех времен? – обалдело спросил Александр.
– Ну конечно! Семьсот лет – не такой уж большой срок для этих камней. А вот в этой церкви происходило венчание Беатриче Портинари. – Джанни показал на небольшое здание все той же каменной кладки, с круглым окошком и черепичным козырьком над входом.
Двери были открыты, они вошли внутрь. В сумраке у алтаря трепетали свечи. Несколько молящихся коленопреклоненные стояли на деревянных скамеечках, положив локти на пюпитры.
– Здесь ее выдавали замуж – да? – за Симоне деи Барди – да? – продолжал чичеронствовать Буттофава. – И Данте, возможно, стоял в толпе любопытных, испытывая что-то неописуемое, ну ты понимаешь, даже его пером.
Улочки вокруг церкви были, казалось, еще не тронуты Высоким Ренессансом: суровые стены и башни, простые прямоугольные завершения. Один из таких домов как раз и был, как тут все предполагают – да? – не чем иным, как «Каса Данте», то есть фамильной крепостью их рода. С фасада свисал флаг Алигьери с гербом в виде щита, разделенного на зеленое и черное поля и с поперечной белой полосой.
– Послушай, Джанни, как ему пришла идея описать загробный мир?
– Знаешь, Саша, мне кажется, что он там просто побывал, а потом постарался передать словами непередаваемое. – Джанни вынул из сумки «кьянти». – Вот здесь мы должны выпить – да?
– О да! – В несколько глотков они осушили бутылку и оставили ее под флагом.
Оставшихся немного ночей Александр бродил по Флоренции уже в одиночестве. Он старался не замечать ничего позже Треченто. Например, фонтанов. В те времена еще не было этих пиршеств мрамора и бронзы. Вместо них существовали круглые колодцы из отшлифованного камня с аркой, к которой на колесике подвешивалось ведро. Арку иной раз как осторожное воспоминание об античной культуре подпирала парочка колонн дорического стиля. Он стоял перед таким колодцем на крохотной площади, замкнутой стеной с прямоугольными зубцами. Даже и «ласточкины хвосты» еще не вошли в моду. Попытаемся вообразить тишину такой ночи семьсот лет назад. В этой тишине гулко отдаются шаги нескольких поэтов, пришедших сюда напиться воды. Кавальканти, да Пистойя,[6] Данте. Какие странные одежды: ноги обтянуты нитяными рейтузами, на головах какие-то шапочки с ушками. Данте поворачивается в профиль, как на единственном портрете работы Джотто. Что за суровость, что за острые углы! В принципе он был не только поэтом раннего Возрождения, но и рыцарем позднего средневековья. В нужный час он надевал доспехи и опоясывался мечом.
- Когда я вижу, как плывут,
- Пестрея средь листвы, знамена,
- И слышу ржанье из загона
- И звук виол, когда поют
- Жонглеры, заходя в палатки,
- Труба и рог меня зовут
- Запеть…
– Послушайте, старик, – вполголоса за завтраком сказал Александру руководитель делегации. – Мне тут докладывают о ваших странных отлучках по ночам. Ничего странного, говорите? Стихи, что ли, сочиняете? Ну, так и запишем, стихи сочиняет поэт. Попал под влияние Данте. Ищет свою Беатриче, правильно? Да, старик, простите, но что за ахинею вы плели вчера на «круглом столе»? Мне доложили, что полная мистика какая-то – анархизм, модернизм, обскурантизм какой-то. Вы что, не понимаете, старик, кто тут у нас в делегации? Не порите горячку, иначе вам навсегда семафор закроют.
Александр, кривясь от этого вздора, молча смотрел на руководителя. Руководитель, «в общем неплохой мужик», смотрел на него. Потом пожал плечами и отвернулся.
В последний день конференции всех повезли на экскурсию в Сан-Джиминиано, в тот самый город, куда Данте был направлен в 1295 году послом, чтобы примирить враждующие кланы и обеспечить республике сильного союзника. Они добрались туда на автобусе за час, а он, должно быть, скакал целый день. Незабываемый момент – поворот дороги, и на вершине отдаленного холма появляются поднимающиеся из-за городской стены высокие и узкие сторожевые башни семейных кланов.
На обратном пути в самолете Александр, закрыв глаза, пытался прокрутить в памяти лоскутные одеяла тосканских долин, голубые холмы, города на холмах, терракоту их крыш и серые камни стен. Семафор теперь будет закрыт, надо тщательно смонтировать эти кадры, чтобы не забыть их, когда буду ставить спектакль, а потом, может быть, и фильм.
Мы не посмеем спуститься вслед за Данте и Вергилием, все эти годы думал Корбах. Останемся на поверхности, в Тоскане. Главным сюжетом пьесы, а потом, может быть, и фильма будет любовь его к Беатриче. Тут не все так ясно, как кажется. Он встретил ее возле Понто Веккио, когда ей было двадцать, а ему уже двадцать пять. Он не был невинным мечтательным юношей, каким его описывает Гумилев: «Мечтательный, на девушку похожий». Он был уже женатым человеком и отцом. Браки тогда заключались не на небесах, чаще всего они становились следствием сложной межклановой политики. Рано оставшийся без отца, он должен был стать старшим в доме Алигьери. Однако несчастным его брак считать нельзя. Он, очевидно, любил свою Джемму, любил с ней спать, знал ее тело не хуже, должно быть, чем Александр Корбах знает тело своей скандальной Анис.
Явление Беатриче потрясло его, как вдруг нахлынувшее внежизненное воспоминание о любви без похоти и о том несуществующем мире, где мужчина любит женщину, не сотворяя над ней насилия. Тут нам трудно будет не перебросить мостик в Петербург «Серебряного века», к автору «Стихов о Прекрасной Даме». Как и все русские символисты, Блок пытался читать закаты, в юности бормотал за Владимиром Соловьевым: «Не Изида трехвенечная ту весну им приведет, а нетронутая, вечная „Дева Радужных Ворот“. Любовь запредельная, та, что наполняет всю суть поэта неслыханной радостью, невыразимым счастьем жизни-не-жизни, казалась ему понятием, не совпадающим с плотским жаром. Эта любовь являлась в закатах как отражение сияний и бликов сродни тем, что описаны в Третьей книге „La Divina Commedia“, как отражение того, что мы можем назвать „свечением Беатриче“.
Конечно, все это расходится с эстетикой «Шутов», но он уж и сам эстетикой этой порядочно объелся, независимо от партийной критики. Конечно, попляшем на непримиримости гвельфов и гибеллинов,[7] на иных образах «Ада», в которых почтеннейшая публика увидит кое-что знакомое, но главной темой будет любовь, суть земной любви и не-суть небесной. Так думал он в течение нескольких лет и, оставаясь в одиночестве, выборматывал диалоги и пальцем в табачном дыму рисовал мизансцены.
Теперь все подходило к концу, и с этими мечтами нужно было прощаться. О «Свечении Беатриче» он не заикался даже на собраниях труппы. Анонимка, подброшенная в почтовый ящик, говорила, что вся его команда пронизана стукачеством. Разорвал гадость, швырнул по ветру, однако вот гадость делает свое дело, не решаюсь заговорить о Данте на собрании друзей, ближе которых нет никого на Земле. Вместо этого предлагаю прочитать пьесу коммунистического подголоска Маркизета Гуэры Филателисты, или как его там, с «пылающего континента». Хоть и гнусный компромисс, но все-таки не самый гнусный: Филателиста хоть и подонок, но не бездарен.
Однажды, уже в начале 1982 года, позвонил Клеофонт Степанович Ситный: «Послушай, Саша, давай-ка обсудим наши дела, а?» Встреча состоялась в маленьком зале ресторана «Националь». Физиономия штатского генерала излучала добро, уют, отменный аппетит, эдакая плюха. «Саша, ведь ты же талантливый человек, а о тебе каждый день болтают эти трепачи со „Свободы“. Тут стало известно, что у тебя с нервами не все в порядке. Все в порядке? Ну, значит, перебарщивают наши товарищи. Я просто подумал, что такому художнику, как ты, не очень-то хорошо быть притчей во языцех, да и с Филателистой тебе нечего позориться, ведь ты же не последняя птичка в нашей культуре. Есть люди, которые о тебе беспокоятся, думают о твоих творческих планах. „Свечение Беатриче“ – потянешь ли? Хорошо, давай короче. Вот тут подумали хорошие люди, почему бы Корбаху не подлечить нервишки, не сменить на какой-то срок декорации. Ну-ну, не заводись с пол-оборота, никто тебя в Израиль не выталкивает. Речь ведь идет просто о поездке в цивилизованную Европу. Проветришься, прикоснешься к старым ценностям. А вот это ты пробовал, ну, грибочки-то, грузди-то а-ля рюс? На хуй, говоришь? А вот это не по-русски. Словом, есть выбор. Хочешь, приглашение себе закажи от своих друзей на Западе, ну не обязательно прямо от специалистов, можно и просто от людей искусства, не мне тебя учить, да ни на что я не намекаю, просто так сказал, имея в виду журналистов, а совсем не тех, о ком ты подумал, или вот второе, официальная, так сказать, командировка, ну, скажем, от ВТО. Ну, это тебе, наверное, неудобно, да, Саша? Ну, в том смысле, что из диссидентов тогда как бы выпадаешь. Нет, это не провокация, Саша, это просто мысли вслух, ведь мы с тобой водки-то вместе немало выпили, правда?»
Еще месяц прошел после этого ужина по Гиляровскому. Все оставалось по-прежнему: наглая слежка, слухи о решении применить крайние меры к антисоветчику Корбаху, заявления для западной печати как единственное средство обороны. Даже друзья уже не сомневались: вали, Сашка, за бугор, тут тебя доведут.
У него начались приступы необъяснимой трясучки, когда кажется, что вот сейчас действительно перекинешься через бугор, но только не через тот, который все имеют в виду, а через тот, который никто как бы не имеет в виду. Он стал нажираться выпивкой и вдруг однажды увидел на стене старую гитару. В пьяную башку пришла курьезная мысль: вот она меня спасет! Подтянул колки, трахнул всей пятерней и вновь заголосил хриплым петухом, да так, что и Володя бы большой палец показал, будь тот еще жив, незабвенный друг.
Вдруг на подпольной рок-сцене появилась новая группа под старым названием «Шуты»: Наталка-Моталка, Бронзовый Маг Елозин, Шурик Бесноватов, Лидка Гремучая, Тиграша, Одесса-порт, Марк Нетрезвый и, наконец, лид-вокалист, старый наш кумир Сашка Корбах, который никуда не уехал, а, наоборот, снова с нами, втыкает «товарищам» прямо в очко!
Власти совсем взбесились. Закончился этот всплеск вокала и ритма плачевно. Загорелся клуб энергетиков, где шел концерт. В панике народ переломал энное количество костей, попутно якобы пропала какая-то девятиклассница. Началось следствие, с Корбаха взяли подписку о невыезде. После этого он позвонил Ситному: ваша взяла, оформляйте на выезд. Следствие немедленно закрылось. ОВИР с рекордной скоростью выправил заграничный паспорт. ВТО выписало командировку режиссеру Корбаху во Францию «с творческими целями».
Все вокруг смотрели на него как на покойника. Женщины, с которыми у него «что-то было», влажными протирали его взглядами: запомнить, запомнить! Одна, самая недавняя, шепнула: «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!» Он обозлился. Все ему осточертело, и этот Байрон в русском переводе. На людях еще боролся с «трясучкой», ночи превратились в череду умираний. В мае он оказался в Париже.
Вот он выходит в аэропорту Де Голль. Путешественник. Знаменитость. Из сумки торчит теннисная ракетка. Зажигаются лампы телекомпаний. Какие-то люди машут как знакомому. Саша, узнаешь? Поневоле отшатнешься: Ленька Купершток, перебежчик! Monsieur Korbach, que voulez vous dire au public de France?[8] Молодая толстуха, то есть толстая молодуха, быстро переводит на русский. Товарищ Корбах, мы из посольства. Поосторожней, тут вас приветствует агентура со «Свободы». Шакальи подлые взгляды. Его везут в отель «Крийон», на три дня он гость студии «Антенн-2». Поощрительные взгляды западных «специалистов». Ничего, ничего, он придет в себя, у него сейчас просто культурный шок. Да-да, он вылечится, думает он о себе в третьем лице. Можно хорошо его вылечить утюгом по голове. Шербурские зонтики, болгарские зонтики, какая разница?
Культурный шок и в самом деле стал быстро уступать место реализму с его утренним кофе и хорошо прожаренными круассанами. Никто на меня не покушается, ей-ей. Разведслужбам наплевать на какого-то режиссеришку. «Советчикам» – он быстро научился у эмигрантов этому слову – тоже наплевать на его разглагольствования о «несовместимости карнавального театра с казарменной ментальностью». Выдворили, галочку поставили, доложились, и ладно. Нечего представлять скандал с маленьким театром как мировую сенсацию. Парижские театралы, во всяком случае, не видят в этом трагедии.
Его приглашали и в Odeon, и в Chaillot, и в Comedie Francaise, и в маленькие труппы, игравшие в заброшенных амбарах и банях. Перед спектаклями публика ему аплодировала: браво, месье Корба! Старому другу Антуану Витезу, который, пожалуй, единственный из всех парижских режиссеров свободно говорил по-русски, он рассказал идею «Свечения Беатриче». «Большая идея», – сказал Антуан и с живостью что-то нарисовал в воздухе своими тонкими пальцами. «Не я один такой рисовальщик», – усмехнулся Корбах. «Будем думать, – сказал Антуан, – а пока что, – он вдруг воспламенился, – почему бы тебе не поставить у меня сразу две пьесы? Одну русскую, „Чайку“, а другую ирландскую, „Цаплю“, современную парафразу к Чехову? Обе пьесы можно играть в одних декорациях и с одним и тем же составом актеров. Спектакль из двух вечеров, понимаешь? Ведь русские, по сути дела, такие же алкоголики, что и ирландцы».
За многочисленные интервью во французских, английских, германских, датских, шведских, итальянских и японских журналах он получил немало денег и мог теперь не торопиться, обдумывая предложение Витеза. Все в общем шло совсем неплохо, пока вдруг не началась новая советская атака. Сначала на него вышел корреспондент «Литературной газеты» Петр Большевиков, заведомый гэбэшник, хоть и известный в роли фрондерствующего плейбоя.
– Послушай, старик, тебя, похоже, собираются лишить советского гражданства. Там где-то подготовили для Политбюро подборочку из твоих высказываний. Патриархи пришли в ярость, особенно Ю.В. Там, видишь ли, еще живы такие категории, как классовая борьба. В этих рамках с тобой, похоже, хотят расправиться.
Корбах стянул свой обезьяний рот, стараясь ничего не выдать изучающим зенкам агента. Страшное слово, однако, уже влезло ему под кожу. Пощелкивала артерия под ключицей. Хотелось истерически закричать: «Расправиться?! А по какому праву вы, красные свиньи, приговариваете человека, даже если он обезьяна?!» Все-таки не закричал и не задергался, однако почему же Большевиков ушел такой довольный?
Через день после этого визита напрямую из Москвы позвонил Клеофонт Степанович Ситный. Говорил неслыханно ледяным, будто вся Сибирь, тоном. На «вы»! «Вы что там, Корбах, с ума сошли?! Как вы смеете говорить, что карнавальный театр несовместим с казарменной ментальностью? Все наше общество к казарме подверстали?! Совсем уже продались подрывникам? Ну, пеняйте на себя! Я умываю руки!»
Что-что, а техника давления на нервы у большевиков была неплохо отработана. Через три дня «Советская культура» тиснула фельетон «Шут Корбах на ярмарке тщеславия». Гэбэшный псевдоним А.Николаев довольно гладким слогом (наверное, сам Петька Большевиков и написал) повествовал о том, как рехнувшийся от жажды славы актеришка продает свою родину. Фельетону соседствовало гневное письмо деятелей советской культуры. Дюжина подписей с титулами заслуженный, народный и так далее. Из знакомых никого, кроме артиста Стржельчика, что давно уже приспособился гвоздить диссидентов.
Опять о нем вспомнили радисты русскоязычных станций. Накачиваясь с утра скотчем, он рубал в телефон ответные инвективы. В выражениях не стеснялся настолько, что даже радисты покрякивали: не слишком ли круто, Саша? Ничего-ничего, пусть знают, что не боюсь.
Конечно, он не боялся, ведь не назовешь же страхом утренний мрак, желание то ли скукожиться в неподвижную куколку, то ли раскатиться ртутью во все стороны. Депрессией это называется просто-напросто. Он бормотал дантовские строфы, в частности: «Им невдомек, что только черви мы, в которых зреет мотылек нетленный, на Божий суд взлетающий из тьмы». Это помогало вместе со скотчем.
Однажды пришел старый кореш, актер «Современника» Игорь Юрин, который три года назад «дефектнул»[9] из Совдепа и в Париже женился на марокканке: «Знаешь, один местный коммуняга спросил тут меня с гадкой улыбкой: „Кажется, ваш друг месье Корба погиб в автомобильной катастрофе, это верно?“ Откуда, говорю, такая информация, а коммуняга усмехается еще гаже: „Наши товарищи только что прилетели из Москвы“. Ну вот, получи и распишись. Тебе все понятно? Хочешь совет, Сашуля? Сваливай из Парижа. Они тебя тут доведут своей агентурой влияния. Куда? Да в Америку сваливай. С твоей славой я бы сразу в Америку свалил. Витез не сможет тебе дать здесь постоянный заработок. Знаешь, наши в Америке говорят, что там сразу возникает колоссальный отрыв от Советов, как будто на планете и не пахнет этой сволочью. Я лично просто мечтаю об Америке, но что мне там делать без славы и с нулем английского. А ты еще и английский знаешь отлично».
Интересно, что через день после этого разговора, в ветреную погоду с улетающими шляпами и косынками, он натолкнулся на американского дипломата Никиту Афанасьевича Мориака, которого знал по Москве как большого поклонника «Шутов», всегда готового к переправке писем и пьес через священную границу. В пенсне со шнуром, тот заключил его в объятия: «Вот так встреча! Я уже полгода работаю в Париже, но все знаю о вас».
Они зашли в кафе на Карфюр дю Бак.
– Знаете, чувствую какую-то странную ностальгию по Москве. – Мориак внимательно и печально смотрел, как Корбах заказывает один за другим двойные скотчи. Вдруг просиял, узнав, что собеседник собирается в Америку: – Великолепная идея, Алекс! Вам там выкатят красный ковер. Ну, это просто такое английское выражение. В общем, великолепный прием вам обеспечен. Со своей стороны я гарантирую визу Н-1, а через год вы получите «зеленую карту».
– Вместо зеленого змия? – скаламбурил Корбах.
Мориак похлопал его по плечу:
– Вы там сами во всем разберетесь. Поверьте, Америка – это далеко, очень далеко от ЦК КПСС!
Заканчивая этот предельно краткий корбаховский «куррикулюм витэ», мы выходим на вполне банальную фразу: «Вот так получилось, что в день своего рождения 10 августа 1982 года Александр Яковлевич Корбах ступил на американскую землю», – и возвращаемся в шагающую по утробному тоннелю толпу пассажиров ПанАм навстречу нацеленным телекамерам.
3. Стоградусный Фаренгейт
Только приблизившись к барьеру, Корбах понял, что фото– и телекамеры направлены вовсе не на него. Из-за плеч и съемочных приборов торчала курчавая голова знаменитого теннисиста.
Встречающие выискивали среди прилетевших своих. На этом пороге происходила материализация трансатлантических фантомов. Процесс, аналогичный вытягиванию своего чемодана, только радостные эмоции выражаются в более демонстративной форме. Никто, однако, не торопился вытягивать режиссера Корбаха. Он шел мимо картонок с именами тех, кого не знали в лицо: Верне, Шварцман, Зоя Бетанкур, Куан Лижи, – его имени тут не было. Он прошел через всю толпу, и никто его не окликнул.
Может, где-то у другого выхода встречают – что-то перепутали говнюки? Он пошел вдоль огромного зала, заполненного фантасмагорическим говором, в котором он не понимал ни единого слова. Временами ошеломлял громогласный пейджинг,[10] в котором он тоже ничего не понимал. Носильщики разговаривали между собой на совершенно непонятном языке. Да я, кажется, совсем не понимаю по-английски, если это английский. «Information», – прочел он. Вот это понятно. Надо спросить, где здесь встречают режиссера Корбаха. За открытой стойкой сидели три свежих девчонки в униформе ПанАм, они болтали друг с другом. Приблизившись, он понял, что не может ни слова выдернуть из их болтовни. Одна из них повернулась к нему: «Sir?» Он отвел глаза и прошел мимо. Она понимающе посмотрела ему вслед. Наверное, восточноевропеец. Польские и чешские беженцы часто стесняются своего английского, в отличие от тамилов, сенегальцев и бирманцев, которые не стесняются.
Не менее часа Корбах возил свой чемодан на колясочке по терминалу, пил воду из фонтанчиков, чтобы не заказывать кока-колу по-английски, пока не пришла ошеломляющая мысль: меня здесь никто не встречает! Да ведь Мориак же сказал, что встретят! Да ведь и отголоски были немалые в американской прессе! Все американцы восклицали при знакомстве: Alexander Korbach! That’s a great name in the States!
Он вышел из здания и увидел перед собой гигантское лежбище гладких, отсвечивающих на солнце морских львов. Изредка медленно начинали перемещаться самцы. Сальвадордалиевское перезревшее солнце висело над возлежащим стадом. Необозримый паркинг машин.
Сразу покрываешься потом. Влажность охуенная. Humidity или humanity?[11] Не важно как, но во всем этом пространстве никому до меня нет дела.
– Господин Корбах! – тут же отозвалось пространство.
Подходил невысокий уплотненный человек в скверной летней рубашонке навыпуск. Рукопожатие, обмен потом.
– Мне Игореша Юрин утром позвонил, попросил вас встретить на всякий случай. Бутлеров Станислав, ну, в общем, Стас, ведь мы же с вами, кажется, одного возраста. – Он повел его прямо в пекло, на дальний конец паркинга. – Я уж думал, вы не приехали: нигде никаких признаков встречи. Внешность вашу, сорри, проектирую не очень отчетливо: за три года подзабылись герои отчизны. Хотел уже уезжать, и вдруг сам идет, во плоти. Сразу эта песенка ваша вспомнилась: «Преисподняя, преисподняя, посвежей надевай исподнее».
Корбаха замутило от собственной строчки столетней давности.
– Ну вот, пришли.
Стояло большое желтое такси.
– Там шофера нет, – сказал он.
– Я сам шофер, – ухмыльнулся Бутлеров.
Поехали по шоссе, четыре ряда в одну сторону, четыре в другую. Поток разнообразных машин ровно катил на одной скорости, как будто их всех завели одним ключом и разом пустили. Скользили мимо невзрачных домишек и торчащих кирпичных кубов без каких-либо признаков архитектуры, одни стены, окна, двери – чего еще, вполне достаточно. Иногда над крышами возникал рекламный щит: призыв аэролинии или кэмеловский человек с его пшеничными усами. На одном углу промелькнула толпа, почему-то показывающая пальцами в одном направлении, но вообще-то было пустынно.
– Вам вообще-то куда? – спросил Стас Бутлеров. Он был вполне корректен – вообще-то, – только иногда среди подпухших век мелькало выражение легкого сарказма.
– Да в центр, – пожал плечами Корбах.
Жаль, что не выпил на вокзале. Сейчас бы все это иначе окрасилось. Не пришлось бы корежиться на каждом вираже, когда над штабельными кирпичными домами появляется в сером застое набухшее малиновой магмой солнце.
– На Манхаттан, значит, – со странным лукавством произнес Стас. Он описывал широкий полукруг перед подъемом на подвешенную автостраду. Слева по борту на склонах холмов стояли прижатые друг к другу небоскребы, эдакое воинство, как бы готовое спуститься к битве.
– Странный вид, – пробормотал Корбах.
– Это еврейское кладбище, – проговорил Бутлеров.
У меня просто настоящий невроз, подумал Корбах. Близкое кладбище принимаю за отдаленный Манхаттан. Надо было выпить в ПанАм. Зря не выпил.
– А вот сейчас это уже Манхаттан, – сказал Бутлеров. Всеми силами он старался избежать торжественности, но до конца ему это не удалось.
Зрелище в тот вечер было величественное и мрачное. Застойный стоградусный Фаренгейт создавал от всей гряды камня, стекла и стали ощущение какой-то неясной неизбежности, приближения чего-то кардинально бесчеловечного. Ясность вносило только ядро солнца, висевшее над грядой в мутном вареве городской поллюции,[12] имея в виду только американский, никоим образом не русский смысл этого слова.
– Вам все ясно? – спросил Бутлеров, и трудно было понять, чего больше было в этом вопросе, сарказма или гордости.
– Вполне, – засмеялся Корбах. – Как в кино, – продолжал смеяться он. – Как во сне, – и все смеялся.
I. Процессия
- Толкнуло что-то или сам сорвался?
- Любви ль укол иль паровой утюг
- Низвергнулся? Ну вот – отшутовался,
- Отпсиховался, брякнулся, утих.
- С Таганки, через Яузу, к Солянке
- Все тянется печальная процессия,
- Парит над ней душа его, беглянка,
- В парах тоски и возбужденья Цельсия.
- Влечется тело к пышностям ботаники
- В номенклатурный усыпальный парк.
- Так оседают в глубину «титаники»,
- Задув огни и выпустив весь пар.
- МузЫка озаряется МоцАртом,
- Но меркнет в заунывной какофонии.
- Прощай, акустики волнующее царство,
- Прощайте, мании и вместе с ними фобии.
- Везде торчат отряды безопасности,
- В чаду чудовищный чернеет водомет,
- И воронье с распахнутыми пастями
- Изображает неких ведьм полет.
- Толпа в сто тысяч с грузностью колышется,
- Как будто жаждет жалкого реванша.
- Под ней цемент России грязно крОшится,
- Так соль крошИтся на брегах Сиваша.
- Плывет невысоко над катафалком
- Его энергия, иль то, что называл
- Душою он, оставив поле свалки,
- Еще не рвется отойти в астрал.
- Она взирает все на оболочку
- Его короткой ненаглядной жизни,
- Еще не в силах увидать воочию
- Сонм русских душ над кровельною жестью.
- Умели спрыгнуть жалкие останки
- В сальто-мортале на скаку с коня
- И в марафоне продержаться стойко
- С другими «колесницами огня».
- Они когда-то возжигались страстью —
- Так верой в Храм горит израильтянин, —
- Не знали мук, не ведали о старости,
- Как птицы, что поют: не зря летали!
- Гемоглобином насыщались клетки,
- Казался вечным жизненный процесс,
- Когда вдруг полетели все заклепки,
- Как будто гарпий отпустил Персей.
- Теперь их амплуа лишь «бедный Йорик».
- В последний путь шута и каботена
- Пусть пронесут советские майоры,
- Как в Дании четыре капитана.
- Астрал пред ним встает холстом Филонова,
- Скопленьем форм вне классов и вне наций,
- Как будто всю парсуну начал заново
- Чахоточный титан, знаток новаций.
- Еще влечет к себе Земли энергия,
- Все имена цветов, святых, планет,
- От Андромед до Пресвятого Сергия,
- Хоть тех имен вне кислорода нет.
- Слова ушли, и возникают сути.
- Надмирный свод в нерукотворной Торе
- Сверкает, как невидимые соты,
- На радость ангелам и дьяволам на горе.
- Прощай и здравствуй. Над высотным шпилем —
- Барокко Сталина, палаццо Эмпээс —
- Парит певец, один в надмирном штиле,
- А у ноги парит послушный пес.
- Так всякий раз к приходу новой сути
- Родные духи поспешают снизиться
- Порой на самый край телесной жути,
- Как нимбы света в кафедральной ризнице.
- На дне приходит очередь стакана.
- ПролИлась горем, водкою сушись,
- Москва! Она прокатывается стакатто
- И выпивает на помин души.
Часть II
1. Анисья в Нью-Йорк-сити
Бывшая жена Корбаха Анис, урожденная Анисья Пупущина, не первый раз посещала Нью-Йорк. В начале семидесятых ее номенклатурный по МИДу папаша после успешного распространения коммунистического керосина на «пылающем континенте» был послан сюда заместителем главы постоянного представительства БССР при ООН. К Белоруссии он все-таки имел некоторое отношение, поскольку обладал специфическим произношением звука «ч». Этот дар, надо сказать, перешел и к Анисье. Как-то раз в начальных классах школы училка велела ей произнести череду слов с суффиксом «чк». Невинное дитя с большущим бантом почему-то не знало великорусского смягчения внутри этого фрагмента речи. Дочка-точка-свечка-печка-ночка-точка. Класс полег от смеха, и даже училка заулыбалась: да ты у нас белоруска, Пупущина!
Как у всех советских людей, семейные корни у Пупущиных не очень-то далеко прослеживались, так что не исключены были какие-то «белые россы» за горизонтом. Позднее, когда она выросла в молодую женщину с ошеломляющей гривой светлых волос, ее стали принимать за скандинавку. Вот и сейчас, когда она идет по Пятой авеню в цветастом платье и высоких итальянских сапогах, под ветром, так здорово обтекающим супербабскую фигуру, мужики распахивают пасти: She must be Swedish![13]
Все-таки это преувеличение, что они тут все в Америке заделались гомиками. Очень многие просто сумасшедшие в отношении женщин. Идут следом, перегоняют, бормочут что-то – этот чертов инглиш не дается Анис, – похоже, что с ходу делают хамские предложения, как будто она не сорокалетняя советская деятельница, а молоденькая сучка.
Вчера один такой совсем распоясался. Рванул к ней, как будто мечту свою узрел, эдакий эфиоп! Глаза и зубы вспыхивают на черно-лиловом лице. Тянутся большие бархатные губы. Мелькают длинные пальцы с перстнями. Гангстер, что ли, какой-то? Where are you from?[14] Называет какую-то неизвестную страну, Хэйти. Сует подарки: «Монблан» с золотым пером, «Роллекс» с бриллиантами, тяжелый бумажник крокодиловой кожи, булавку от галстука, хотите все сразу, все это, мадам, за одну ночь? Она хохотала: может, и штиблеты свои подарите, сеньор? Он тут же начинал развязывать шнурки на тысячных крокодилах, экзотический некто, – ах да, Альбер, а фамилия какая-то вроде Шапокляк. Он проводил ее до здания миссии, а при виде советской вывески изумленно открыл альков рта. Анисья же, изобразив достоинство советской женщины, скрылась под гербом с колосьями.
В этот раз в Нью-Йорке она была советской женщиной вдвойне. Дело в том, что приехала как член делегации Комитета советских женщин. На различных ланчах, жуя безвкусные треугольники сандвичей, пия непьянящее вино, вместе с подругами пудрила мозги голубоволосым старушкам: миру мир, мы все в одной лодке и так далее. Иногда, правда, нарывались на остроязыких евреек в мужских пиджаках, сотрудниц Helsinki Watch или Freedom House. Эти сразу открывали пулеметный огонь: почему разогнали ленинградских феминисток? чем вам мешал журнал «Мария»? Какие еще феминистки? Какая еще «Мария»? Ну что ответишь, если никогда об этом ничего не слышала?
Наконец сегодня какой-то хмырь из «первого отдела» отвел ее в сторону. Вот сегодня, Анисья Борисовна, часиков эдак в три пи-эм[15] вам нужно будет прогуляться по солнечной стороне Пятой авеню. Вполне возможно, вы там кого-нибудь встретите. И вот она послушно прогуливается, но почему-то слишком торопливым для прогулки шагом. Отражается в витринах, попавших в тень, и почти полностью пропадает в солнечных отражениях.
Минут через пятнадцать такой прогулки из встречного потока толпы выделился тот, кого ждала, который так измучил за годы жизни, гад, не могу забыть, какой уж тут, к черту, феминизм, ноги почувствовали свои сорок лет, прислонилась к столбу. Корбах прошел было мимо, потом остановился и стал беспокойно оглядываться. Он был не один, рядом зло рубил воздух ладонью мрачноватый мужик пугачевского типа. До Анисьи донеслось: «Межеумки! Нравственные недоноски! Ублюдки!» Она увидела, как Корбах берет того за руку, как бы желая остановить инвективу, как бы пытаясь прорваться через поток ругательных слов к повороту судьбы, если можно отнести к судьбе сценарий, разработанный вне романа досужими и пошлыми режиссерами. Увидев же наконец ее у столба с зеленой табличкой «35 th Street», он оттолкнул спутника и бросился к своей бывшей жене.
2. Рассеянность Фортуны
К этому моменту он был уже две недели в Нью-Йорке и жил у того, кто его, единственный, и встретил в аэропорту, – у Стаса Бутлерова. Переступив порог Бутлеровых, он сразу вспомнил Москву: из кухоньки тянуло жареными баклажанами, жена Стаса, толстенькая интеллектуалка Ольга, и теща Фрида Гершелевна накрывали на стол по русскому принципу «мечи, что ни есть, из печи». В углу ливинг-рума под портретом вдохновенного Пастернака и картиной Оскара Рабина с селедкой на газете «Правда» стояла двенадцатилетняя скрипачка, «надежда семьи» с аденоидным выражением гениального лица. Семья жила в основном на зарплату Ольги, программистки, а также на фуд-стэмпы, что получала Фрида Гершелевна по восьмой программе для престарелых иммигрантов. Последнее обстоятельство делало старушку тоже своего рода программисткой, как она шутила. Стас между тем, озверев от неудачных попыток подтвердить свой адвокатский диплом, иногда подменял друга таксиста, а иногда друга ночного сторожа. Когда-то он был московским знатоком искусств, знал все театры и кучу знаменитостей, даже и с Корбахом пересекался, хоть тот ни черта и не помнит.
– I can’t believe it, Sasha Korbach himself![16] – воскликнула Ольга.
– Шатапчик,[17] мама! – пресек ее муж. – Дома только по-русски!
Ужин закончился в три часа ночи. Стас нагрузился, проклял историю и современность, Россию и Америку и предложил вечную дружбу «изгнанников духа». Предложение было принято. Корбах свалился на приготовленное ему ложе прямо возле обеденного стола лицом в потолок с аляповатой лепниной. Ничего не хочу, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не произношу. Закругляюсь или, вернее, простираюсь. Лежу распростерт. Не хватило сил пойти в лагеря, теперь – простирайся в пустоте.
Что же на самом деле произошло? Почему никто на американской земле не встретил эту все-таки довольно изрядно нашумевшую личность? Все-таки куда ни кинь, а на полдюжины интервьюшек, хотя бы уж для русской прессы в Большом Яблоке,[18] он бы потянул. Боюсь, что ему так никогда и не узнать, что произошло-то всего-навсего легкое недоразумение. Ну а нам по авторскому произволу ничего не стоит рассказать об этом л.н. озадаченному читателю.
Дело в том, что секретарша Никиты Афанасьевича Мориака в Париже просто-напросто ошиблась на один день. Сотрудница штаб-квартиры организации «Дом свободы» Мэг Паттерсон, получив телекс, извещающий о том, что советский театральный диссидент Александр Корбах прибывает в аэропорт JFK[19] 11 августа, тут же стала звонить в разные газеты и на телевидение, потому что у нее уже был порядочный опыт по приему советских диссидентов. Изъявили желание прислать людей и 13-й городской канал, и ABC World News, и New York Times, и Washington Post, и Wall Street Journal, и даже журнал Time, у которого к этому времени в разделе Peоple[20] как раз образовалось окошко между женитьбой Бэрри Фонвизен и разводом Лэрри Кранчлоу. Никто, разумеется, там никогда не слышал о таком режиссере, хотя довольно курьезным образом, о котором речь пойдет ниже, все понимали, что Alexander Korbach is a great name in the States.
Конечно, если бы Мэг Паттерсон догадалась позвонить большим людям театра, вроде Боба Босса или Хулио Соловей, которые не раз бывали на спектаклях «Шутов», корбаховская story все-таки бы вздулась, однако она в театры не ходила, отдавая все время своей диссертации, и имен этих не знала.
Таким образом, ровно через сутки после приезда нашего героя, как раз в то время, когда он с Бутлеровым собирался на еще одну селедочно-баклажанную вечеринку в Куинс, у ворот тоннеля ПанАм собралась приличная толпишка американских газетчиков и телевизионщиков, а также несколько увальней из местной русской прессы. Никого не встретив и сильно разозлившись, журналисты отправились по домам. Зная эту публику, мы вправе предположить, что такой афронт прибавил бы им азарту и они всем скопом взялись бы за поиски пропавшего москвича, однако в тот же вечер пришло сообщение, что арабские энтузиасты на Ближнем Востоке захватили американский пассажирский самолет. Драма поглотила все колонки газет, и о «театральном диссиденте» немедленно забыли.
Прискорбная история, ничего не скажешь, особенно для советской знаменитости с измученной вегетативкой, тем более что и истории как таковой знаменитость не знает, от нее осталась ему одна лишь пустота сродни изжоге. Ничего другого не остается, как предаться самобичеванию. Советские критики, видать, правы: тщеславие меня сжигает. Все мои мечты о третьем Ренессансе не что иное, как судороги тщеславия. И весь мой «новый сладостный стиль», и вся моя «Дантеана» со «Свечением Беатриче», ведь все это – ну, сознайся! – было задумано как шумиха на всю Москву. Сама моя известность, пусть советская или антисоветская, это пошлость. Вообще известность – это пошлость, надрыв, дешевая экзальтация, вульгарнейшая штучка. Вечная неестественность, дешевые номера по показу то скромности, то высокомерия, то достоинства. Это просто дурацкое состояние. Попав однажды на чертову карусель, уже не спрыгнешь. Тебя забудут, а ты все будешь кокетничать со всем миром и думать, что и мир продолжает с тобой кокетничать.
Нужно воспользоваться нынешней отрезвляющей, хоть и сжигающей все внутри, отрыжкой и вырваться из блядского балаганчика. Башкой вперед вырваться из хоровода блядей! Жаль, что я делать ничего не умею, кроме сочинения никому не нужных песенок, постановки балаганных пьес да танцев с вольтижировкой. Впрочем, можно водить такси, как Бутлеров водит, Плевако советских судилищ. По уик-эндам будем выжирать полгаллона «Смирновской», ходить по бордуоку,[21] бомбить творческую хевру и политическую элиту, постепенно превращаться в брайтонских бесноватых.
Между тем Бутлеров, вдохновленный неожиданной дружбой с самим Сашей Корбахом, продолжал его водить по квартирам своих знакомых. Его, признаться, поражало, что сверхзвезда беспрекословно принимает все приглашения и, вместо того чтобы посещать коктейли настоящего, американского, Нью-Йорка, высиживает вечера в тесных застольях среди инженеров, работающих подсобниками, врачей, не подтвердивших советские дипломы, журналистов, адвокатов, лекторов, ставших массажистами, официантами, продавцами горячих кренделей, майкопечатниками, то есть операторами прессов, штампующих рисунки и надписи на излюбленном одеянии этой страны, на рубищах без воротников и с короткими рукавами.
Эти люди, по сути дела, были тем, что в России на театре называлось «публикой», они-то и создали в свое время популярность Саше Корбаху. После двух-трех рюмок они начинали напевать его старые песенки, лукаво поглядывали, после четвертой уже запросто совали гитару: «Ну, Саша, рвани!» Он послушно «рвал». Ему ободряюще кивали: «Все при тебе, старик, и голос, и стиль, и страсть!» По глазам он видел, что сочувствуют ему как человеку прошлого.
Слухи, однако, уже гуляли по «русскому» Нью-Йорку: Корбах в городе! Однажды забрели с Бутлеровым в ресторан «Кавказ», не успели принять по первой, как вдруг все заведение встало с поднятыми бокалами: Саша Корбах с нами! Выпьем за Сашу! Цыганка тут, конечно, заполоскала подолом: «К нам приехал наш любимый, Саша Корбах дорогой!» Пошел разгул в чисто московском духе. Из «Кавказа» потащились в «Руслан». Оттуда в огромный мрачный лофт,[22] прибежище художественной богемы. Гении, однако, не выразили никаких особенных восторгов. Напротив, весь вечер на Корбаха как бы не обращали внимания, давая понять, что это он там, в Совдепии, был первачом, а здесь идет суровый гамбургский счет, здесь тамошние ценности не ходят. Какая-то подвыпившая девчонка пыталась пробраться к нему, но ее отвели за печку-буржуйку и отхлестали по щекам.
Ну ладно, Стас, с меня довольно, айда, сваливаем!
В ту ночь Нью-Йорк для разнообразия отделался от своей липкой влажности. Канадский воздух подошел плотной стеной от стратосферы до раздавленных пивных банок и начал дуть ветрилом через заезженные метафоры Манхаттана, то есть сквозь каменные ущелья, что ли, или в каменном лабиринте, что ли, хотя какой тут лабиринт, если и пьяная обезьяна не заблудится в пронумерованной геометрии. Ночь, словом, была волшебной, длинные белые облака неслись по черному небу, как академические гребные суда. Миг – и я влюблюсь в этот город. Миг проскочил.
«Ты знаешь, Бутлеров, в эвакуации, в Казани, мы жили на улице Бутлерова. Я был тогда крошкой, но все-таки помню деревянные домишки и гремучий трамвай». – «Этот Бутлеров, Корбах, знаменитый химик, казанский профессор, мой предок, ни больше ни меньше». – «Слушай, Бутлеров, я просто не знаю, что мне делать». – «Я это понял, Корбах, я просто бешусь, когда вижу, что эти гады с тобой сделали. Ведь ты же раньше просто как факел трещал вдохновением! Хочешь, пойду завтра в Newsweek, устрою там скандал: пишут о любых говнюках, а русского гения не заметили!» – «Ценю твой порыв, но ты меня не так понял. Мне просто нужно куда-то сбежать». – «Куда же еще бежать, друг? Больше бежать уже некуда».
Тренькала ночь. Корейские лавки были открыты. Ветер освежал выставленные на покатых лотках фрукты. Мимо прошли три полуобнаженных американца вавилонского происхождения. Собственно говоря, это были три льва с перманентно уложенными гривами. У гостиницы «Челси» бузил с дамой несколько заторчавший новеллист. Подвывали дальние и близкие амбулансы. Девка без штанов кутала грудь в норковый палантин.
«Знаешь, Корбах, я и сам хочу сбежать. Ольга нашла себе пуэрториканца на десять лет ее моложе. Мы всегда гордились передовыми взглядами на секс, а выяснилось, что я этого не выдерживаю». – «Бутлеров, эта революция тоже провалилась. Грядет сексуальный тоталитаризм. Ну, давай убежим куда-нибудь. Есть такой штат Очичорния, возле Калифорнии, или его там нет и в помине?» – «Про это я не знаю, Корбах, но в Лос-Анджелесе у меня есть процветающий друг. У него пай в парковочном бизнесе. Он найдет нам джоб».
Остаток ночи Корбах проворочался на тахте в прямом соседстве с обеденным столом, на котором разлагалась недоеденная сайра из русской лавки. Из спальни доносились повышенный голос Бутлерова и тоненький счастливый меццо Ольги, поющей испанскую песню. Слышались какие-то обвалы: то ли книги летели на пол, то ли мягкие бутылки с диетической кока-колой. Мужская истерика, однако, была бессильна перед звенящим словом «корасон».[23]