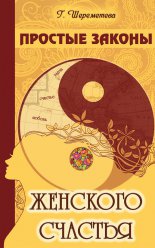Выше Бога не буду Литвин Александр

36
Я проснулся в 5 утра. Сон был странный. Купейный вагон, я стою в коридоре, напротив меня – Леонид Ильич Брежнев. В длинной, до пола, белой рубахе. Он стоит передо мной, показывает два пальца правой руки и, пятясь назад, в какой-то туман, говорит, уже исчезая в тумане: «Еще два, еще два…». Меня выбрасывает из сна. Я лежу и думаю: что это, что два, почему Генсек? А через час ко мне прибежал посыльный: «В ружье!» Я схватил тревожный чемодан и помчался на службу. Там, в бункере, мы сидели практически в полном составе и сначала не было никакого волнения – обычная боевая учеба и проверка норматива по сбору личного состава. Командир пояснил, что команда поступила из Москвы, но и он думал так же, как и все остальные: часть боевая и команда «В ружье!» была не редкость. Но прошел час, второй, а команды «Отбой!» не поступало.
Командир нарушил субординацию и по ВЧ-связи связался с Москвой. Выслушав отборный мат, он побледнел и потом сказал:
– Не знаю, что там, но меня крепко приложили.
Я вспомнил свой сон и рассказал сослуживцам:
– Сон сегодня видел, что-то в правительстве происходит. Власть меняться будет.
Я сам себе поверить не мог, что Брежнев умрет. Он же ВЕЧНЫЙ! Он был вечный для всех, все привыкли к его вечности. Замполит, мозги которого были изрядно промыты в училище, посмотрел в мою сторону очень внимательно и сурово. Он уже раз сдал меня командиру за политический анекдот. Но командир был адекватным, и как-то, собрав нас без замполита, объявил: «Никаких анекдотов при замполите, у него с чувством юмора проблема. Я надеюсь, тот, кого это касается, меня понял». Я понял, но сейчас случай неординарный, и сон явно информационный. Мне не хотелось особо привлекать внимание своими снами, но здесь очень уж важный момент. Часа через два раздался звонок по ВЧ-связи. Командир выслушал и положил трубку:
– Отбой! И одно объявление, – лицо было весьма серьезным. – Товарищи. Нас постигла тяжелая утрата. Скончался Леонид Ильич Брежнев.
Он слово в слово повторил то, что ему сказали по телефону. Замполит резко развернулся ко мне. Все-таки запомнил мои слова. Но теперь он смотрел по-другому: «А что ты видел?». И я рассказал свой сон.
Потом сменилось еще два генсека, которые ушли вслед за Брежневым, а замполит стал нормальным человеком.
Наталья была первая, кому я рассказал сон про Брежнева. Она не была удивлена, она только сказала: «Если еще нечто подобное увидишь, не рассказывай никому». Она боялась за меня и была, наверное, права: такие вещи в те времена рассказывать было нельзя. Могли неправильно понять и запытать вопросами. Откуда информация, откуда утечка? И весьма сложно потом объяснить, что это сон.
После этого сна, который оказался реализован так быстро, практически моментально, я стал к ним готовиться. Я выполнял методику бабушки, но пока еще не знал всей сути механизма. Информация то шла, то не шла. То она была прямого рода, то мне приходилось ее интерпретировать, но знаний явно не хватало, и на эту нехватку указывали мои сны. Мне снилось, что я вновь и вновь сдаю экзамены. То в школе, то в училище, то в институте. И постоянно испытывал затруднения с ответами. Эти сны изматывали меня: мало знаешь… мало знаешь! Учителя, все учителя, которые были в моей жизни, они снились мне все, даже те, кто когда-либо по замене вел у меня один или два урока. Мало знаете, не готовы, идите и читайте, поучитесь еще! Это было похоже на сумасшествие. Я на физическом уровне уставал от ночной критики, просыпался разбитым и в какой-то момент решил: хватит, так и в дурдом загреметь можно. Я заказал сон и спросил: «Что мне надо делать, чтобы прекратились эти кошмары?» И увидел ответ. Я в лесу, на Чукотке, река, рыба плещется в реке. Солнце встает и заходит, появляется Луна, скатывается, и опять Солнце. Вода в реке пребывает и убывает. Я проснулся. Интересно. Что это за ускоренное кино – восход-закат Солнца и Луны. Астрономию что ли почитать? Этот предмет я специально никогда не изучал, ни в школе, ни в училище, ни в институте. Я начал с астрономии и до сих пор еще не закончил, но сон про экзамены мне больше не снился никогда.
Я доверял своим снам все больше и больше, но доверять – одно, а действовать в соответствии с ними у меня не всегда получалось. Однажды я увидел сон, в котором собирался в дорогу, и никак не мог найти один сапог, да так и пошел. Утром мне и детям надо было лететь на материк. Дети совсем еще маленькие. Младшему Альберту всего полтора года. А у меня командировка, вот я и прихватил их с собой, чтобы отвезти пораньше к бабушке и дедушке. Я понимал, что что-то в дороге должно произойти, что путь будет тяжелым и опасным, но…
Мы приехали в аэропорт. Сон был в голове, и я все время следил за обстановкой. При посадке стюардесса поскользнулась на металлическом трапе и сильно подвернула ногу. Какой-то ребенок истошно орал и не хотел лететь. Пожалуй, никто, кроме меня, выводов не сделал. Я сделал. Но ведь все равно зашел с детьми на этот борт.
В полете ничего необычного не происходило, мы летели хорошо. На подлете к Сеймчану, как положено, пристегнули ремни, и самолет приступил к снижению. До земли было уже не более 600 метров, когда наш самолет вдруг резко стал менять курс. Он летел так, что кроме земли в моем иллюминаторе не было видно ничего, а в иллюминаторе напротив – только небо. Вещи летали по салону, стоял тошнотворный запах, так как далеко не все смогли выдержать такие маневры. Сказать, что это было страшно, – ничего не сказать. Я собрал детей в охапку, закрыл глаза и стал просить. Просьба была короткая. Господи, помоги. И все. Пилоты смогли выровнять самолет, все успокоилось, и командир объявил, что по метеоусловиям в Сеймчане посадки не будет, мы летим дальше, в Магадан. Мужчина, которому надо было выходить именно в этом аэропорту, завозмущался. Но сплоченные страхом пассажиры предложили ему замолчать – и он замолчал. Страх, он, знаете ли, иногда тоже бывает весомым аргументом в споре.
Это был мне урок. Жесткий, не оставляющий сомнений. Чувствуешь опасность? Бойся!
37
Как-то в аэропорту Иркутска ко мне подошла пожилая цыганка: «Дай руку. Погадаю. Заплати, сколько не жалко!» Даю ей рубль. Мне и рубля жалко, но хочется, чтобы было чудо. Очень хочется поговорить с этой старухой, может, она знает, кто я и что я, и почему так часто попадаю в точку. И почему порой не попадаю? И что мне еще сделать, чтобы всегда был правильный ответ на загадку, заданную Мирозданием? Она посмотрела на мою руку и почему-то сразу вернула рубль.
– Будет две бумаги: одна с положительным решением, а вторая с отрицательным. И еще будет три разных жизни у тебя, сейчас, считай, первая идет.
– А чего рубль не берешь? Почему?
– Боюсь я тебя, вдруг ошибусь – этот рубль поперек горла встанет.
Я приехал домой, а в почтовом ящике два письма. Как и обещала старая цыганка. В одном положительный ответ, а в другом – отрицательный. Молодец бабушка, не ошиблась совсем. Я вспомнил еще несколько ее слов. Тогда она мне сказала следующее:
– Там, где ты работаешь, все считают тебя очень хитрым. Они просто не знают, что ты раньше них чувствуешь изменение в ситуации. Надо бы им глаза замылить.
– А что надо сделать?
– Купи кулек конфет и положи их там, где все собираются. Поставь на самое видное место, а сам ни единой конфетки не бери.
Она не объясняла мне, как это работает, да я и не спрашивал. Я про эти конфеты вспомнил лишь после того, как прочитал письма, о которых она говорила. Я пошел в магазин, купил килограмм конфет, поставил в кабинете, где все пили чай. Конфеты разошлись быстро, а я стал замечать некоторые изменения. Со мной ничего не происходило – происходило с моими коллегами. Они перестали меня замечать. Перестали замечать мои недостатки, и я стал намного быстрее с ними договариваться. Они легко шли мне навстречу и не отказывали в просьбах. После этого случая у меня ни разу за 13 лет службы не было отпуска в зимнее время. Сейчас я понимаю механизм этого воздействия, а тогда это для меня показалось настоящим чудом. Я потом очень сожалел, что так мало поговорил с этой цыганской бабушкой. Я продолжал искать человека, который бы мне все объяснил, и не находил.
38
Однажды я попал в стойбище к чукчам. О чукотских шаманах наслышаны все, и я хотел найти шамана в надежде, что он мне, может быть, что-то подскажет.
– Есть шаман здесь у вас?
– Есть.
– А поговорить с ним можно?
– Не будет он с тобой говорить, не любит он вас.
– Кого нас?
– Белых людей не любит.
Удивило меня это весьма сильно. Чукчи – очень добрый народ, наивный, а тут такой ответ. И при этом не от шамана, который, по идее, должен знать про нас больше, чем обычные оленеводы, а от самих оленеводов. Я начал уговаривать, даже, чего уж тут скрывать, спирт достал. Спирт выпили, но на контакт не пошли.
– Шаман, если злой, очень плохо будет.
Вот же как запугал народ! Мне стало еще интересней встретиться с этим человеком. Я добился от них одного – обещания сказать ему про меня.
– Если согласится поговорить, дадим знать.
– А как я узнаю?
– Это только кажется, что тундра большая. Узнаешь.
Я уехал из стойбища. Дело было в апреле, а осенью, в конце сентября, перед самым ледоставом мы с другом шли на лодке вверх по течению, чтобы наловить хариусов. Маршрут наш пролегал мимо стойбища. Так как чукчи кочуют, и в одном месте их не застать, шанс встретиться с одним и тем же человеком из местных невелик. Но тут на излучине реки оказались те же самые апрельские чукчи. Они меня узнали, хотя я их все время путал – очень уж они для нас одинаковые, впрочем, как и мы для них. Один старый русский охотник как-то сказал мне: «Если хочешь с местными дружить, носи одну и ту же одежду. Потом они тебя путать ни с кем не будут, но сначала носи одно и то же».
Мои чукчи узнали меня и сказали, что мою просьбу передали шаману, и он готов встретиться со мной, но сейчас его в стойбище нет, если ты согласен встретиться, оставайся – он завтра придет. Мне оставалось просто поверить им на слово. К тому же рыбалка была отменной, работы было много: сначала наловить рыбу, потом засолить ее. Время года было замечательное: легкий минус ночью вышибал последних комаров, деревья были всех цветов радуги, вода в реке кристально прозрачная, и множество рыбы. Чукотская осень, самое мое любимое время.
К утру пришел шаман. Он пришел к нашей стоянке на берегу. Мы только вскипятили чай и собирались позавтракать, а он тут как тут, прямо к столу. Шаман, однако! Он подошел совершенно обыкновенно и не представлялся, что шаман. Я понял это по его одежде. На шее у него висели зубы медведя, нанизанные на кожаный ремешок. Я видел медвежьи зубы и раньше, но таких огромных – не приходилось. Огромные такие клыки. Я уставился на его ожерелье. Он перехватил мой взгляд:
– Это не современный медведь. Это зубы из пещеры. Их нашли мои предки.
Я понял, что он носит зубы ископаемого зверя. На Чукотке это не редкость. Я знавал одного геолога, у которого был свитер из шерсти мамонта. Жесткий и колючий, и носить его было невозможно, но геолог был страшно горд, потому как он, вероятней всего, был единственным обладателем такого свитера в мире.
Шаман был трезв, хорошо выглядел, но взгляд был жесткий, раньше я такого взгляда у местных не встречал. Он внимательно посмотрел своими темно-карими, почти черными глазами, которые были очень выразительны на белейшем лице. Обычно лица у местные жителей к осени имеют цвет меди, а этот был белокожий! Ни опасности, ничего другого, кроме детского любопытства, исходящего от обладателя этих черных глаз, я не заметил. Я ему был явно интересен, но я уже понимал: он не сможет мне всего рассказать. Он сам в поиске, и ему бы самому надо разобраться со своими мыслями. Он меня изучал, а я изучал его. Я хотел спросить его про сны. Мол, сны вижу, иногда понимаю, иногда – нет, многие реализуются на сто процентов, а есть – пустые, умею их заказывать, но не всегда умею интерпретировать. Но не стал этого делать.
Я спросил его, как он работает. Он ответил, что это не работа – это его жизнь, и другой он не понимает. Он с семи лет камлает, сначала под руководством того, кто его выбрал, а потом самостоятельно. Шаманы не любят династий. Их выбирают среди всех жителей тундры и выбирают одного-двух. Второй в качестве резерва, если вдруг что-то случится с первым.
– Когда стоишь на вершине сопки, лучше видно, куда петляет река. Меня учили просить ответы у Верхних Людей. Они все знают. Если ты им нравишься, они тебе расскажут обо всем, что просишь. У меня тоже много вопросов к тебе. Я и сам не понимаю многого. То, что знаю, расскажу. Только про грибы не спрашивай. Белый человек от них умирает, как мы умираем от водки. Это не твой способ. Ищи свой сам. Я знаю, что ты найдешь. Хочешь, вечером устроим камлание?
– Если только ради меня, то не надо.
Шаман улыбнулся.
– Правильно. Несвоевременное знание сильно мешает жить. Ищи сам.
Я ищу до сих пор. Я ищу человека, книги, знаки, которые бы мне помогли разобраться со всеми своими особенностями, со своими снами и ощущениями. Я перечитал огромное количество литературы и не нашел то, чего искал. И только Библия, как мне сначала показалось, эта сказка для взрослых, несла информацию. Информация была зашифрована, скрыта настолько глубоко, и в ней столько ложных путей, созданных людьми в угоду собственным частным устремлениям, превратившими понятную инструкцию в сложнейший лабиринт, что поначалу мне показалось, я никогда не смогу этот лабиринт пройти. Я сейчас еще блуждаю по нему, но у меня уже нет повторов пути, и за каждым поворотом новый сюжет, и нить, по которой бы я вернулся назад, к исходной точке, мне не нужна.
39
26 апреля 1986 года я дежурил в медпункте атомной станции. Между всеми «атомками» страны была установлена ведомственная связь. И вот по этой связи пришло сообщение, что на Чернобыльской станции произошла авария. Еще никто ничего не объявлял в СМИ: информация была ведомственной. Я не видел сон, у меня не было никаких ощущений, но в тот момент, когда я узнал об аварии, знакомый мне леденящий холод охватил меня с головы до ног. Этого было достаточно для понимания всей глубины проблемы. Мы обсуждали с сослуживцами эту аварию, и я тогда подумал: у меня не было предварительной информации и, вероятней всего, это событие было неизбежным. Но почему регулятор так жестко испытывает людей? Атом мирный, и не несет в себе агрессии, если им правильно управлять. Может, причина в том, что мы ушли с правильного пути и нам следует пересмотреть отношение к источникам энергии? Но достаточно ли будет силы сигнала, чтобы те, кто стоит у истоков, приняли верное решение? Или еще нужен повтор и «тыканье носом» в неправильный путь? И только через болезни и смерть мы способны понять, что дорога ведет к пропасти? Оказалось, нужен повтор, многократный и кровавый. Страна рушилась на глазах. Ее символы взрывались, она умирала, и агония ее была жуткой.
1 июня 1989 года моя мама увидела сон. Она увидела Михаила Горбачева. Он шел по железнодорожным рельсам в сторону запада. Рельсы плавно погружались в болото. Первый президент выглядел крайне уставшим и утомленным. В глазах его была тоска. Он шел сначала по шпалам, а потом уже и по болоту, медленно вытягивая ноги из грязи. А через три дня, 4-го июня во втором часу ночи по местному времени произошла крупнейшая в истории страны катастрофа, связанная с мощнейшим взрывом газового облака, с взрывом нашего народного достояния, взрывом, который унес 575 человеческих жизней. Эту катастрофу принято называть железнодорожной, но я думаю, это неправильно. Это катастрофа прежде всего связана с углеводородным сырьем. Это был прямой намек на недра и их использование.
Я не занимаюсь созданием математической модели, но вероятность концентрации в одной географической точке двух поездов Новосибирск-Адлер, Адлер-Новосибирск и Чернобыльская катастрофа стали для меня явным знаком разрушения моей огромной страны СССР. Мамин сон с участием первого лица государства выстроил все в одну, понятную мне линию. Впереди наступало время взрывов и хаоса. Потом был Сумгаит, потом Спитак, и множество локальных кровавых конфликтов. Время катастроф и разрушения будущего. Система была настолько консервативной и инертной, что только взрыв мог ее разрушить – и он случился.
Многие говорят, что это случилось в одночасье, и что Горбачев всему виной. Нет, это случилось раньше. Задолго до 1918 года, когда была расстреляна семья царя и сам царь Николай II. Это реализовалось проклятье Марины Мнишек, которое нависло над всей необъятной территорией страны. Она не была ангелом, она была предприимчивой особой, в какой-то степени аферисткой со склонностью ко лжи во имя денег и власти. Но ее любовь к собственному сыну была настоящей. Его повесили, как взрослого, предварительно соорудив виселицу, зачитав приговор. Регламент смерти через повешение был выполнен в полном объеме. Я не знаю, чем руководствовались те люди, хотя и людьми их назвать сложно. Но то, что они прикрывались словами о государственной важности мероприятия, я знаю! Они увязали смерь младенца с судьбой государства и тем самым поставили страну в мучительную ситуацию повторения ошибок и открыли кровавый источник, которым впоследствии многие российские правители пытались отмыть кровь. Но кровью кровь не отмоешь. Марина прокляла род Романовых – и ее услышали.
Николай II понимал весь трагизм ситуации, он пытался исправить ошибки прошлого. Он смотрел на своего страдающего сына и понимал истинную причину его заболевания. Да, многие исследователи под болезнь наследника подводили биологическую базу, ссылаясь на нарушения генетики и прочие причины. Но нарушение генетики происходит не только от близкородственных связей или, допустим, вследствие радиоактивного излучения. Есть еще эмоция, способная своей силой привести к мутации. В этиологии любого заболевания есть энергетический сбой. То, что современная медицина рассматривает как этиологию, для меня всего лишь симптом. Насморк это симптом, а в этиологии его происхождения – переохлаждение. Логично? Но ведь это не вся проблема – надо смотреть, почему возникло переохлаждение. Не потому ли, что человек был легко одет? А почему он был легко одет? Потому, что он не догадался одеться потеплее или не позаботился об одежде. Эта догадка и есть маленькая работа интуиции. Проклятие – это снижение интуиции. Иногда до максимально низкого уровня. Низкий уровень интуиции – это когда ты видишь только очевидные вещи, вещи, которые на поверхности, которые можешь потрогать. Интуиция дает другие способности – чувствовать правильность своих действий и действий других. Находить безопасный путь не только для себя, но и для своих потомков, понимать, что десять заповедей Христа – это шпаргалка для нас, не имеющих возможности понимать весь масштаб нашей жизни и ее влияние на мир в целом.
Да, Николай II знал о проблеме. Совершенно не случайно возле него появился Распутин. Многие исследователи пытаются понять, каким образом этот деревенский парень вдруг стал особой, приближенной к Императору. Я знаю, каким. Распутин обладал уникальной способностью снижать уровень проклятия. Одним только своим присутствием он снижал концентрацию яда. Такое возможно. Распутин обладал этими способностями, и пока он был жив, была жива и царская семья. Как только его убили, концентрация яда достигла максимума. И все полетело в тартарары.
40
Природа, не загруженная людьми, всегда открыта для восприятия. Я выбрал Чукотку, имея о ней представление только из книг. В моей жизни ни разу не встречался человек, который смог бы рассказать мне о природе, и мой первый контакт с природой, настоящий, без посредников, был именно на Чукотке. В детстве я много раз бывал и в лесу, и в степи – я работал на земле, я помогал косить сено, я ездил на лошадях и любил купать их в реке. Я много времени проводил у воды, знал все окрестные озера и любил ловить рыбу, но природа оставалась для меня закрытой. Причина закрытости была в людях, в тех следах, которые они оставляли на ней. Даже на удалении 40 километров от города я наблюдал трубы Троицкой электрической станции, коптившей небо так, что шлейф дыма был виден из космоса. Чукотка была другой. Она была наполнена любой формой жизни, кроме человеческой. Не ступала нога человека – таких мест на Чукотке всегда было в избытке, и именно это сыграло главную роль в понимании природы и ее роли. Незаметные в насыщенной людьми европейской части страны, природные знаки стали очевидными. Вся сила и мощь стихии, с одной стороны, указывала на ничтожество и такую малость меня на этой планете, а, с другой стороны, давала возможность ощутить себя частью подлинной, настоящей системы, а не той искусственной структуры, которую придумали люди для удобства пользования планетой, воспринимая ее как исключительную собственность и не признавая ее живой в целом! Там, на Чукотке, я понял, что планета – живая. Еще в раннем детстве я задумывался о нас, людях, как о мелких насекомых, которые живут на теле огромного зверя. Эти детские мысли оказались далеко не детскими. Мы даже не насекомые, мы опасней – мы вирусы! В природе все в балансе: хищник-жертва-хищник. И тут появляемся мы со способностью меняться не физически, а умственно. На первом этапе надо было выжить. Выжили. Выжили, стали умнее, но в какой-то момент наш путь сместился к банальному дарвинизму: выживает сильнейший. И это стало стратегической ошибкой общества.
Как-то я заметил такой факт: Чукотка – край миллионов птиц. Но чаще всего эти птицы летят очень высоко, как шутили местные охотники, «на кислороде» – по аналогии с летчиками, летающими на больших высотах в кислородных масках. Позже, побывав на другом континенте, я с удивлением обнаружил, что гуси спокойно могут летать над людьми, машинами и магазинами на высоте 10–15 метров, обдавая прохожих ветром крыльев. Что олени могут скакать по твоему участку, нисколько не обращая внимания на гостей и горящий мангал. Что в центре крайне густонаселенной страны можно спокойно ловить форель. Да, даже на малонаселенной Чукотке животные и птицы боялись нас. Но там этот пресс был не таким жестким, и я имел возможность получить от природы массу энергии и понимания меня ею. Это было очень важно – понять, что я ей интересен и не воспринимаюсь исключительно как вирус, которого надо уничтожить. У природы к нам отношение бережное, а мы никак не можем оценить.
Я смотрел прямо в глаза волку. Он сидел неподалеку от лыжни, по которой я шел. Он был сыт: от оленя осталась только передняя часть. Я вышел на него неожиданно. И не увидел его, а почувствовал. Я почувствовал взгляд. Взгляд кого-то очень сильного и уверенного в себе, настороженного, но не агрессивного, и это не был взгляд человека. Я остановился, посмотрел вправо и столкнулся с ним глазами. Это был крупный полярный волк, красивейший экземпляр с практически белой огромной головой. Он явно наелся и не собирался на меня нападать. Я снял с плеча ружье, патрон был в патроннике. Навел ствол на эту красивую волчью голову. Секунд тридцать я рассматривал его. Через прицел смотреть было проще – страх ушел, и я, чувствуя себя в безопасности, рассматривал этого красивого зверя. Волк тоже неплохо соображал. Он оценил меня взглядом, явно понял, что угрозы нет, и отвернулся, откусив еще кусочек оленины. Я неплохо разбираюсь в мехах, шкуру его оценил как крайне хорошую и даже прикинул, куда надо стрелять, чтобы не испортить мех, но стрелять его я не стал. Этот зверь был в правильной системе координат, он не ел, когда был сыт, он был в симбиозе с планетой, и он был для нее свой. Меня поразило ощущение того, что он дома, а я здесь совершенно не нужен. Мне слегка стало стыдно за свое преимущество и за свои мысли. Похоже, волк что-то понял, когда я оценивал качество его меха. Я отдавал себе отчет в том, что мое преимущество условно, и не будь у меня ружья, еще неизвестно, чем бы закончилась наша встреча.
Я шел и вспоминал полный уверенности в своей силе волчий взгляд. Я запомнил этот взгляд и однажды посмотрел на человека так, как смотрел этот волк. У человека не было ружья, у него были другие преимущества, но он сдался. Он уступил мне, уступил удивленно, не понимая своего смущения и страха. Он уступил на инстинкте самосохранения.
Я изъездил Чукотку вдоль и поперек: летом на лодке по рекам, зимой на ГАЗ-66, на самолетах и вертолетах, много ходил пешком, ночевал при минус 25 под открытым небом, накормил миллионы комаров, возможно, этим самым поучаствовав в увеличении популяции местных хариусов, которых выловил предостаточно. Везде Чукотка была разная, и она была огромная. От райцентра, где я жил, до крайнего села на границе района было никак не меньше 600 километров. Такие масштабы – и так мало людей. Я запоминал эту природу интуитивно. Я тогда еще не знал, что буду делать с этими своими эмоциями, с памятью об этих ледниках и срывающихся с них каплях воды, дающих начало росомашьей реке. С этими шикарными пейзажами и кристально чистым воздухом. И даже с энергией атомного реактора, который был в центре материковой Чукотки и весьма своеобразно менял людей. Эту разницу я стал замечать, как только начались мои путешествия по этой красивой земле. Реактор менял людей. Их настроение, их предприимчивость, скорость принятия решений. Люди становились громкими, резкими, вспыльчивыми, но одновременно красивыми. Так же сильно меняло людей золото, которого в недрах Чукотки очень и очень много. Чукчи говорят, что как-то по небу летел золотой олень. Рассматривая Чукотку, он поразился ее красоте, и, забыв о правилах навигации, рухнул на планету. Тело его упало на Чукотку, а голова – на Аляску. Не знаю, как там на Аляске, я ее только в бинокль видел, но то, что досталось Чукотке, впечатляет. Да и олень, похоже, был не просто золотой – он был из полиметаллов! Металл и есть металл, и добывающие его люди обладают весьма высоким уровнем агрессии, а, стало быть, и воли! Энергия ядерного реактора и скрытого в недрах земли металла меняли людей – очень скоро приезжие тоже становились яркими, жесткими и бескомпромиссными, с обостренным чувством справедливости.
41
Там же, на Чукотке, жила еще одна категория людей. Справедливость для них была самой сутью их жизни. Они приехали сюда не по своей воле, а под конвоем. Сначала из центральной России в столыпинском вагоне до порта Ванино, потом – пароходом в Магадан, а из Магадана они шли по Колыме, осваивая эти громадные территории и оставляя за собой разведанные недра и свои кости по всему северо-востоку. Их было много. Очень много. Точной статистики нет, сколько было заключенных. Неизвестно, сколько осталось в живых, но я их встречал. Это были удивительные люди. Совсем не уголовники, а весьма интеллигентные, приличного возраста. Они остались там из принципа: дальше послать их уже некуда, на родине у них никого не осталось, а здесь все было ясно и понятно. Эти люди не боялись ничего. Совершенно ничего. У них в жизни уже был момент, когда они потеряли абсолютно все, к чему все мы обычно стремимся, чем дорожим. Они не смотрели в календарь. У них было только вчера, сегодня и завтра. А что будет послезавтра – не известно, так далеко они обычно не заглядывали.
Я встретил одного старика, отсидевшего в лагерях 30 лет. Мы познакомились с ним в музее. Его приятель, тоже старик, был директором этого музея, и он любил туда приходить. Часть экспонатов он принес в этот музей сам. Я периодически заходил туда – мне было интересно рассматривать находившиеся там экспонаты. Там были разные вещи, но основная экспозиция была связана с минералогией и с открытием месторождения рассыпного и рудного золота. Старик подошел ко мне, когда я рассматривал огромные бивни мамонта. Он рассказал мне историю их находки и даже указал место, где этого добра было столько, что самосвалами не вывезти. Позже, в очередном путешествии по реке, я нашел это место, где река, обваливая берега, обнажает древнейшие пласты, армированные костями невиданных зверей. Мы познакомились. Старик был честным и этим расположил меня к общению. На Севере все – приезжие. И первый вопрос незнакомцу: откуда ты и как сюда попал? Я рассказал ему свою историю и свой сон, в котором увяз в снежной массе посреди освещенного искусственным светом города.
Старик посмотрел на меня, как бы прицениваясь, достоин ли я выслушать его повествование: «Я тоже видел свой сон…» Решив, что можно, он продолжил свой рассказ.
– Я не видел снов двадцать лет. Еще в начале срока мне часто снился дом и родители. В моих снах они все больше молчали. Но потом и это прошло. Была постоянная усталость, и снов просто не было. Только движение век: закрыл – уснул, открыл – проснулся.
Но однажды, в 1952 году его отправили на машине из поселка Палатка в Омсукчан. Было лето. Он сидел в кузове грузовой машины с такими же бедолагами. Машина едет небыстро, дорога дальняя. Он уснул, и первый его сон был обычным: закрыл глаза – открыл глаза. Он уснул во второй раз, потом какая-то кочка на трассе выбила его из сна, но он вспомнил, что что-то видел. Старик мне рассказывал, а сам радовался так, как будто это было вчера.
– Так вот, я сидел и вспоминал, что же мне приснилось. И уснул еще раз. Снова ухабы – и я снова проснулся, но сон остался в памяти. Это был необычный сон. Я полетел. Полетел, как в детстве, полетел, как ребенок, все выше и дальше. Становилось все теплее и теплее, и рядом со мной тоже летели люди.
Он проснулся и стал еще и еще, снова и снова вспоминать свой сон. Ему, забывшему сны, это доставляло несказанное удовольствие. Он давно понял, почему они ему не снились. Не снились не только ему, а многим заключенным. Наверное, потому, что так легче пережить этот ужас. Ведь сон – это свобода, а возврат в реальность не каждая душа могла бы выдержать.
Вспоминая сон, он вспоминал все больше деталей, свою одежду, направление полета, окружающий его пейзаж, людей, появившихся в небе рядом. Сон он вспомнил, а вот истолковал неправильно. Он летел, а снизу, с земли, на него смотрели собаки. Ровно двенадцать собак, смотревших на его полет. Он решил, что жить ему осталось двенадцать дней. Он решил, что должно что-то случиться, и он, и другие участники его сна, умрут. Он думал очень логически: двенадцать собак – двенадцать дней.
Он приехал на место, сны больше не посещали его. Он отсчитывал каждый день, и за сутки до назначенного себе срока написал большое письмо. Засунул его в обрезок трубы, забил трубу деревянными чопиками с торцов, тщательно их просмолил и отнес подальше от реки – засунул свое «послание к потомкам» в расщелину в скале. В послании этом, кстати, не было ничего особенного. Фамилия, имя, отчество, место рождения. Имена родителей и сестры. Их даты рождения и информация о том, что он умер такого-то числа такого-то года. Как армейский медальон, только более тщательно изготовленный. На двенадцатый день ничего не случилось. Все шло своим чередом, работа с вагонеткой до изнеможения, тучи комаров и ежесекундное ожидание смерти. Это был самый жуткий день за все время его огромного срока.
Через двенадцать месяцев, практически день в день, он вышел на волю. Поехал на родину, но никого там не нашел. Ни родителей, ни сестры. И он вернулся назад. Старался на прииске, в артелях, мало говорил и много слушал, практически не пил и очень любил читать. У него было много знакомых, но практически не было друзей. Он мало кому доверял. Его увлечением стали старые кости. Кости мамонтов, которые вымерли давным-давно. Он и себя называл ископаемым. Он был последним ископаемым зэком в нашем поселке. Умер он, когда ему было далеко за 90. Вероятно, 30 лет лагерей в зачет его жизни не вошли. До последних дней он был объективным в оценке людей и себя.
Вспоминая его, я думаю, какую цель преследовало Мироздание, знакомя меня с таким человеком? И отвечаю себе: для того, чтобы у меня не оставалось сомнений, что в мире существует альтернативный источник информации, которому можно доверять. Что в жизни каждого из нас есть моменты, когда обычного человеческого восприятия недостаточно, тогда на помощь приходит сила, которой подвластны картины из будущего. Своеобразная машина времени, переносящая нас на несколько лет вперед и предупреждающая о горе или радости. Если есть предупреждение, значит не все так плохо, значит можно избежать то, о чем предупреждали.
Я заметил одну интересную вещь: предупреждения всегда касаются наших эмоций. Не каких-то материальных благ или их отсутствия, а именно эмоций, состояния счастья или несчастья. Мне понадобилось еще достаточно пожить, чтобы понять, что эмоция – это единственный наш инструмент влияния на природу. Все остальное не имеет значения! Набирая опыт сновидений, я почувствовал одну удивительную особенность: сон несет информацию, которую всегда можно понять. Никогда во сне человеку не дается информации больше его способностей интерпретировать этот сон. Чем больше знаний, тем больше деталей я замечаю, чем больше деталей, тем лучше и точнее интерпретация сна и тем я ближе к истине.
42
Время шло. Работа, быт, квартирный вопрос – все как у всех. Наталья была на 8-м месяце беременности, когда мы получили телеграмму о смерти ее отца и полетели на Урал. При жизни с этим человеком, дедом моих сыновей, мне познакомиться не пришлось. Зато я познакомился с тещей. Она замечательный человек, очень проницательный и интуитивный. В ней я увидел генетические корни интуиции Натальи – она была очень похожа на свою мать. Именно тогда я и наткнулся на ее детскую фотографию в альбоме и вспомнил свой заказанный сеанс получения информации, свое посещение «библиотеки данных». Это открытие здорово повлияло на меня, как, впрочем, и все события, подтверждавшие мои мысли или сны. Но до настоящего раскрытия было еще далеко. Позже я понял: чтобы понимать, надо иметь эмоциональный опыт. Во всем. И в самых крайних его проявлениях. Нужно на собственном опыте не казаться, а быть самым счастливым в этом мире и самым несчастным во вселенной. Было и то, и другое. И все это надо было пережить. Назад на Чукотку я Наталью не повез. Дальний перелет на таком сроке беременности был бы стратегической ошибкой.
И вот настало 10 октября. Я пришел со службы, а мои соседки по коммунальной квартире с порога заявили:
– Если угадаешь, кто у тебя родился, то мы сами накроем стол, а если нет, то тебе придется поработать.
– Не морочьте мне голову и топайте на кухню. У меня родился сын.
И пришлось им накрывать на стол.
Когда Женьке исполнилось четыре месяца, я полетел на Урал и забрал их на Чукотку. Женька обживался на Чукотке ценой больших усилий. Привыкший к абсолютной тишине в большом доме бабушки, в нашей новой квартире он просыпался от малейшего шороха. Дом сдали недавно, и все соседи еще продолжали делать ремонт. Хрустальный мальчик – так назвали его мои уральские родственники. Женька был худенький и высокий. Длинноногий журавлик, как говорила о нем моя бабушка. Он долго не хотел говорить, и я знал, в чем дело: он легко читал наши мысли, но не понимал, что мы его не всегда слышим. Когда он это понял, то заговорил – четко и ясно, не совсем обычными оборотами для ребенка в возрасте двух с половиной лет. В очередной раз, когда мы возвращались на Чукотку, один из моих друзей в шутку поинтересовался:
– Вы, наверное, назад на оленях поедете?
– Нет, – ответил Евгений, – Чукотка далеко, вероятно, на самолете полетим.
Этим своим «вероятно» он застолбил за собой статус интеллектуала, каким и остается в нашем клане до сих пор.
Я тогда был достаточно молод и играл с ним во все, во что играют дети. Я тренировал его, как умел, принимая во внимание его «хрустальную» составляющую. Мне не хотелось, чтобы он подвергался несправедливости. Мне хотелось, чтобы в его энергии была воля, и я учил его боевым искусствам – не для уличных побед, а для того, чтобы у хулиганов не было повода сомневаться в получении адекватной реакции. Но его внешность всегда вводила в заблуждение, и ему периодически приходилось драться и при этом всегда побеждать.
В садик Женька ходил с удовольствием. Ему повезло с воспитателем. Я помню его детский сад и его воспитателя. Да, подумал я, мне б такого воспитателя в свои годы, я бы не сбежал. Она любила детей, всех без исключения. Они были для нее родными. Но боялась родителей. Руководство поставило ей задачу в очередной раз собрать деньги на какой-то очередной ремонт. Она подошла ко мне и, смущаясь, начала издалека.
– А вы умеете что-нибудь делать?
Я сразу понял, откуда дует ветер. Посмотрел ей в глаза и сказал:
– Я умею делать красивых детей. Вот Женьку сделал. Хорошо получилось?
Она больше не подходила с вопросами.
В первом классе Женькиной классной руководительницей стала совсем еще молоденькая выпускница пединститута. Это был первый в ее жизни класс. Она боялась, боялась всего и вся, кроме детей. Она радовала нас. Радовала тем, что прежде, чем отпустить детей из школы, в вестибюле лично завязывала им шарфы и надевала варежки. Это Чукотка, и дети учатся даже при минус сорока, даже первые классы, иначе школу можно было бы просто закрыть: сорокоградусные морозы начинались практически с первого ноября. Детские сады тоже никогда не закрывались, и работающим родителям приходилось тащить туда своих малышей и в самые лютые морозы. Тогда мне это казалось каким-то привычным делом. Сейчас я бы ребенка не потащил! Тогда время было другое, и мы были другими, и страна была совсем-совсем другая. Двери в наших домах на ключ не запирались. Я мог оставить лодку с мотором в двадцати километрах от дома и обнаружить ее на том же месте через неделю, в полной комплектации. Помню, как-то оставил в лесу часы на пеньке. Чистил рыбу, снял их и забыл. Забрал через год.
Но время шло, и начались перемены. Пришлось ставить замки, да и лодку уже не бросишь. И водитель автобуса уже не останавливается на призывные взмахи руками человека, идущего в лютый мороз по трассе. В магаданском аэропорту мне попались два друга. Один сидел на подоконнике, ему было примерно двадцать пять, а второй, ровесник, периодически подносил к его губам сигарету: у того не было рук и ног. Он отморозил их в новогоднюю ночь. Дикий и совершенно невозможный случай в восьмидесятые годы! На Севере всегда много пили, но при этом была тотальная взаимовыручка. И Север не поменялся, просто со временем потянулись на него не только романтики. Начались девяностые годы. Годы, когда закон Дарвина проявился на одной шестой части света во всей своей красе. Я понимал, что это не лучшее время, и не торопился уехать на материк.
43
Альберт родился в 1990. Опять был октябрь. Мне вынесли двух пацанов, которые родились одновременно.
– Минуточку, я точно знаю, что у меня один.
Акушерка улыбнулась:
– Один из них твой. Который?
Опять игра в угадайку. Свой, он и есть свой! Он внимательно смотрел на меня. Очень внимательно. Он был невероятно красивым: настоящая мужская энергия и очень, очень высокая интуиция.
– Привет, парень! Будем знакомы, я твой папа. Еще у тебя есть брат. Он уже взрослый, в первый класс пошел, чуть позже я вас познакомлю.
Он все рассматривал и рассматривал меня, а потом улыбнулся.
У нас с Натальей уже был опыт воспитания старшего сына, который до года устраивал концерты не только нам, но и соседям. Тогда я снов не видел. Усталость была перманентной. С Альбертом было проще. Я знал, что он слышит наши мысли, и постарался объяснить ему, что для общения нужны слова. И в год он достаточно неплохо заговорил. Он рос спокойным и очень уравновешенным. Именно он, а не Женя, разбудил в Наталье материнский инстинкт. Она носилась с ним везде. Она не оставляла его ни на минуту. Она никому его не доверяла. Она любила обоих сыновей, но Альберт для нее был истинным светом в окошке. Его спокойствию и терпению могли позавидовать взрослые.
Тем временем в службе у меня наступил самый спокойный период. Я мог отказаться от неудобной мне командировки, мог подрабатывать, преподавая первую медицинскую помощь на курсах ДОСААФа, мог позволить себе на рабочем месте заниматься тем, чем хотел. А хотел я свой дом. Я проектировал его два года. Я слепил макет дома, я рассчитал количество кирпичей, и потом, при окончании строительства, мне пришлось докупить еще пять кирпичей вместо тех, что разбились во время транспортировки. В очередной свой отпуск я поехал в родной город, чтобы заложить фундамент. Все сорок пять дней отпуска я месил бетон, укладывал и сваривал арматуру, доставал какие-то рельсы, колотил опалубку и был безумно счастлив тому, что у меня все получается!
Я выбирал момент, я ждал, когда появится попутный ветер, и я смогу вернуться в южные широты. И вот такой момент наступил. Я написал рапорт на увольнение по выслуге лет. Шестнадцатого июля меня уволили, а восемнадцатого, продав квартиру, и раздарив все, что у меня было, я с семьей полетел на Урал, в свой родной Троицк. Там не было жилья, но были друзья детства. Серега, мой друг Серега, с которым мы дружим с 1966 года, отдал мне ключи от доставшейся по наследству квартиры, и сказал: «Сколько надо, столько и живите».
Улетал я с большой грустью. И еще долго мне снилась Чукотка, знакомые очертания сопок, улицы поселка и оставшиеся там друзья. Все, что когда-то огорчало, стало вдруг таким ничтожным, и в памяти сохранились только хорошие воспоминания. Так закончился очередной этап в моей жизни. Он был очень существенным, он во многом меня сделал. Он был уникальным с точки зрения моего опыта восприятия реальности.
44
Сон. Очередной сон. Он пришел внезапно, когда я и не ожидал. Я не готовился к нему, это была информация без запроса. Я в военной форме. Новенькая, чистая, красивая – она сидела на мне как влитая. На ногах – начищенные до зеркального блеска сапоги. Я сидел верхом на вороном коне. Конь был крупный, донской. На нем была дорогая сбруя. Я стоял напротив красных казарм, тех самых казарм, куда в гражданскую призвали моего деда. И от них же позже моя бабушка проводила его на Волховский фронт в сорок первом году. Эти казармы имели давнюю историю – в позапрошлом веке там служил отец известного русского писателя Ивана Андреевича Крылова. В моем детстве там был расквартирован полк моего отца, я ходил туда по праздникам и будням. Я знал эти казармы, как свой собственный дом. Но никогда не видел эти казармы с высоты трех метров, как во сне с высоты моего коня – конь был именно такой, высоченный. Он слушался не меня, а моих мыслей: я думал, а он выполнял все, о чем я думал. Ощущение было удивительным. Тотальный контроль над мощным скакуном.
По утру я проснулся в хорошем настроении. Сон рассказывать никому не стал: бабушка к тому времени была уже старенькой, да и у меня самого уже было достаточно опыта, чтобы понимать свои сны. Я знал, что у меня все сложится удачно, что я буду на своем месте, что я буду сам управлять ситуацией и что впереди меня ждет интересное дело, с которым я буду справляться играючи, не напрягаясь. Смущали меня только казармы и военная форма – служить я точно не собирался.
Время было непростым: страна болела, останавливались заводы, появлялись магазины и магазинчики, челноки сновали по Китаю, Польше и Турции, бандиты устраивали перестрелки в городах и в деревнях, а я не испытывал никакого дискомфорта. У меня и до сновидения было какое-то уверенное состояние души. Не пропадем: юг Урала – чай не Чукотка, тут растут картошка, помидоры и арбузы, а вокруг родня и друзья. Я, конечно же, думал, чем занять себя на пенсии – а я уже месяц был военным пенсионером, – но мое личное дело с Чукотки еще не пришло, и у меня еще не было даже паспорта. Я уже месяц отдыхал, правда, за это время я что-то сделал на строительстве своей мечты – своего дома, привел в порядок квартиру, которую отдал мне во временное пользование друг, купил в нее мебель и прочие бытовые вещи. Важнейшим событием того периода было одно – Евгений сдал экзамены в Троицкий лицей. Это было лучшее учебное заведение города. Он успешно прошел все испытания. А я тогда подумал, что пора и работу присмотреть. С этими мыслями я ехал по центральной улице города и напротив своего детского маяка, водонапорной башни, которая когда-то помогла мне найти путь домой, остановился на красный сигнал светофора.
Дорогу переходили какие-то молодые ребята лет двадцати пяти – тридцати. На них была форма, ранее мне не знакомая.
– Парни, а вы кто?
– В смысле? – парни приостановились.
– Форма у вас интересная, вроде как прокурорская, но погоны не те.
– Мы таможенники.
– А штаб ваш где?
– Какой штаб? А, контора? Да вот здесь, на территории авиаучилища.
Загорелся зеленый сигнал светофора. Я припарковал машину и пошел искать таможню. Возле здания таможенного поста стояли человек десять в такой же необычной форме. Я подошел, посмотрел на всех, выбрал одного, как мне показалось, старшего, и попросил разрешения обратиться. У него было две звезды, но располагались они совсем не так, как обычно расположены на армейских погонах. На всякий случай я назвал его полковником – товарищ был явно из военных. Я представился и сказал, что меня интересует работа в таможне.
– Есть ли у вас документы? – обладатель неправильных звезд уставился на меня.
Я рассказал, что я и кто, и сказал, что пока он должен верить мне только на слово, так как личное дело еще в пути, и никаких документов у меня в данный момент нет. Я был очень уверен в себе: я только что понял все про свой сон, и того красивого коня, очень мощного и сильного, но всецело подчинившегося мне. Бывший военный мне поверил. Узнав о моем фармацевтическом образовании, он спросил:
– В химии соображаешь?
Для военного вопрос достойный.
– Соображаю.
– У нас по штату должна быть таможенная лаборатория, но пока ее нет, и поэтому предлагаю должность инспектора. А когда будет, станешь заведующим лабораторией.
– Хорошо, я согласен.
– Но нам нужен хоть какой-то документ.
– Дайте мне позывной телетайпа. Мой командир отправит в ваш адрес служебную характеристику.
Командир все отправил в течение 30 минут. Характеристика устроила моего нового начальника. Вполне себе стандартная: в строевом отношении подтянут, личным оружием владеет уверенно, в коллективе пользуется авторитетом, военную и государственную тайну хранить умеет. Там было все, как у всех, кроме одного предложения. В длинном списке моих армейских значков и медалей был один необычный пункт: награжден Почетной грамотой «За предотвращение аварии на атомной станции» и деньгами в сумме столько-то рублей – был в моей жизни такой эпизод.
Это случилось через год после аварии в Чернобыле. Все уже понимали опасность, таившуюся в мирном атоме. Все понимали, каким может быть человеческий фактор. Работая на столь важном объекте, практически все сотрудники отдавали себе отчет в силе, скрытой под крышкой реактора. И неважно, кто какую должность занимал – отношение к объекту на «Вы» было искренним. В тот день я просто позвонил начальнику караула и сказал, что с северной стороны объекта летят искры. Начкар не стал уточнять о происхождении информации. Он, не раздумывая и не задавая лишних вопросов, отправил туда тревожную группу, которая обнаружила обрыв высоковольтного провода на выходе из основного периметра реакторно-турбинного цеха станции. Позже специалисты пояснили мне, что ценой вопроса была как минимум экономия миллиона рублей, а как максимум – серьезная авария.
45
Я устроился работать в таможню. У меня не было формы – сначала нужно было пройти испытательный срок и сдать аттестацию. Я еще не понимал самой сути работы, поэтому, когда мой руководитель практически через две недели после начала работы предложил пройти обучение на специальных курсах на таможенном факультете Екатеринбургской юридической академии, я согласился не раздумывая, хотя это и не было обязательным условием.
Приехав в Екатеринбург, я понял, как погорячился. Занятия были хороши для тех, кто как минимум год занимался таможенным контролем. Мне были совершенно непонятны термины. Мне было непонятно практически все, но преподавательский состав был замечательным, коллеги шли мне навстречу – объясняли, рассказывали основные моменты. Я и сам достаточно много готовился и через месяц успешно сдал экзамены, в том числе самый страшный: товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и основные правила интерпретации – ТН ВЭД. Позже, уже погрузившись в эту напряженную и очень интересную работу, я выучил еще тысячи приказов, распоряжений и инструкций, писем и рекомендаций, кодексов и правил – практически все они имели смысл, поэтому я их знал.
В академии нам читал лекции удивительный человек. Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Демьян Николаевич Бахрах. Это были не уроки в обычном понимании – это был и театр, и проповедь, и лекция одновременно. Он был на своем месте, и это было понятно даже самым неспособным ученикам. Его выступления – я по-другому и сказать не могу – существенно изменили мое отношение к юридическим аспектам нашей жизни и впоследствии под впечатлением от этой уникальной личности я поступил на юридический факультет. Уникальность этого человека была в стопроцентной реализации его человеческого потенциала. Такое бывает крайне редко, но бывает, и мне очень повезло – мой конь вывез меня куда надо. Был еще один важный момент. По своей силе и энергетике он мне очень напоминал моего отца – они даже внешне были чем-то похожи.
В таможне я стал профессионалом. После академических лекций успешно прошел аттестацию и приступил к исполнению обязанностей в отделе таможенного транзита. Направление интересное, напряженное, порой опасное и крайне сложное – необходимо знать международное законодательство и иностранные языки. Категории товаров разные – от дипломатических грузов до личных вещей. Вот здесь-то мне и понадобилась вся моя интуиция. Я устраивал себе экзамены практически в каждую смену. Не глядя в документы, я записывал на отдельном листочке имя человека. Потом перепроверял себя. С русскими именами было проще, с иностранными – сложнее. Имена азиатские давались на порядок легче, чем европейские. С китайскими была самая большая проблема: китайцы умеют прятать мысли. Это у них, похоже, на уровне генетики.
Я очень быстро двигался по служебной лестнице. Я доверял себе и своим ощущениям. Если человек мне не нравился, я себе верил и не ошибался. Ошибаться было попросту нельзя! Необоснованный прессинг участника внешнеэкономической деятельности пугал не только разборками с начальством, но и перспективой незаслуженно огорчить или обидеть человека. В моих руках была огромная власть. И это я должен был управлять властью, а не она мною. Власть – это самое страшное испытание. Нет, не деньги, а именно власть. Деньги всего лишь выполняют роль осветительного оборудования, попросту – прожектора. Когда люди говорят, что кого-то испортили деньги, это не правда – он и был таким, просто деньги высветили его полностью, показали истину. С властью дело обстоит сложнее. Этой энергетике очень сложно соответствовать. Она не прощает ошибок. Государство, как структура, придуманная людьми, души не имеет: в случае твоей ошибки оно не будет плакать, в случае твоего успеха оно не будет радоваться. А простой человек, который целиком и полностью в твоей власти, своей эмоцией, невидимой и незаметной, может дать тебе все, что только возможно, и забрать все, что возможно.
Таможенные инспекторы тоже бывают разными. Кто-то легко справляется с властью, кому-то надо помочь, а кому-то она срывает голову и несет, несет прямиком к обрыву, к пропасти. И хорошо, если человек здесь и сейчас подходит к этой пропасти, при своей жизни, а не «грузит» еще не родившихся представителей своего рода. Один такой был очень дерзким. Он не работал в моем отделе, и мне, к счастью, не надо было его перевоспитывать по долгу службы. Он был грамотным инспектором, но его презрение к людям просто зашкаливало. Он говорил:
– Да, я подонок! Зато живу хорошо.
Я как-то сказал ему:
– Можно обмануть государство – оно не заплачет, но у людей, которые едут через границу, есть души, и их эмоции сильнее, чем ты можешь себе представить. Он не поверил. Он все повторял: «Зато живу хорошо».
Даже в тюрьме, даже когда его бросила жена, даже когда он остался совсем один в окружении таких же, как он.
46
Я не имел права на ошибку, и я не ошибался. Поэтому довольно быстро стал главным инспектором. Коллектив подобрался хороший, веселый. Я по возрасту был намного старше большинства коллег, но мне это не мешало находить с ними общий язык. Год пролетел незаметно, у меня появились новые замечательные друзья, мастерство росло. График работы был посменный: день-ночь – и сорок восемь часов свободного времени. Но свободного времени у меня как раз и не было: я жил в квартире моего друга, и мне надо было строить свой дом. Еще в армии я знал, что деньги не будут иметь стабильного курса, и все, что у меня было, вложил в строительные материалы: кирпич, цемент, плиты перекрытия, какие-то блоки, гвозди. И вот все это добро, в свободное от работы в таможне время, я складывал в стены своего дома. Я чертовски уставал, но восстанавливался быстро. Эйфория от созданного своими руками давала силы: я никогда не был в такой отличной физической форме. Я даже не ожидал такого эффекта. Однажды в доме у родителей нужно было переставить дубовый стол. Обычно это работа для двух мужчин, а тут, я, не задумываясь, в одиночку поднял его и перенес. Если бы это были тренировки в спортзале, я, вероятней всего, ожидал бы какого-то результата, а здесь за ежедневным трудом, незаметно, я стал очень силен. Я стал таким сильным, каким мечтал в детстве.
К слову, опыт трансформации многолетних спортивных тренировок в результат у меня уже был. Я много лет играл в волейбол, минимум лет пятнадцать. Это был настоящий спорт, по три раза в неделю. Этот вид спорта давался мне нелегко: я был невысокого роста, неплохо принимал мяч и был неплохим распасовщиком. Мне приходилось прыгать довольно высоко, так как мои коллеги по спорту в среднем были выше сантиметров на десять. И вот, день за днем тренируясь в спортзале, однажды я прыгнул. Я прыгнул так, как никогда до этого раньше не прыгал! Это был один единственный такой прыжок в моей жизни, позже я никогда не смог его повторить, но то, что было со мной в момент этого полета, я не забуду никогда.
Я находился на линии атаки и ожидал пас от моего партнера. Схема была отработана годами, я совершенно не задумывался, все работало на инстинктах, но в этой ситуации я почему-то решил «просмотреть» ее заранее: за какие-то доли секунды я «увидел» летящий мяч, выходящий на точку удара, в три шага разбежался, взлетел и ударил. А потом был настоящий пас, и мяч вышел точно в заданную точку, я взлетел… и стало тихо. Абсолютная тишина и тотальная неподвижность. Мяч завис в воздухе, я парил над сеткой. Я осмотрел площадку соперников – я видел ее всю – и нашел на ней свободное место. Соперники стояли в разных позах, с замершими на лицах эмоциями, кто-то из них повис в воздухе в стремительном прыжке, кто-то, вскинув руки в воздух, остался висеть, и только я плавно и тихо подлетал к мячу. Удар – и все ожило. Шум, крики и изумленный взгляд моего товарища. Он ничего не мог сказать и смотрел на меня во все глаза. Когда его удивление стало поддаваться контролю, он спросил:
– Ты помнишь высоту сетки?
– Да, конечно, помню. Два метра, сорок три сантиметра.
– Ты вылетел по пояс выше сетки!
Во сне я летал часто, а вот так, в жизни, в объективной реальности, впервые и, как я понял, один единственный раз – позже мне ни разу не удавалось повторить тот прыжок. Тогда я еще не вел наблюдений за природой с календарем в руках и не знаю, какая энергия превалировала в тот день. Но скорее всего это был оранжевый спектр и полнолуние, когда гравитация минимальна.
Эйфория от созданного своими руками давала силы, и работа на строительстве дома спорилась. За лето я поднял первый этаж, и мне нужно было перекрыть оконные проемы. Работавший на самосвале одноклассник привез мне бетонные оконные балки. Они были килограммов под пятьдесят, и в принципе мне было под силу их поднять. Чтобы не сломать их, я аккуратно стаскивал балки с кузова, прижимал к себе и аккуратно опускал на кучу песка. Балки были совершенно идентичными. Все одинаковые. Кроме одной. Она лежала в кузове девятой и десятой, я схватил ее так же, как хватал предыдущие. Но недооценил свои силы, и это было моей ошибкой. Хотя, ошибкой бы я это не назвал: когда много работаешь со строительными материалами, с землей, с цементом, с песком, интуиция снижается. Монотонная механическая работа не давала возможности остановиться и почувствовать опасность, да и Мирозданию, видимо было угодно не дать мне ее почувствовать. Меня надо было менять, и, вероятно, это был единственный приемлемый и объективный для других и меня способ. Уже позже, в конце октября, когда я вышел из больницы, я измерил эту балку линейкой, она оказалась на четыре сантиметра шире обычных. Четыре несчастных сантиметра бетона, которые отправили меня на встречу с моими, как оказалось, многочисленными предками.
Я прижал ее к себе, еще не понимая, что вес для меня запредельный. Внутри что-то тихо щелкнуло, я опустил балку на песок. На какое-то мгновение мне стало нехорошо. Я присел, закурил сигарету. Отпустило. Разгрузил остальные балки и отправился домой – вечером мы с Женькой планировали ехать на озеро, погонять уток. Быстро проскочив сорок километров до заветного озера, накачали лодку и отправились в камыш. Я успел сделать два выстрела. На втором отдачу почувствовал не в плечо, как обычно, а в солнечное сплетение. Я положил на него руку, и тут мне стало нехорошо – не от боли, а от того, что я понял: кровь, капелька за капелькой уходила в полость желудка из лопнувшего сосуда. Стараясь не напугать Женьку, я сказал, что нам придется ехать домой.
– Почему?
– Да что-то желудок прихватило.
Мы сели в машину и поехали. Трасса пустынная, совершенно прямая. Я старался сохранить силы и не потерять сознание. Мне удавалось это делать, но поле моего зрения постепенно сужалось. У меня было ощущение, что схлопываются какие-то ставни-створки, и в результате я видел дорогу в каком-то маленьком квадратике. Но сил хватило.
Я приехал домой и сказал Наталье, чтобы вызвала скорую. Скорая приехала быстро. Меня как следует растрясли по пути в стационар. Страха не было абсолютно. Я знал, что не умру. Дежурный доктор долго не появлялся, потом он пришел и задал обычный вопрос:
– На что жалуетесь?
– На желудочное кровотечение. Мне срочно нужна аминокапроновая кислота.
– Так, ты не спеши. Врач здесь я. Сначала надо сделать гастроскопию.
– Доктор, а, может, сразу начнем терапию? Я не ошибаюсь.
– Ты кто? Таможенник? Вот там и командуй.
У меня не было сил объяснять, кто я и что я. Я сидел в палате, ждал, когда придет гастроэнтеролог. Мне очень резко стало плохо. Последнее, что я помню, это огромную лужу крови на белом кафельном полу и отдаленную суету, доносившуюся сквозь какую-то вату.
Стало тихо-тихо, и я увидел их. Они стояли плотной толпой, в два ручья: по левую руку – все ушедшие родственники по линии отца, по правую – по линии матери. Тех, кто был в первых рядах и кого я знал при жизни, я, естественно, узнал. Но и тех, кто дальше, я, как ни странно, тоже стал узнавать. Это были мои прямые предки, прапрапрабабушки и прапрапрадедушки, и их было много. Их было так много, что они заполнили все пространство с обеих сторон от меня и за спиной. И они все внимательно на меня смотрели. Взгляды их были наполнены интересом, любопытством и чем-то еще. Я все никак не мог понять, что именно их привело. Я не почувствовал ни любви, ни ненависти. Они стояли и смотрели, и в какой-то момент я понял, что они просто показывают себя мне. Смотри: мы были, мы есть, мы твой род, мы твой клан. Нас миллионы. Их действительно было очень много, представителей множества народов и наций. Это была мимолетная встреча, но она осталась в моей памяти на всю жизнь.
Я проснулся после операции. Третье сентября, на улице плюс тридцать, я лежу в реанимации, в ноздри мне вставили шланг с кислородом, в венах стоят катетеры. Медленно, капелька, за капелькой, мне вливают чужую кровь. Она смешивается с остатками моей, запуская процесс выздоровления и моего изменения. Об этом я думал в последнюю очередь, а пока мне хотелось дышать. Экскурсия легких была ограниченной, боли не было, если дышишь в полвдоха. Я оглядел палату. Рядом лежал молодой парень. Он еще не вышел из наркоза, но в отношении этого человека мне все стало ясным, как божий день: жить от силы пять часов. Веселая кудрявая голова второго пациента всем свои видом давала понять, что человек помирать не собирается. Вот какой интересный бедолага, подумал я, похоже приключений у него было много, не в первый раз в реанимации. Я тогда плохо контролировал свои мысли, и они лились каким-то тягучим потоком: «Странно, а чего так долго шла операция? Там делов-то – вскрыть, ушить сосуд и зашить. Чего они копались 5 часов? Стоп. Я ж в наркозе был, а помню. Наверное, анестезиолог держал на минимуме. Но все равно, не должен помнить. Ладно, потом разберемся».
Пришла симпатичная медсестра. На вопрос «Почему так долго оперировали?» эта простушка, решив, что я отчасти в курсе событий, что кто-то успел поделиться со мной информацией, ответила:
– Так иголку же уронили. Долго искали.
– Вот же ж! Интересно, они там больше ничего не забыли?
– Вроде нет.
Ох, как хочется вдохнуть побольше воздуха. Медсестра вколола какой-то наркотик. Я вздохнул во всю грудь и уснул. Проснулся от хрипа первого пациента. Он прохрипел и затих. Все, полетел парень по делам. Счастливой тебе дороги. Кудрявый уже очухался и повернул свой одуванчик в мою сторону:
– Что он там, готов?
– Да, надо бы медсестру позвать, а я только шептать могу.
– Я сейчас сам позову.
Кудрявый явно недооценивал свое состояние. Его тоненький шепоток – ссссестраааа! – не услышал никто, кроме меня. Я опять погрузился в какое-то дремотное состояние. Проснулся от металлического лязганья каталки. В палате нас осталось двое. Кудрявый был весел. Он получил свое очередное ножевое ранение. Второе за месяц. В нормальном-то состоянии он был страшным болтуном, а здесь, даже в состоянии, близком к обмороку, умудрился меня достать. Он задавал вопросы, а я не мог ответить. Каждый ответ – дополнительный вдох, а это больно. Я сказал ему: не спрашивай, лучше про себя говори.
Я засыпал – он говорил, я просыпался – он говорил. Он был отчаянным парнем. Первый срок – в армии, полтора года дисбата, потом еще. И причина всех его бед – личная конфликтность, в основе которой – борьба за справедливость. Вот и сейчас он тут лежит с отверстием в животе, полученным в борьбе за справедливость. Первые восемь часов после операции ко мне не пускали ни жену, ни детей, ни родителей – наверное, пытались отгородить от общения и эмоций. Но этот только что умирающий парень утомил меня до такой степени, что я попросил выписать меня в обычную палату. Мне сказали: там нет кислорода. Но здесь его тоже не было: этот болтун просто выжигал его напалмом своей энергии. Наконец, ко мне пустили Наталью. Она вошла и побледнела.
– Ты как?
– Все нормально, не волнуйся.
Она молча достала зеркало из сумочки. На меня смотрел совершенно незнакомый скуластый мужчина с какими-то безумными провалившимися глазами и с огромным носом. Я был страшен, как никогда: «Ничего, зато я видел всю родню. Все будет хорошо».
47
Меня перевели в общую палату на третьем этаже, и начался нескончаемый поток родни и друзей. Каждый раз, держа двумя руками живот, я спускался по лестнице, поднимался обратно и падал без сил. Но, правда, и восстанавливался я очень быстро. Мои друзья таможенники, каждая смена, считали своим долгом нанести визит. Больничные холодильники ломились от дынь, арбузов и прочих фруктов, принесенных ими. Сосед по палате, сельский мужичок, который слаще морковки ничего не ел, заявил супруге, чтобы ничего не приносила: «У нас есть все! Я ни разу еще так не болел!»
Восстанавливался я очень быстро. Вероятно, сыграла роль поддержка моих родственников и друзей, и моя уверенность в том, что все будет хорошо. Лечащий врач как-то устроил разгон медсестрам. Он посмотрел мои анализы крови: «Так. Вчера гемоглобина было 42, а сегодня 78. Кто брал кровь? Взять еще раз!» Медсестры из лаборатории сделали повторный анализ. На следующее утро картина повторилась: было 78 – стало 90: «Вы что там, все на свете перепутали?» А я на самом деле чувствовал себя намного лучше. Мне многое было нельзя, но свежевыжатый морковный сок, который каждое утро приносила моя тетка, творил чудеса. В обычном состоянии тяжело прочувствовать всю силу и энергетику продуктов, а вот в состоянии болезни я просто слышал, как мой организм разбирает этот сок на составляющие элементы и усваивает их с огромной скоростью. Товарищей я попросил принести хорошего коньяка и красной икры. Чайная ложка коньяка, три икринки и маленький кусочек белого хлеба. Доктор не выдержал:
– Что ты ешь?
– Морковный сок, красную икру, коньяк, хлеб и масло.
И мне попались хорошие доноры! Гемоглобин быстро пришел в норму, но я еще оставался в больнице. Мне залили много чужой крови. Вся моя таможня сдавала. Но так получилось, что четвертой группы ни у кого не было. Чью кровь мне залили, я не знаю, но я точно знаю, что это были разные люди. Они, вероятно, и сейчас не знают, кому досталась их кровь, так же, как и я не знаю, кому досталась моя. Я сдавал кровь с шестнадцати лет – в медучилище, в девятнадцать – на срочной службе, в двадцать пять – на Чукотке, когда сам организовывал забор крови совместно с районной станцией переливания. Меня ценили как донора. Четвертая группа.
Много позже я обдумывал эту историю с бетонной балкой на четыре сантиметра толще стандарта, с лопнувшим сосудом, с реанимацией. С одной стороны, я увидел множество душ, стоящих у меня за спиной, но этот опыт, цена его, она же очень высока – я чуть Богу душу не отдал за это кино. Видимо, за всем этим стоит что-то еще. Но что? Спустя пару лет я понял, что. Почему-то Мирозданию было угодно изменить меня, и, вероятно, переливание крови от какого-то конкретного или конкретных доноров и обеспечило это изменение. Кровь имеет генетическую память и активизирует спящие гены. Возможно, кто-то из доноров был отдаленным членом моего огромного рода, и его кровь дала импульс к активизации. Я еще продолжаю над этим думать. Возможно, когда-нибудь закажу сон на эту тему.
Кроме того, что я выздоравливал, других изменений не происходило. Точнее, я их не замечал, и скорее всего потому, что как-то не задумывался о том, что кровь может внести какую-либо коррекцию. Дело шло к выписке, и я попросил Наталью принести мне одежду. Сказал, что не нужно за мной приезжать, когда выпишут, я сам дойду до дома, хоть прогуляюсь немного. Несмотря на начало октября – а я провел в больнице целый месяц – погода была отменной. Мое любимое время. Осень. Солнечно, тепло и тихо. Утром, после обхода, врач объявил мне, что сегодня я могу идти домой. Я достал одежду, принесенную Натальей и, надевая ее, вдруг понял, что она мне мала. Вот это номер, подумал я, наверное, села при стирке… Я пошел домой, но после месяца отсутствия активного движения идти было тяжело. Я понял, что погорячился. При переходе через дорогу на зеленый свет сил хватило дойти только до разделительной полосы. Я стоял и ждал, когда вновь загорится зеленый. Добравшись до дома, я упал на диван. Усталость была великолепной! Вот, оказывается, по чему скучал мой организм – по банальной усталости. Вдруг пришла мысль: весь период в больнице – это работа, работа надо мной, но и я как объект работы тоже подустал. Вокруг меня наконец-то были родные люди, состояние счастья и покоя, все позади. Но ощущение того, что самое интересное и сложное впереди, не покидало меня. Это не было тревогой – просто знанием. В предстоящих переменах я не сомневался.
Одежда действительно была мне мала. Я, на протяжении двадцати лет весивший семьдесят пять килограммов, вышел из больницы с весом восемьдесят. Я не казался толстым – я просто стал больше. То, что я вырос, обнаружилось позже, в декабре, когда на очередном медосмотре, который таможенники проходят ежегодно, я обнаружил свой рост на два сантиметра выше прошлогоднего. Я списал это на ошибку измерения. Но когда в том же декабре, подбривая бороду, вдруг подрезал мочку уха, я уставился в зеркало и стал внимательно рассматривать свою физиономию. Я полез в альбом, достал старые фотографии. Так и есть: мочка уха у меня была сросшаяся. То есть впадинки между лицом и мочкой уха практически не было. А теперь вот она, есть. Самая настоящая мочка, и я ее порезал, потому что тридцать пять лет ее там не было!
Позже Наталья стала замечать изменения в моем характере. Я стал менее терпимым к людям, значительно менее терпимее. И одновременно я стал прощать очень многие вещи. Но и люди стали меня меньше огорчать. Наверное, потому, что я стал понимать их суть значительно глубже. Я стал менее дипломатичным. Я прекратил тратить время на ненужных людей. Может быть, в какой-то другой сфере они и были нужны, но в моем пространстве они были лишними. И еще я начал замечать любое лукавство. Я стал ставить людей в тупик банальным вопросом: а зачем ты мне сейчас сказал вот это? Люди терялись от этого: не знаю, просто сказал и все. Те, кто до момента моей трансформации, не внушали мне никаких опасений и сомнений, теперь были мне ясны и понятны в своем лукавстве и попытке скрыть какую-либо информацию. Но я не указывал им на недостатки, я просто вел себя с ними по-другому. Я обнаружил, что основная часть людей – ведомая. Они думают, что они самостоятельные, но их самостоятельность всегда имеет границы. Границы профессии, семьи, государства и даже границы восприятия мира. Дальше этих границ они не старались заглянуть. Они были в системе, и если системы вдруг не оказывалось, они старались немедленно примкнуть к другой системе. Тогда я понял, почему у людей появляются кумиры, почему люди так верят печатному слову, почему людям не нужна свобода. Вернее, им нужна свобода исключительно для себя, а свободу одномоментно для всех они не воспринимали. Но были другие, их было намного меньше, они не были ограничены системой. Они были на самом ее краю, оставляя для себя гипотетическую свободу, возможность вырваться на другие орбиты. Эти люди мне были очень интересны. Многие из них не отдавали себе отчет в своей интуиции, но так как они были на периферии системы, к их мнению мало кто прислушивался.
Я вдруг перестал замечать внешние характеристики людей. Если раньше большой, крупный человек вызывал у меня какие-то эмоции, то сейчас для меня эти критерии – вес, размер, габариты – ушли на второй план. Физические характеристики перестали оказывать на меня какое-либо воздействие. Мне нравились люди, которые по человеческим оценкам были, возможно, не самыми симпатичными. А симпатичные, красивые люди в общепринятом смысле, казались обычными, иногда неприятными и даже уродливыми. Я откровенно радовался, когда внешняя красота оболочки совпадала с красотой внутренней, но такие люди были, как правило, одиноки. К ним тянулись, как к свету, а они понимали, что ими просто пользуются, как пользуются торшером. Меня совершенно не разочаровывал человек внешне несимпатичный. Я понял, что первично не отражение внешнего света от объекта, а внутреннее излучение!
Тогда многие говорили об ауре. Неком световом фоне вокруг людей. Я смотрел на свои руки и однажды увидел. Белый плотный ореол. Он был на расстоянии двух-трех миллиметров вокруг пальцев. Сначала я подумал, что мне показалось. Но нет. Он был. Он присутствовал. Я как-то спросил маму, видит ли она свет вокруг пальцев.
– Нет, – сказала мама.
– Ну, посмотри!
Она посмотрела и увидела. Она научилась этому с первого раза, и я был горд тем, что смог показать ей это зрелище. Эта способность с ней постоянно. Когда папа был в реанимации, мама, находясь за сто двадцать километров от него, смотрела на свои руки и говорила: «Ему плохо – мой свет стал совсем маленьким». По мере роста свечения она видела улучшение состояния папы. Она не знает, почему она связала уровень своего свечения с состоянием отца, она просто так решила. И это работало! Это свечение для нее стало настоящим, подлинным индикатором. Папа – страстный садовод и пчеловод, он мог увлечься работой и не приехать к урочному часу. Мама начинала волноваться и смотрела на свои руки. Все нормально, он еще работает. На работе я пытался рассматривать людей именно таким образом. Я тогда еще не привязывал состояние погоды, время рождения и родителей к человеку, к его энергетическим характеристикам. Я смотрел только на свет, излучаемый человеком.
48
Много лет я пытался каким-то образом найти закономерность, но она ускользала. В какие-то дни свечение было очень заметным, в какие-то оно практически отсутствовало, и только вспышки оранжево-красного спектра указывали мне на людей, выпивших что-то крепкое из спиртного. Однажды я встретил мальчика, он просто полыхал красным. Не может быть, чего это он так горит? Спросил у ребенка:
– Что ты ел?
– Мандарины!
– Вкусные?
– Очень, я их много съел!
Так, водка, коньяк, мандарины… Дома я налил себе 50 миллилитров коньяка и посмотрел на пальцы: как всегда, белый спектр. Но через несколько секунд проскочила оранжевая полоска, кратковременная и малоприметная. «Надо бы попробовать на ком-то другом. Я не могу быть объективным – я жду, и это ожидание может дать ложную картину». Случай скоро представился. Я спросил друга, пил ли он вчера или сегодня что-то из спиртного. Нет, говорит, какой там пил, работы очень много. Я налил 100 граммов водки. Он выпил – и хоть бы что. Ну, абсолютно ничего. С выводами я не торопился. Я наблюдал.
Как-то я летел в очередную командировку. Только что приземлился самолет, и из него выходили люди. Над толпой был еле заметный шлейф оранжевого – и взрослые, и дети, и женщины, и мужчины имели один оттенок. Что это? Не думаю, что они одновременно ели мандарины и пили коньяк. Я смотрел на них и замечал, что не все имеют такой свет. Несколько человек были обычными, с легкой белой дымкой. Я сел в самолет и стал ломать голову: что происходит? По мере набора высоты я смотрел на свои пальцы. Появилась оранжевая полоска, и она нарастала у меня на глазах. Она зафиксировалась с ростом высоты. Я посмотрел в начало салона, поверх кресел, на торчащие макушки. Все светились оранжевым – некоторые очень ярко, некоторые еле заметно. А вот у одной дамы отсутствовало даже белое свечение. Мой сосед справа тоже не светился. Я набрался наглости и сказал.