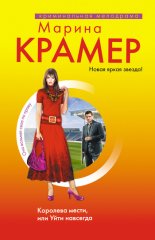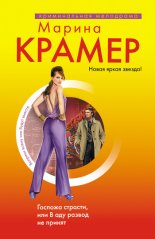Главные роли (сборник) Метлицкая Мария

– А Василек с килькой не разделался? – поинтересовалась Надька.
– С Сайрой, Надька, ты забыла, – напомнила Вика.
– Ну, а с Рыжиком ты помирилась? – сыпала вопросами подруга.
– Да, все классно, он женился, у него чудный мальчишка, тоже рыжий, – оживилась Вика. – Общаемся, а как же. Что было, то прошло, брат все-таки. Да и вообще жизнь всех научила: надо уметь прощать, особенно родным людям.
– Точно! – обрадовалась Надька. – Это ты очень правильно сказала, – помолчав, добавила она.
Потом они еще болтали минут двадцать, и уже вовсю солировала Надька, подробно рассказывая про детей, мужа и всю его родню. Свою мать, тетю Полю, она тоже перетащила на Землю обетованную, и тетя Поля вовсю помогала ей с детьми, периодически рыдая по брошенной избе-пятистенке и огороду в деревне Кислицы. Когда Надька полностью отчиталась, Вика тихо попросила ее:
– Прости меня, Надька!
Надька смутилась и ответила:
– Да за что, Господи, я уже ничего не помню. Но ты меня тоже прости, ладно? Кто старое помянет…
В пятницу Вика отправилась в больницу, Ксюне сказала:
«Так, ерунда, киста какая-то крошечная, ничего серьезного». Еще не хватало расстраивать дочь, в ее положении!
В понедельник сделали операцию, и вечером, когда Вика окончательно оклемалась от наркоза, к ней в палату зашла дежурная врачиха – немолодая, полная, с уютным лицом.
– Все плохо? – тихо спросила Вика.
– Что «плохо»? – удивилась врачиха.
– Ну, у меня там, сколько мне осталось?
– Господь с вами, в каком смысле «осталось»? – испугалась врачиха. – Все у вас нормально, обычная миома, рановато, конечно, но сейчас – увы – такая статистика. Подождем неделю биопсию, но я абсолютно уверена.
– Абсолютно? – прошептала Вика и через минуту разревелась.
– Тихо, тихо, швы! – испугалась врачиха и погладила Вику по руке.
А она никак не могла успокоиться, и еще очень разболелся живот. Ей сделали два укола – успокоительный и обезболивающий. И она уснула. На следующий день, к вечеру, пришла Ксюня. Как раненого бойца взвалила на себя Вику, и они медленно пошли по коридору. Через неделю пришел ответ из лаборатории, и Вику выписали домой. Она была еще очень слаба, и Ксюня одевала ее, как ребенка, и застегивала ей сапоги. Они медленно вышли на улицу, и у ворот Вика увидела Василевского. Он стоял у машины и курил.
– Привет, – сказал он ей.
– Привет, – ответила Вика и укоризненно посмотрела на Ксюню. Ксюня пожала плечом и отвела глаза.
Домой они ехали молча, и Вика даже слегка задремала. Ксюня открыла дверь в квартиру, и из кухни вышел очень высокий и очень кудрявый парень в Викином переднике. Вика растерянно и смущенно кивнула:
– Мам! Иржик приготовил кнедлики со свининой и кислой капустой!
И правда, запахи с кухни доносились умопомрачительные. Вика сглотнула слюну, и впервые за последние несколько недель ей по-настоящему захотелось есть.
– Сейчас, только пойду переоденусь, – крикнула Вика. Она зашла в свою комнату и в углу увидела большой коричневый чемодан. Иржин, наверное, подумала Вика и открыла шкаф. В шкафу ровнехонько, одна к одной, висели рубашки Василевского, а на полках аккуратненько были разложены свитера, майки, трусы и носки. Вика переоделась и пошла в ванную. Там, в ванной, на полочке стояли пена для бритья «Жиллетт» и одеколон «Арамис». Ее любимый запах. Точнее, запах ее любимого мужчины. Она приняла душ, подкрасила губы и глаза и зашла на кухню. Иржи и Ксюня накрывали на стол. На подоконнике в вазе стояли ее любимые белые гвоздики. А рядом лежала красная кожаная коробочка.
– Это тебе, мам, – кивнула на коробочку Ксюня.
В коробочке лежали толстая, крученная в веревку цепь и такой же плетеный браслет. Вика застегнула браслет и вытянула руку – полюбоваться.
– Твоя работа? – сурово спросила она Василевского.
Он смутился и отрицательно замотал головой.
– Это от тети Нади, мам, дядька какой-то принес. Смешной такой, в черной шляпе и с пейсами.
Потом все сели за стол и выпили шампанского, хотя Иржи был недоволен и настаивал на пиве, которое, разумеется, было бы более уместно к кислой капусте и свинине. Но Ксюня объявила, что сегодня семейный праздник, а на праздник положено пить шампанское.
За столом сидели: вполне милый будущий зять Иржи, счастливая Ксюня с Викиным внуком в животе и любимый и смущенный Василевский. Квартира сияла чистыми окнами, свежими занавесками и новыми обоями.
А потом Вика устала. И Василевский уложил ее в постель. Они ни о чем не говорили, ничего не обсуждали. Им все было ясно без слов. А когда Вика почти заснула, раздался телефонный звонок, и она взяла трубку, лежащую на тумбочке у кровати.
– Привет, Индюшка! – услышала она знакомый голос. – Как дела? – спросил Рыжик.
Вика подумала и уверенно сказала:
– Прекрасно! – И еще раз повторила по слогам. – Дела у меня действительно пре-крас-но!
И это было абсолютной правдой.
С Рыжиком они проговорили около часа и могли бы говорить еще, но Вика очень хотела спать, и совсем не было сил. Засыпая, она подумала, что нужно срочно отнести в починку осенние сапоги, потому что хоть на улице и январь, но все уже начало таять, ну просто как в марте. Ну, знаете, этот наш сумасшедший московский климат. Ну да, сапоги и что там еще? Ну, в общем, список дел, как обычно. Житейские хлопоты, ну и вообще, когда такая большая семья… А потом она уснула. И ей приснилась дубленка цвета баклажан.
Родная кровь
Последний четверг каждого месяца – Ляля чтила это свято – она ехала на кладбище. Каждый месяц – так было заведено еще при жизни мамы – папа ушел на два года раньше. Пропуск по уважительной причине мог быть только один-единственный – высокая температура, точно больше 37,5, или опять же высокое давление. Цифры 150 на 100 не принимались.
Зимой, конечно же, было совсем тяжело – неблизкий путь до метро по скользким, как всегда, не чищенным дорогам, потом ставшие с возрастом почти неприступными высокие и крутые ступени автобуса, далее собственно сам автобус, как правило, набитый до отказа приезжими людьми с объемными кошелками, и, наконец, сама дорога к могиле – местами по сугробам или опять же по коварному, припорошенному поземкой льду. Могила – увы – находилась в глубине кладбища, даже скорее ближе к концу его, и немолодая, крупная и неуклюжая в тяжелой старой шубе, Ляля с трудом пробиралась между высокими прутьями чугунных оград. Охая и ворча, она вновь обнаруживала новые памятники, втиснутые на первые, более престижные ряды вдоль дорожек, непозволительно тесня друг друга и напирая своей помпезностью и дороговизной.
Памятника на могиле родителей было два. Первый, еще поставленный мамой отцу, был из черного габро с овальным фарфоровым медальоном и довольно большим, по мнению Ляли, текстом – последним материнским признанием мужу в любви. Когда ушла мать, добить фамилию и даты на невысоком камне было уже практически негде, и Ляля вышла из положения просто – возле пышного цветника к подножию отцовского камня была прибита на бронзовых болтах дощечка из белого мрамора. В общем, получалось, что и после жизни мать была у отца «в ногах», что, впрочем, вполне соответствовало ее земному существованию и мировоззрению. Правда, дощечка активно Ляле не нравилась, и постоянно точила мысль, что надо бы сделать один общий камень, и она подобрала даже их общую фотографию, так любимую когда-то матерью. Молодые и смеющиеся родители в Кисловодске в обнимку. Мать – совсем еще худенькая, легкая, светлые кудряшки и цветное крепдешиновое платье. Отец – уже полысевший, но еще крепкий – о-го-го, в белой тенниске, обтягивающей широкую грудь, в полосатых пижамных штанах, с бадминтонной ракеткой в крупной руке. Но, как всегда, денег на памятник не хватало, да и возможное предстоящее общение с кладбищенскими барыгами вызывало брезгливость и ужас, и, мучаясь, Ляля опять откладывала эту проблему до будущей весны. Был ранний апрель, солнце уже вполне припекало, и даже слегка, самую малость, запахло весной. Но все же это было еще такое нестойкое и обманчивое тепло, и практичная Ляля все еще ходила в старой мерлушковой шубе и тяжелой норковой шапке-чалме, зато сапоги надела резиновые – предусмотрительно, правильно предполагая распутицу и грязь на кладбищенских дорожках. Иногда, правда, в более щадящее время года, компанию ей составляла соседка и подружка давних лет Розка-Резеда, но это было только тогда, когда окончательно сходил снег и уже выскакивали узкими острыми стрелками первые крокусы. У Розки-Резеды на том же кладбище лежал муж.
Тогда их поход удлинялся – сначала Лялины родители, потом неблизкий путь к Розкиному Гаяру. Ляля всегда просила Розку: «Иди, догоню». Хотелось постоять одной в тишине и поговорить про себя с мамой, а Розка не умолкала ни на минуту. Сейчас эта Розка лежала дома с бронхитом, и Ляля поехала одна, чему, честно говоря, была несказанно рада. Настроения общаться не было никакого, да и с утра, впрочем, как обычно, было приличное давление. В автобусе, идущем от метро к кладбищу, слава Богу, нашлось место, и Ляля тяжело плюхнулась с краю, подобрав полы длинной шубы. У окна сидела немолодая женщина со скорбным выражением лица в маленькой черной старомодной шляпке из белесого уже бархата. Ехать до места было минут пятнадцать, и через несколько минут женщина в шляпке обратилась к Ляле. За пятнадцать минут пути словоохотливая спутница со скорбно поджатыми губами успела сообщить конспективно о себе почти все – что она уже девять лет как на пенсии, бездетна, вдовеет уже четырнадцать лет и сегодня святой день – день рождения покойного мужа. Хоть и жизнь она с ним прожила – врагу не пожелаешь, не дай Бог, тьфу-тьфу, никому, но все простила и скучает по нему сильно, хотя только вот сейчас, после его смерти, обрела наконец долгожданный покой. Ляля морщилась, но кивала, она не любила случайных знакомств, а уж тем паче не ждала подобных откровений. Из автобуса вышли вместе. Случайная соседка, мелкая и сухая, выпрыгнула легко первая и услужливо протянула Ляле узкую, мелкую ручку.
Не отстанет, с тоской подумала Ляля. Шла она тяжело, медленно, осторожно пробуя скользкой подошвой дорогу. Случайная знакомая шустро семенила рядом и бесконечно говорила, говорила. Потом она сочувственно прихватила Лялю за локоть, как бы поддерживая ее, на что Ляля сухо и резонно заметила, что если рухнет она, то обязательно потянет за собой и ее – услужливую и добровольную помощницу, но та беспечно махнула рукой, продолжая без умолку трещать. Ляля искоса с раздражением глядела на нее, и тут в голову пришло – Пуговица. И вправду, лицо ее – плоское, белесое, с маленькими глазками без ресниц и курносым носом с открытыми крупными ноздрями – было похоже на старую стертую бельевую пуговицу.
Росту она была маленького, легкая и сухая, чему Ляля, набравшая за последние годы килограммов пятнадцать лишнего веса к своему предыдущему, тоже вполне лишнему, искренне позавидовала. Все это непременно и тут же сказалось на здоровье – одышка, больные ноги. Но бороться с этим Ляля уже перестала, смолоду поняв неравность этой схватки. А какие радости сейчас на пенсии, Господи, еще отказать себе в таком любимом черном хлебе, пирожном, шоколаде? У телевизора или под книжечку. Пуговицу она почти не слушала, думая о своем и мечтая только о том, чтобы навязчивая попутчица поскорее свернула на одну из аллей. Но им оказалось по пути, чему та была несказанно рада. Совсем, видимо, одинокая, подумала с жалостью Ляля, включаясь в ее болтовню. Смешно закатывая маленькие круглые глазки, теперь Пуговица рассказывала о том, каким красавцем был ее покойный муж:
– Бабы гроздьями, гроздьями всю жизнь, до самой смерти. А у гроба? Да что творилось у гроба, – причитала она, – налетели как мухи на мед.
– Сравненьице, – усмехнулась Ляля.
– Да, именно как мухи и у гроба устроили представление, – продолжала со вкусом Пуговица. Было видно, что вспоминать ей все это нравилось. – И рыдали, и на гроб бросались, и даже две сцепились – почти подрались. Поскорбеть не дали, – шмыгнула носом Пуговица и вытерла глаза платком.
Ляля, тяжело дыша, остановилась, ища глазами скамейку.
– Посидим? – обрадовалась ее спутница.
Ляля вздохнула. Она опустилась на сырую скамейку и расстегнула ворот шубы. «Пальто надо было стеганое надеть и платок, вечная манера напялить на себя черт-те что», – с раздражением подумала она.
Пуговица не останавливалась ни на минуту:
– Я их понимаю, им досталось все лучшее – его мужская сила, молодость, красота, ну и все остальное. – Тут она многозначительно замолчала и уставилась на Лялю: – Вы понимаете, о чем я?
Ляля кивнула.
– Мужчина он и вправду был феерический.
«Ну идиотка, – с отчаянием подумала Ляля. – Господи, феерический! Апофеоз глупости. Вечером с Розкой посмеемся».
– А вообще-то… – Тут Пуговица замолчала и уставилась в одну точку. А потом продолжила: – А вообще-то он был вор.
– Как вор? – переспросила слегка растерявшаяся Ляля.
– Так – обычно. Обычный вор-рецидивист, отсидел четыре срока. – Она опять замолчала, скорбно поджав сухие губы.
«Нет, дикость какая-то, – раздраженно подумала Ляля, – мало того, что приклеилась ко мне намертво, так тут еще страстями нешуточными задушить решила, просто сериал какой-то дурацкий. Или все врет, все придумала, с такой овцы станется. Скорее всего. Как всегда, на мою бедную голову».
– И что же он воровал? – с издевкой поинтересовалась Ляля.
– Кражи. Квартирные кражи, – четко ответила Пуговица. – Иногда у своих же богатых любовниц. Как получалось. Некоторые на него даже не заявляли. Как когда.
Она опять замолчала, но Ляле послышалась даже какая-то гордость в ее словах.
– А вы что же? Все знали и терпели? И баб этих бесконечных, и отсидки? – спросила Ляля.
– И передачи, и свидания в Мордовии, и поселение – тринадцать абортов от него сделала, два выкидыша.
– Любили? – уже почти с сочувствием спросила Ляля, теперь, почему-то окончательно поверив ей.
– До смерти, – тихо произнесла Пуговица. Потом подвинулась к Ляле вплотную и страстно зашептала: – Об одном Бога молила – чтобы он его инвалидом сделал, безногим или безруким, чтоб только мне одной, только мне бы достался, – грех, конечно. И горшки бы выносила, и в туалет бы на руках носила, только чтобы я одна и никого больше, понимаете?
Ляля кивнула. Они несколько минут молчали, а потом Ляля со вздохом поднялась с надеждой наконец распрощаться со своей невольной попутчицей. Где там! Пуговица продолжала мелко семенить за Лялей.
– А участок, участок у вас какой?
– Сорок третий, – буркнула Ляля.
– Господи, ну надо же, – обрадовалась Пуговица. – А у меня – сорок второй.
Потом они свернули с центральной аллеи, и Ляля опять попыталась распрощаться с ней. Но новая знакомая продолжала восхищаться уже вслед уходящей Ляле, что ее – она так и сказала: «моя» – могилка на границе Лялиного участка: «Вон – через три ряда, ну, мы с вами оказались еще и соседями».
– Окажемся, возможно, – бросила Ляля через плечо. Ляля прибавила шагу, но Пуговица нагнала ее и потянула за рукав.
– Пойдемте, покажу вам памятник, в прошлом году поставила, полторы тысячи долларов, – настаивала Пуговица.
«Ну что за навязчивость такая, ну ни такта, ни ума, ни понятия, – со злостью подумала Ляля. – А ведь не отвяжется ни за что. Таким ведь все нипочем. Только о своем». И Ляля покорно поплелась за ней.
Жидкая грязь, перемешанная с подтаявшим снегом, чавкала под ногами. Нет, хорошо, хоть резиновые надела, вот отмывать только потом, мелькнуло в Лялиной голове. Они завернули за высокий, почти двухметровый памятник из белого мрамора, с нелепым бронзовым вазоном в изголовье, и тут Пуговица остановилась.
– Вот, – гордо сказала она и кивнула на серую гранитную стелу с нечетким барельефом мужского лица. Ляля скользнула взглядом. «За эти деньги я бы поставила другое», – мелькнуло у нее. Цены она знала хорошо. Потом она прочла текст – нелепую и пошловатую эпитафию в стихах, а дальше увидела фотографию в узком металлическом багете, стоявшую у подножия памятника. И тут у нее перехватило дыхание и гулко и часто забухало сердце. На минуту ей стало нехорошо и слегка качнуло в сторону, и она схватила рукой чугунный шар ограды.
«Вот и встретились, – пронеслось у нее в голове. – Ну здравствуй, моряк-подводник, каперанг, твою мать. Господи, просто бразильское кино».
Пуговица продолжала хвастаться и гордиться памятником. Ляля с трудом взяла себя в руки и твердо, слегка осипшим от волнения голосом распрощалась с ней, сославшись на время и жестко сказав той, что на кладбище ей хочется побыть одной. Пуговица растерянно и обиженно замолчала и заморгала, а Ляля решительно развернулась и стала пробираться между тесными оградами. Дрожащими руками она открыла длинный металлический ящик с кладбищенским инвентарем – веником, совком, полупустыми банками с краской для ограды, вытащила складной стульчик и плюхнулась на него. Хлипкие металлические ножки стульчика глубоко ушли в раскисшую землю. Она расстегнула шубу и понемногу стала приходить в себя.
В середине семидесятых молодая замужняя Ляля уезжала на юг. Горящую путевку предложили в профкоме – это была неслыханная удача, и нервы, разумеется, – кто-то отказался от путевки в последний момент, в предпоследний перед отъездом день, и у Ляли как раз был только что оформлен отпуск. Все случайно совпало. Встревоженная и возбужденная, Ляля боялась, что не достанет билет на поезд: конечно, ведь самый сезон. Но помогли связи отца, и вечером она спешно кидала в чемодан летние вещи, сетуя на то, что не успела купить новый купальник, и со слезами разглядывала оторвавшийся ремешок на старых босоножках. Муж был, как всегда, спокоен и невозмутим, Лялю тормозил и выделил из заначки на румынскую стенку сто рублей. Мама жарила курицу в дорогу, а отец подбивал набойки на выходных туфлях. Ночью Ляля спросила у мужа: «Не сердишься?» Он искренне удивился и сказал, что рад и счастлив такой удаче. Поплакав от волнения, Ляля под утро уснула.
Замужем она была уже шесть лет. Брак был ровный и спокойный, четкий и размеренный, как и сам Лялин муж. В общем, брак их без ярких вспышек был вполне… дружественный. Работал муж в ФИАНЕ – крупном и известном свободными нравами физическом институте, был старше Ляли на восемь лет. Ляля уже почти смирилась с устойчивой скукой и однообразием их жизни, убедив себя, что это и есть покой и надежный оплот, что, наверное, не всякая женщина имеет в семье, но наверняка именно об этом и мечтает.
Жили с Лялиными родителями, жили дружно, вернее, спокойно, уважая привычки и волю друг друга. Мать с отцом относились к зятю почти тепло, а главный материнский критерий оценки был таков – приличный человек. А за этим стоит очень много. Даже почти все. Он и вправду был приличным человеком – уравновешенным, неприхотливым в быту, не жадным, уважающим чужое пространство. А что до скуки, так у кого особенно весело, думала Ляля про близких и дальних подруг. У одной муж погуливал, у другой – попивал, у третьей был жаден и не давал ни копейки. В общем, сложилось мнение, что Ляле повезло больше остальных, пришлось в это поверить и ей. Правда, точила и беспокоила мысль, что не получается с детьми, но поход к врачам и долгие обследования пока откладывала, убеждая себя, что годик-другой еще вполне можно подождать. Бывает же и так.
На вокзал с ней поехал муж, отпросившись с работы. Ляля опять нервничала, без конца проверяя то билет, то путевку, опять всплакнула и загрустила – первый раз они расставались на долгих 24 дня. Муж благородно уговаривал: «Ни о чем не заботься, отдыхай, набирайся сил». Они расцеловались, и он вышел из вагона. Поезд дернулся и тронулся, и Ляля уже махала ему в окно. Потом она достала из чемодана халат и шлепанцы, переоделась и сразу успокоилась и даже повеселела. И спустя два часа уже с удовольствием грызла куриное крылышко.
Попутчиками Ляли оказалась веселая студенческая пара молодоженов, занимающаяся черт-те чем беспрестанно на узкой верхней полке. И когда раздавались очередные усиленные сопение и возня, Ляля тактично удалялась в коридор и стояла долго у окна. Ночью в Курске в купе зашла пожилая дама и тут же улеглась спать. Ляля тоже уснула, а утром, когда открыла глаза, с радостью обнаружила за окном совсем другой пейзаж. Уже не было темных и густых хвойных лесов и светлых прозрачных березовых рощ. В основном поля, поля, редкие мелкие пролески и белые светлые хатки – вместо темных, рубленых, мрачных российских изб. И обязательно яркие палисадники у крыльца – круглые георгины, пестрые астры и высокие острые гладиолусы. Проснулась и новая попутчица, которая оказалась учительницей музыки да и просто дамой, приятной во всех отношениях. На юг она ехала к своей старинной школьной приятельнице. Она торжественно извлекла из дорожной сумки банку настоящего бразильского кофе, и Ляля принесла от проводника кипяток.
Молодожены безмятежно спали на одной полке, и никакая сила не могла бы их растащить.
– Молодость! – мило улыбнувшись, доброжелательно прокомментировала дама.
– Любовь! – почему-то вздохнула Ляля.
Дама, прищурившись, внимательно посмотрела на Лялю.
– Завидуете? – усмехнувшись, спросила она.
– Да Господь с вами, – смущенно отмахнулась Ляля. – Я замужем, – поспешно добавила она.
– Ну при чем тут это? – усмехнулась дама.
На станциях Ляля выбегала к газетному киоску, покупала у торговок первые южные фрукты. Валялась, читала, грызла любимые «каменные» груши. По прибытии на перроне тетки разных возрастов мигом обступали сошедших с поезда пассажиров. Ляля решительно пробилась сквозь плотную толпу и вышла на привокзальную площадь. На такси до санатория ехали восемь минут – по московским меркам, просто смешно. Здание санатория – колонны, гипсовые балясины, огромные холлы в красных ковровых дорожках – утопало в густой зелени пышного парка. Номер оказался роскошным – высоченные потолки с лепниной, массивная двуспальная кровать под шелковым покрывалом, телевизор, графин с водой, свой, автономный, душ и туалет. В ванной сиротливо висели два тонких вафельных полотенца. Ляля приняла душ, разобрала чемодан, надела легкий цветастый сарафан, шлепки, схватила полотенце и побежала на море. На улице было уже темно – ранняя южная звездная ночь. На берегу она скинула шлепки и осторожно пошла по мелкой, уже успевшей остыть гальке к морю. Море было теплое и шелковистое. По воде, мерцая, серебрилась тонкая лунная дорожка. Ляля замерла от восторга. Так выглядит счастье, подумалось ей. Наплававшись, она вернулась в номер и вытянулась на широкой кровати. Ее сон в эту ночь был легок и безмятежен. Вмиг отпустили все московские заботы – вечная нехватка денег, интриги сотрудниц, зудящие мысли о новом зимнем пальто (старое износилось до непотребства), периодически дающий о себе знать гастрит, постоянно ноющая косточка на правой ступне, незалеченная дырка в зубе мудрости, увеличивающаяся не по дням, а по часам, страдания по поводу первых морщин в уголках глаз – тех самых гусиных лапок, которые Ляля называла гнусиными.
А с утра началась бурная санаторная жизнь. Плотный завтрак – каша, котлета с пюре, сок, булочка, Господи, как можно все это съесть! «Ничего, справилась», – с удивлением подумала она. Потом визит к врачу – осмотр, жалобы, назначения. И понеслось – ванны, витаминные уколы, электросон, душ Шарко – до обеда ни секунды свободы. А как же море, пляж? Дали обед – тоже лукуллов пир, дневной сон, Боже, что будет с моей талией! А вечером, после ужина, кино, танцы, прогулки – в общем, обширная программа.
Ляля ярко накрасила губы, сильно подвела глаза, распустила свои роскошные волосы, подкрашенные хной, – благородная медь. В уши перламутр – чешская бижутерия, купленная у цыганок в переходе, шелковое платье в ярких цветах, каблуки – и осталась довольна собой. В 28 лет это еще возможно.
– Хороша! – подмигнула она самой себе в зеркало. И это была истинная правда – она вошла в тот самый благодатный женский возраст, когда еще есть здоровье и силы, яркие краски, упругость, манкость, свежие веки по утрам, когда природа еще отвечает тебе взаимностью, а главное, еще есть желания и надежды – все то, что привлекает и притягивает, когда еще блестят глаза и хочется попробовать на вкус эту жизнь, про которую к счастью, еще знаешь не все.
Вполне довольная собой, Ляля прошлась по территории санатория. В душный кинозал идти не хотелось, подошла к розарию – вдохнула упоительный вечерний запах чайных роз и пошла к танцплощадке – поглазеть – тоже развлечение. Старательно и слегка старомодно играл небольшой оркестрик и надрывно пела немолодая, полная, ярко накрашенная блондинка.
– Позволите? – Ляля вздрогнула и обернулась. Он был очень хорош собой, это сразу бросалось в глаза, – рост, разворот плеч, густая темная шевелюра, карие, почти черные, глаза. Ляля растерянно пожала плечами. Незнакомец уверенно взял ее за руку и вывел на середину танцпола. Он положил свою крупную руку на Лялину талию и умело повел ее в танце. Когда музыка смолкла, он наклонил голову и поцеловал Лялину руку.
– Вы прекрасны, – произнес он и внимательно и долго посмотрел ей в глаза.
Ляля смутилась, как девчонка. Новый знакомец предложил ей прогулку по городу. Сначала они шли молча, а потом он представился и рассказал о себе. Оказалось, что он моряк-подводник, уходит на полгода в плавание, живет в маленьком военном городке под Мурманском, был женат, но жена сбежала, не вынеся Севера и тягот военной жизни. Сбежала вместе с маленькой дочкой обратно в Питер к родителям, там снова выскочила замуж и видеться с дочкой не дает. А он тоскует по дочке, да, в общем, не очень счастлив и очень одинок. Он замолчал и остановился прикурить, и Ляля увидела у него в глазах слезы.
– В общем, денег много, а счастья нет, – смущаясь, грустно рассмеялся он.
Потом на набережной они зашли в кафешку и выпили бутылку сухого шампанского, и в Лялин фужер он крошил горький плиточный шоколад. А потом на абсолютно темной окраинной улице под огромным платаном он долго и бесконечно нежно целовал Лялино лицо и волосы, и Ляля совсем потеряла свою бедную молодую голову. Такое случилось с ней первый раз в жизни. Когда она на мгновение приходила в себя и пыталась вырваться, он крепко брал ее за плечи и разворачивал к себе лицом. Потом он довел ее до корпуса, она закрылась в номере и долго стояла под холодным душем. А когда она вернулась в комнату, то услышала легкий стук в балконную дверь. Если бы не первый этаж, то Лялино падение, возможно, произошло бы не так быстро, не в первую ночь. Так по крайней мере ей хотелось думать. Несколько минут она простояла за тяжелой плюшевой шторой, а потом резко открыла балконную дверь.
Той безумной ночью они совсем не спали. И это было лучшее из того, что случилось в ее жизни. Утром он ушел, а она крепко уснула, и только к обеду ее разбудил стук в дверь – это медсестра забеспокоилась из-за ее неявки на процедуры. Ляля сказалась больной, и ее оставили в покое.
Их сумасшедший карнавал продолжался еще две недели – до самого отъезда ее пылкого любовника. Ляля поглощала раблезианские обеды и при этом невероятно худела. Кожа покрылась легким загаром, волосы чуть выгорели и порыжели, талия была узка, и ноги легки, как никогда. Она провожала его на перроне и плакала так горестно и громко, как будто провожала на войну мужа. Адрес свой она ему не оставила, а договорились о переписке на Главпочтамт до востребования.
Остаток отпуска – десять дней – Ляля провела в тоске и унынии – одиноко сидела в кинозале, умываясь слезами над старыми мелодрамами. В день отъезда сходила на базар и купила крепких зеленых груш и огромных розовых помидоров. В поезде под мерный стук колес думала только об одном: о возможности их встреч – где? У кого? Или ей лететь к нему на Север? Брать дни за свой счет, а дома придумать командировку? Потом опять плакала, отвернувшись к стенке, и была счастлива и несчастна одновременно, и непонятно, где проходила эта самая грань.
В Москве было довольно прохладно и шел дождь – излет скупого московского лета. Муж стоял на перроне и держал Лялин дождевик. Увидев его, Ляля громко, в голос, разревелась. Муж обнимал ее одной рукой, а другой держал большой черный зонт. И приговаривал:
– Ну-ну, успокойся, все же хорошо, ты уже дома, просто соскучилась.
Ляля плакала и кивала.
Дома ее ждали мамины пироги и букетик любимых белых хризантем у кровати. Первые дни Ляля металась по дому, что-то роняла, раздражалась на мужа, кричала на растерянных родителей, часто и громко плакала, и ей казалось тогда, что это не ее жизнь, что к этой жизни ее принуждают, а быть она должна не здесь, а в далеком военном городке, возле серого холодного моря. Мать с отцом обижались, ничего не понимая, а вот Лялин муж, умница, понял все сразу и ушел через два месяца, в тот же день, когда смущенная и бледная Ляля сказала ему о том, что она беременна. Они не объяснились, но и удерживать его она не посмела.
Когда все разрешилось и родители наконец все поняли, они гневно осудили Лялю, назвав ее безумной, и были абсолютно на стороне ее теперь уже бывшего мужа. Особенно неистовствовал отец, бросив Ляле в лицо короткое и емкое «шлюха». И не разговаривал с Лялей вплоть до самого рождения внучки. Мать Лялю, конечно, жалела, но ни о чем с ней не говорила. Просто заходила в комнату и ставила на тумбочку миску соленых черных сухариков – Лялю ужасно тошнило. В апреле Ляля родила девочку – очень крупную, темноглазую, с не по-детски крутыми и жесткими темными колечками волос. Дочку Ляля назвала Жанночкой.
Еще долго, лет пять-шесть, Ляля бегала на Кировскую, на почтамт, проверить корреспонденцию. Потом успокоилась и бегать перестала. В тридцать семь лет у нее начался вялотекущий роман с начальником – без особой радости и перспектив, но тянулся он долго, лет тринадцать. Ляля как-то резко погрузнела, расплылась, но все еще была женщиной яркой, как говорили, со следами былой красоты. На пенсию вышла точно в срок – уже стала прилично прибаливать. Жанночка росла умницей и красавицей – не дочка, а сплошное материнское счастье. Воистину где-то Бог дает, а где-то отнимает, думала Ляля. Потом один за другим ушли старики с перерывом в два года.
Жанночка окончила Ленинский пед, а в начале 2000 года появилась оказия, и она уехала в Америку к подруге по гостевой визе, но там каким-то образом «зацепилась», нашла работу няни в богатом доме и все мечтала о браке – но с этим пока как-то не очень складывалось. Звонила Ляле часто – раз в неделю, звонки ей стоили очень дешево. Ляля сильно тосковала по дочери, понимая, однако, что здесь ей делать нечего и что, конечно же, нужно устраивать свою жизнь там – раз уж так повернулось. Постепенно привыкла к одиночеству, учась понемножку получать даже удовольствие от своей абсолютной свободы, радуясь тому, что отгремели любовные бои, улеглись страсти и терзания и жизнь вполне вошла уже в свою спокойную и смиренную колею.
А спустя три месяца после этой странной и мистической встречи на кладбище позвонила Жанночка и, плача, сказала о том, что она хочет вернуться в Москву, что вся эта Америка ей до смерти надоела и что жизнь там тоже далеко не сахар.
Ляля сначала растерялась и расстроилась и только потом, когда Жанночка вернулась домой, она узнала о том, что все еще, слава Богу, хорошо закончилось и обошлось, а могло бы быть куда хуже и страшнее. Как-то ночью Жанночка ей призналась, что она украла у своих работодателей кольцо и серьги, оставленные беззаботной хозяйкой в спальне. Пропажу обнаружили сразу, сказав, что шум поднимать не будут, если Жанночка цацки вернет. А так – полиция, обыск, депортация, вдобавок напомнили Жанночке о ее нелегальном положении и гостевой просроченной визе без права на работу. Уже и этого бы вполне хватило для разборок с полицией. Жанночка во всем созналась, и ее пожалели – хозяйский ребенок ее обожал – и поступили благородно, купив ей билет в Москву.
Ляля выслушала ее молча и даже спокойно. Она укрыла плачущую Жанночку одеялом и ушла к себе. Чему было удивляться? На ночь она выпила реланиум, в своих горьких мыслях стала тяжело засыпать, подумав о том, что кровь не вода, и еще про то, что разве мало она заплатила своим одиночеством за несколько дней сумасшедшего счастья. А может быть, еще обойдется? – горько вздохнула Ляля, не очень, впрочем, поверив себе.
Адуся
Адусины наряды обсуждали все и всегда. Реже – с завистью, часто – скептически, а в основном с неодобрением и усмешкой. Еще бы! Все эти пышные воланы, сборки, фалды и ярусы, бесконечные кружева и рюши, ленты и тесьма, буфы и вышивка. Панбархат, шелк, крепдешин и тафта – все струилось, переливалось и ложилось мягкой волной или ниспадало тяжелыми складками.
Совсем рано, в юности, придирчиво разглядывая в зеркале свои первые, мелкие, прыщики, недовольно трогая нос, подтягивая веки и поднимая брови, Адуся поняла сразу – нехороша. Этот диагноз она поставила себе, не обольщаясь, – уверенно, не сомневаясь и не давая, как водится, никаких поблажек себе. Сухая констатация факта. Была, правда, еще слабая надежда на то, что буйный и внезапный пубертат все же осторожно и милостиво отступит, но она годам к семнадцати прошла. К семнадцати годам, если тому суждено, девица определенно расцветает. Не вышло. Теперь оставалось либо смириться и жить с этим – навсегда, либо пытаться что-то изменить. Адуся выбрала второе.
Жили они вдвоем с матерью, безмерно обожаемой Адусей. Мать служила в театре оперетты, дарование было у нее скромное, но она была определенно красавицей и дамой светской, то есть посвятившей жизнь самой себе.
С Адусиным отцом, рядовым скрипачом театрального оркестра, она рассталась вскоре после Адусиного рождения, так до конца и не поняв, для чего был нужен этот скоротечный (вроде бы кому-то назло, что, видимо, так и было) брак с некрасивым, тощим и носатым нелюбимым мужчиной. И также зачем ей ребенок от этого брака – некрасивая болезненная девочка, точная копия своего отца. Ах, если бы девочка была похожа на нее! Такая же белолицая и гладкая, с той прелестной женственной полнотой, которая не режет, а радует глаз. С шелковистой кожей, пухлыми губами, с темными, густыми, загнутыми кверху ресницами! Ах, как бы любила она ее, наряжала бы, как куклу, демонстрировала своим знакомым с гордостью, обнимала бы ее и тискала без конца. А чем хвастаться здесь? Тощим, нескладным, неуклюжим подростком с унылым носом. Вся ее истинно женская плоть и прелесть отвергала дочь с тем негодованием, с которым признают неудавшийся опыт.
Поздним утром после долгого и крепкого сна она с раздражением и неудовольствием глядела на дочь, так старающуюся ей угодить! Крепкий кофе со сливками, гренки с малиновым джемом – не дай Бог пересушить, апельсин, конечно же, очищенный и разобранный на дольки. Адуся же матерью любовалась. Даже после сна, с припухшими веками и всклокоченной головой, она казалась дочери богиней и небожительницей.
После кофе мать откидывалась в кресле, вытягивая изящные ноги в парчовых, без задника, с меховым помпоном шлепках, закуривала и начинала вещать, с неудовольствием оглядывая дочь:
– Нос надо убрать. Сейчас это делают эле-мен-тар-но! – произносила она по складам. – Жри булки и манку. Господи, живые мощи. Ну кто на это может польститься? Гены – страшное дело, ну ничего от меня, ничего, – вздыхала она. – И как мне тебя пристроить? – сокрушалась мать.
Иногда, в короткий период затишья между своими многочисленными и бурными романами, она пыталась дочь преобразить. Вызывала своего парикмахера, подщипывала ей брови, красила ресницы, милостиво швыряла ей свои сумочки и туфли, заматывала вокруг Адусиной тощей шеи длинные нитки жемчужных бус. Но потом, не обнаружив должного результата, интерес к этому процессу быстро теряла.
К полудню приходила домработница Люба. Мать, вяло отдавая ей приказания, удобно устраивалась в спальне с телефоном. И начинала бесконечные перезвоны с целой армией подружек и поклонниц. Обсуждались наряды, романы и сплетни без числа. Адуся же собиралась на работу. Работала она утро-вечер, через день. В соседней сберкассе, в окне приема коммунальных платежей. Еще тогда, будучи совсем юной девицей, она и решила поспорить с природой, скупо предложившей ей такой скудный и обидный материал. Критично разглядывая себя в зеркало – размытые брови, близко посаженные глаза, узкий рот, руки, похожие на птичьи лапки, плоскую грудь, тонкие ноги, – она все же пыталась найти и что-нибудь позитивное. И находила! Волосы были не густые, но вполне пышные, легкой волной. А талия! Где вы видели талию в 54 сантиметра! Правда, увы, на этом список удачного заканчивался, но Адуся вывела разумную формулу. Надо суметь себя преподнести. Не вставать в унылую очередь дурнушек, а выделиться из толпы. Обратить на себя внимание. Объяснить всем, что она особенная. Необычная. В конце концов, главное – суметь в этом всех убедить. И она принялась за дело. Тогда-то она и подружилась с Надькой-инвалидкой, названной так безжалостно Адусиной матерью за высохшую ногу в тяжелом и уродливом ботинке. Надька была молчуньей, с недобрым затравленным взглядом, вся сосредоточенная и зацикленная на двух вещах – своей болезни и своей работе. Из дома она почти не выходила, стеснялась. Продукты ей приносила соседка, умело обманывающая Надьку, – цен та совсем не знала. А вот от клиенток не было отбоя. Шила она с утра до поздней ночи. Портнихой была от Бога – шила с одной примеркой, никогда не повторяя модели и не сталкивая лбами капризных клиенток. Кроме обычной и точной закройки, она безошибочно угадывала фасоны для той или иной клиентки, удачно скрывала недостатки и подчеркивала достоинства фигуры. Ей достаточно было одного быстрого взгляда, чтобы все оценить и не ошибиться. И брюки, и деловые костюмы получались у нее превосходно, но все же ее коньком были вечерние туалеты. Здесь она отрывалась по полной – вышивала узоры, обвязывала золоченой тесьмой, выдумывала затейливые аппликации, оторачивала мехом и перьями, крутила немыслимой красоты цветы из обрезков бархата, тафты и меха. Деньги за заказы брала большие – но кто с ней спорил. С ее талантом, чутьем и безупречным вкусом считались безоговорочно. Она молча выслушивала нервных и капризных дам, кивая или не соглашаясь, крепко сжав в тонких бесцветных губах снопик булавок. Обшиваться у Надьки считалось привилегией и хорошим тоном. Со всеми она держала непреодолимую дистанцию, а вот с Адусей получилась почти дружба. Почему – вполне понятно. Адусю она сразу причислила к несчастным – некрасива, небогата, не чванлива, без капризов. И к тому же одинока. Это их и роднило. Адуся приезжала не просто по делу на примерку, торопясь и нервничая перед зеркалом. Без настойчивых просьб – Надя, милая, побыстрее, пожалуйста. Меня ждут внизу в машине (водитель, муж, любовник).
Приезжала Адуся к Надьке в гости, именно в гости. Приезжала с утра в субботу и на целый день – с хрустящими вощеными пакетиками с кофе из чайуправления, только что молотым, и с коробкой разноцветных пирожных из «Праги» – лучшей кондитерской тех лет. Обе были заядлые кофеманки и сластены. Надька варила кофе – целый кофейник на весь день, освобождала половину огромного стола, заваленного бесконечными выкройками, булавками, мелками, обмылками и обрезками. И начинали свой сладкий пир две одинокие души. Только ей, Адусе, своей единственной и закадычной подруге, Надька доверила свою страшную тайну, ни одной душе неведомую. Тайну о том, как однажды остался у нее на ночь мужчина, водитель одной из клиенток, заехавший вечером за готовым заказом. Остался на ночь. А утром, увидев у кровати безобразный черный, кособокий Надькин башмак, бросился в ванную, где его вырвало прямо в раковину. Так Надька распрощалась со своей девственностью и иллюзиями в одночасье.
Адуся сочувствовала бедной Надьке и обе плакали, обнявшись. Еще она слегка жаловалась подруге на свою резкую, бесчувственную, но все же такую обожаемую мать и вторым пунктом, конечно же, на тотальное отсутствие женихов. В перерывах между кофе и перекурами Надька ползала по полу – кроила она на полу. Потом Надька раскрывала журнал и предлагала Адусе самые свежие модели, измененные и усложненные Надькиной буйной фантазией и талантом. Адуся все принимала с восторгом и восхищением. И начиналось священнодействие. Красились в крепком растворе чая кружева, приобретающие цвет топленого молока или подбеленного кофе, разрезалась широкая, с золотой ниткой, тесьма – поуже на рукав, пошире на оборку, клеились фиксированные, твердые банты из атласа и капрона, завязывались на свободный крупный узел мягкие шелковые галстуки, обтягивались большие старые пуговицы парчой. Оторачивался обрезками голубой норки весенний светло-серый суконный жакет. Кроили легкие, полупрозрачные блузки с обильным жабо, высоко вздергивали фонари рукавов и безжалостно зауживали длинные манжеты, разрывали нити старых бутафорских жемчужных бус и пускали горошинами по воротнику и передней планке платья. Адуся мужественно мерзла у огромного мутноватого старого зеркала в коридоре, ежась в колючей немецкой кружевной комбинации. А Надька ползала вокруг нее, закалывала, подкалывала, чиркала мелом, бряцала огромными ножницами. Надька отползала от Адуси на пару шагов и, прищурясь, довольная, оценивала свою работу. И тощие, с пупырчатой кожей, посиневшие от холода Адусины ноги с крупной грубой щиколоткой, тонкой икрой и мосластыми коленями казались Надьке абсолютным воплощением красоты. Потому что это были две здоровые ноги. В изящных туфельках на каблуках. Две полноценные и крепкие ноги. А значит, есть шанс на успех и победу. Надька горестно вздыхала и еще крепче сжимала свои узкие и почти бескровные губы. Сейчас, вот сейчас. Адуся наденет свою пышную юбку, кокетливо закрутит шелковый шарфик на блузке, обует ноги в замшевые ботильоны на высоком и неустойчивом каблуке, подкрасит ярко губы, встряхнет легкими рыжеватыми волосами – и выскочит на освещенную улицу. Выскочит в жизнь. В ее быстрый поток, бурлящий водоворот. И застучит каблучками по мостовой. И все в ее жизни еще будет, будет наверняка. А в ее, Надькиной, жизни? В который раз Надька придирчиво и настороженно смотрела на себя в зеркало – огромные, с черным ободком вокруг серой радужки, глаза, короткий прямой нос, темные густые волосы, жесткие, как щетка, бледное, почти белое, лицо – конечно, совсем без воздуха, – и тонкий, искривленный в печальной гримасе рот. Неухоженность, полное безразличие к своей женской природе – это природе в отместку за то, что так жестоко она с ней, Надькой, обошлась. Надька тяжело вздыхала и садилась за свою нескончаемую работу. В этом и было ее истинное утешение.
Адуся легко выпархивала из захламленной душной Надькиной квартиры и с жадностью вдыхала московский воздух. Она тихо открывала дверь ключом – не дай Бог нашуметь! – вдруг мать задремала – и слышала один и тот же, словно недовольный материн вопрос:
– Это ты? – Как будто это опять ее очень огорчило и разочаровало.
– Я, мамуся, – громко отвечала она.
– Господи! – почему-то тяжело вздыхала мать.
Однажды мать ушла в спальню, взяв с собой телефон. По квартире черной змейкой струился перекрученный телефонный шнур. Мать плотно закрыла дверь в спальню. Адуся осторожно подошла к двери и услышала раздраженный и возмущенный голос матери.
– Глупость, бред, – кипятилась та. – Это в мои-то сорок. Это он не знает сколько мне, а я-то знаю. И потом, один опыт у меня уже есть! Не самый удачный. Да, мужик стоящий, богатый, но зачем мне трое его детей – мал мала. Что я с ними буду делать? Эти эксперименты не для меня. И этот вечный кавказский траур по его умершей жене. Наверняка в Москве он жить не станет. Мне уехать в Баку? Ну и что, что роскошный дом, ну и что, что тепло? А если он на ребенка не клю нет? Я понимаю, что вряд ли. Да, у них это не принято. Дети – святое. А если нет? Если просто не сложится и я там не смогу? И с чем я останусь? Одинокая стареющая второразрядная певичка почти без ролей? С двумя детьми? Да-да, Адуся уже взрослый человек. Но ведь и я не сумасшедшая.
Адуся замерла под дверью. Господи, мать попалась! Ничего себе история! Адуся лихорадочно перебирала возможных претендентов на отцовство. Ах да, был какой-то поклонник – бакинский армянин, моложе матери на добрый десяток лет, вдовец, человек щедрый и скорее всего не бедный. Адуся живо вспомнила корзины ярких фруктов, огромные, словно снопы, перевязанные лентой тугие букеты роз на плотных зеленых стеблях. Значит, речь идет о нем! Что же будет? А вдруг мать все же решится и ребенка оставит? Тут ей стало и вовсе нехорошо, тошнота подкатила к горлу, и по спине потек холодный и липкий пот. Она прислонилась к стене и прикрыла глаза. Боже, какая угроза! Ведь может измениться вся ее жизнь – какой-то непонятный молодой мужик, трое его детей, еще один ребенок, новорожденный, их общий с матерью. А она? Ее роль во всей этой истории? Нянька, вытирающая сопли всей этой ораве? От представляемого кошмара у Адуси закружилась голова, и она присела на корточки.
Но ничего этого не случилось, а случилось совсем другое – страшное и неисправимое. Ее сорокалетняя красавица мать умерла спустя месяц от кровотечения – осложнение после аборта, сделанного на приличном сроке. Похороны были пышные и многолюдные. Все как любила покойница. Скорбели потрясенные случившимся бывшие любовники и действующие подруги. Последнего возлюбленного, косвенно имеющего отношение к этой драме, на похоронах не было. Разыскивать его, вызывать из другого города у Адуси не было ни сил, ни времени. Да и к чему все это? При чем тут он?
Мать лежала в гробу бледная, прекрасная и успокоенная. Отгремели все страсти ее недолгой жизни, разом решились все проблемы. Как все просто. И как все страшно.
Адуся осталась одна в большой «сталинской» трехкомнатной квартире с эркером. По матери она тосковала безгранично. Теперь, обливаясь слезами, она перебирала ее колечки и браслеты, подносила к лицу ее платья, еще пахнувшие ее духами, спала в ее постели, зарываясь лицом в ее подушки. И все никак не решалась сменить и выстирать белье, хранившее, как казалось Адусе, материнский запах. Она страдала, совершенно забыв и презрев материнскую холодность и отрешенность, тоскуя по ней безудержно. Вечерами, заливаясь слезами, она перебирала драгоценности матери, целовала их, гладила и аккуратно складывала их обратно в мягкие бархатные и фланелевые мешочки, потом куталась в шубы – норковую и каракулевую, которые были ей, конечно же, велики и которые она все никак не решалась отнести к Надьке и переделать по фигуре. О том, чтобы что-то продать из украшений или старинных вещиц, так любимых матерью, понимавшей в этом толк, не могло быть и речи. Жить теперь приходилось на свою более чем скромную зарплату. Раньше, при матери, о деньгах думать особенно не приходилось. Сейчас же считалась каждая копейка, каждый рубль – это было непривычно. И Адуся терялась и расстраивалась, бесконечно считая жалкий остаток. Домработницу Любу она, конечно же, рассчитала. На что ей домработница? Так и жила – одиноко и неприкаянно. Из подруг – одна верная Надька, тоже одинокая душа.
Впрочем, была у Адуси и любовь. Правда, любовь тайная и неразделенная, так как предмет ее страсти об этом и знать не знал. Это был сын старинной подруги матери, некоей Норы, бывшей балерины, в далеком прошлом известной московской красавицы и вдовой генеральши. Предмет звался Никитой и вполне бы мог сойти за былинного русского богатыря – косая сажень в плечах, пшеничные кудри, синие глаза. Любила Адуся Никиту давно, с детства, пожизненно и безнадежно. Ибо Никита был бог, царь и абсолютный фетиш. И ему, как богу и царю, было дозволено все и все заранее прощалось. А был он заурядный и обычный пошловатый бабник и ходок. Но она так даже и думать о нем не смела, ни Боже мой. В ее сердце имелась своя ячейка, свой сейф, где были припрятаны все тайны ее души и сокровенные мысли, грустные, надо сказать, мысли. Что никогда, никогда… Кто она и кто он? Да разве можно себе это представить? Любовь к Никите – отдельная песня, отдельная строка. Ах, пустые девичьи грезы! А в повседневной жизни был вполне прозаический снабженец Володя, остряк и балагур, то исчезающий, то вдруг внезапно возникающий как черт из табакерки, живущий где-то на Урале. Появлялся он редко и на пару дней – случайные нечастые командировки. И поддерживал эту связь скорее всего только по причине собственного удобства. Был еще тихий и слегка пришибленный аспирант Миша, живший с полубезумной старухой матерью и посему поставивший жирный крест на устройстве своей личной жизни. Приходил он к Адусе где-то в две недели раз, зажав в вялой руке три банальные помятые и пожухлые гвоздики. Долго пил на кухне чай и, не поднимая глаз, нудно прощался, топчась в прихожей. Все это было тускло, мелко и обременительно. Не приносило радости и не сулило жизненных перемен. А ведь еще хотелось игры, интриги, страсти, наконец. Мамины гены, пугалась Адуся.
Никиту она считала неприкаянным и, конечно же, несчастливым вечным странником. Что эта глупая череда круглоглазых красоток? Конечно же, только она, Адуся, сумеет разглядеть его мятущуюся душу, только она, умная, тонкая и остро чувствующая, сумеет дать ему истинное счастье и радость.
Мечтая ночами, она видела себя идущей с ним под руку, хрупкую и нежную, с ним, таким большим и сильным. И конечно же, читающую ему стихи:
– «Сжала руки под темной вуалью…»
Или вот лучше так:
– «Как живется вам с другою женщиною, без затей?»
Она-то, Адуся, была, конечно с затеями, не то что те – другие.
К Норе она заезжала часто, естественно, в надежде увидеть Никиту. Нора уже сильно хворала – особенно подводили ноги, когда-то сводившие с ума пол-Москвы. Профессиональная болезнь бывшей балерины – суставы. Ходила она теперь по квартире с палкой, из дома почти не выходила, сильно располнела и запустила себя, обнаружив к старости одну пламенную страсть – много и вкусно есть. Компенсация за вечные диеты и голодовки в молодости. Обычно Адуся заезжала в «Прагу» и набирала любимые Норой деликатесы: холодную утку по-пражски, заливной язык, ветчинные рулетики и знаменитые «пражские» пирожные. Денег тратила уйму. Но Нора – единственный мостик между Никитой и Адусиными грезами. Одинокая и всеми покинутая бывшая светская львица Нора, полная, кое-как причесанная, тяжело опирающаяся на палку, была ей всегда рада. Садились на кухне – Адуся по-свойски хозяйничала: варила кофе, раскладывала на тарелки принесенные вкусности. Нора, как всегда, много курила и поносила Никитиных баб. Это был ее излюбленный конек. Адуся узнавала все до мельчайших подробностей, совершенно ей, казалось бы, не нужных. Но это было не так. Из всего сказанного и рассказанного она делала свои выводы. Скажем, она узнала про парикмахершу Милку, здоровую дылду и дуру, про полковничью неверную жену Марину, уродину и старую блядь (с Нориных слов, естественно), про медсестричку Леночку, в общем, славную, но простую, слишком простую и примитивную. И далее – по списку. Адуся в который раз варила крепкий кофе, металась от плиты к столу, поддакивала, осторожно задавала вопросы и мотала на ус. Ничего не пропускала. Ах, как нелегка была дорога, как терниста и извилиста узкая тропка к просторной и любвеобильной Никитиной душе.
Нора жирно мазала дорогущий паштет на свежую сдобную булку, вилкой безжалостно крушила хрупкую снежную красоту высокого безе, шумно прихлебывала кофе и трясущимися желтоватыми пальцами с еще крепкими круглыми ногтями в ярком маникюре давила окурки в гарднеровском блюдце.
Не часто, загораживая широким разворотом богатырских плеч дверной проем, возникал случайно забредший в отчий дом вечный странник Никита. Адуся заливалась краской и опускала глаза. Никита оглядывал лукуллов пир, усмехался, неодобрительно качал головой и непременно каламбурил что-то в сторону Адуси, типа:
– Ада, какие наряды. Последняя коллекция мадам Шанель? Парижу-то что-то оставили?
И цеплялся с матерью – непременно.Он присаживался за стол и укорял смущенную Адусю:
– Губите матушку, Адочка. Уже и печеночка не та, и желчный шалит. И вы все, маман, туда же. Какая, право, несдержанность.
В общем, паясничал. Нора – крепкий еще боец – в долгу не оставалась.
– Что, шелудивый кот, нашлялся, еще не все волосы на чужих подушках оставил? – отвечала Нора, а в глазах гордость и что-то вроде умиления – моя кровь!
– Маман все не может успокоиться, что придворный абортарий был закрыт тогда на профилактику, – острил Никита. – Вот так, Адочка, волею судеб я совершенно случайно появился на свет. Увы! – тяжело вздыхал он и разводил руками.
Адуся опять краснела, как бурак, и поддакивала то Никите, то Норе. Так коротали время. Потом, когда моноспектакль был завершен и Никите их общество порядком надоедало, он вставал и уходил к себе. Адуся интересовала его исключительно как зритель. Больше – ни-ни. Все ее ухищрения и старания были напрасны. Адуся домывала посуду, подметала захламленную кухню и старалась поскорее избавиться от занудной Норы.
Дома ночью после визита она обычно не спала – перебирала в голове Никитины фразы, высказывания и с горечью признавалась себе, что все ее старания бесплодны и напрасны. Ни-че-го! А какие усилия! Самая модная в сезоне стрижка, французские косметика и духи, черное бархатное платье с фиолетовой шелковой розой, итальянский сапожок – черный, лаковый, с кнопочкой на боку – о цене лучше не думать. Пирамида картонных коробок из «Праги», дорогущие и дефицитные желтые розы в хрустящем целлофане. Сама Адуся, изящная, трепетная, элегантная. Если верить Норе, таких изысканных и тонких женщин у него вообще никогда не было, горестно вздыхала Адуся, ворочаясь на жестких подушках. Отплакавшись, Адуся успокаивалась: «Не все еще потеряно, не все. Не отступлюсь ни за что», – и засыпала под утро счастливым сном. Ах, надежда, вечный спутник отчаяния! И конечно, его величество случай, как часто бывает.
После очередного гастрономического безумства (на сей раз это был жирный окорок) Нора загремела в больницу – приступ панкреатита. Сопровождали ее Никита и срочно вызванная по телефону Адуся. В приемном покое Нора громко рыдала, и прощалась, и просила Адусю позаботиться о бедном и одиноком Никите, моментально позабыв все претензии к сыну. Адуся мелко кивала головой, гладила Нору по руке и обещала ей не оставлять Никиту ни при каких обстоятельствах. Нора потребовала клятвы. Конечно, она слегка переигрывала и вовсе не собиралась помирать, но роль свою, роль трепетной матери, как ей казалось, она играла вполне убедительно. Обещание, данное Норе на почти смертном одре, Адуся решила исполнять сразу, заявив сонному и растерянному Никите, что недолгий остаток ночи она проведет у него. Во-первых, как ей одной сейчас добираться до дому? Во-вторых, завтра нужно убраться в разгромленной после «скорой» квартире. В-третьих, приготовить Норе что-нибудь диетическое и, кстати, ему, Никите, обед. Мотивации вполне логичны. Он равнодушно кивнул.
Утром следующего дня она взяла на работе отгулы и осторожненько так перевезла в Норину квартиру часть своих вещей, не забыв ни духи, ни кремы, аккуратно расставив их на стеклянной полочке в ванной. Рядом с Никитиным одеколоном и принадлежностями для бритья. Обозначив таким образом свое законное присутствие. И принялась за дела. Сначала вымыла мутные окна и постирала занавески, потом выкинула все лишнее, чего было в избытке, – подгнившие овощи, старые картонные коробки, чайник с отбитым носиком, пустые коробки из-под шоколадных конфет, подсохшие цветы. Далее вымыла со стиральным порошком ковры – жесткой щеткой. Выкинула из холодильника куски засохшего сыра и колбасы. Начистила кастрюли, отмыла содой потемневшие чашки. Протерла мясистые, плотные и серые от пыли листья фикуса. Мелом натерла до блеска темные серебряные вилки и ножи. Сварила бульон, мелко покрошив туда морковь (для цвета) и петрушку (для запаха). Протерла через сито клюкву – морс для бедной Норы. Сбегала в аптеку и за хлебом (из хлебницы брезгливо выкинула заплесневевшие горбушки). По дороге купила семь желтых тюльпанов – воткнула их в низкую и пузатую вазу, поставила на кухонный стол. Оглядела все вокруг. Квартиру ну просто не узнать. Всем осталась очень даже довольна. И поспешила к Норе в больницу. Напоила ее морсом с сухими галетами, умыла ее, причесала, долго и подробно беседовала с лечащим врачом и строго разговаривала с бестолковой нянечкой, дав ей денег и приказав подавать Норе судно и поменять постель. Еле живая притащилась вечером по месту своего нового, временного (хотя кто знает) жилища. Еле ногами перебирала, но, увидев в прихожей красную Никитину куртку, спину распрямила, плечи завела назад и надела на лицо самую лучезарную из улыбок. Никита помог ей снять пальто и участливо спросил:
– Устала?
Адуся махнула рукой, ничего, мол, ерунда, чего не сделаешь ради близких и дорогих людей? Он подал ей старые, разношенные Норины тапки, но она достала свои – каблучок, открытая пятка, легкий розовый, пушок по краю. И накинула халатик – тоже в тон, розовый, с блестящим шелковым пояском. Крепко затянула этот самый поясок – талия! Двумя пальцами обхватишь. Если пожелаешь. И слегка устало опустилась в кресло.
– Чаю? – вежливо осведомился хозяин.
Адуся кивнула. Чай она пила медленно, изящно, как ей казалось, чуть отставив в сторону мизинец, и рассказывала подробно про больницу и врачей. Никита слушал и уважительно кивал головой:
– Ну, ты, Адуся, даешь! И что бы мы без тебя делали, пропали бы не за медный грош.
В первый раз без своих шуток и каламбуров. А потом серьезно так сказал:
– Спасибо тебе, Адка, за все. И за мать, и за квартиру – так чисто у нас никогда не было. Может, поживешь у нас, пока мать в больнице? – с надеждой спросил он.
Адуся вздохнула – и согласилась. С достоинством так. О мужчины! Кто же из нас завоеватель! Или так изменился мир? Как может быть изобретательна и коварна в своих замыслах даже далеко не самая искушенная женщина. Сколько физических и душевных сил нужно потратить ей, маленькой и слабой женщине, чтобы вы хотя бы обратили свой взор на нее! И как вы, ей-богу, наивны и туповаты, прямо скажем. Но мы не злодейки и ставим силки не по злому умыслу и не для оного. Кто же может осудить человека за вполне естественное желание быть любимой и счастливой?
Адуся легла в Нориной комнате, и ей, конечно же, не спалось. Так близко, за стеной, спал главный человек ее жизни. Спал, похрапывая, ни о чем не печалясь. Адуся смотрела на потолок, и он казался ей звездным небом. А среди ночи ужасно захотелось есть! Она вспомнила, что в хлопотах за целый день не съела ни куска. Осторожно, крадучись, не включая света, пробралась на кухню и открыла холодильник. Так и застал ее, жующую холодную куриную ножку, Никита, поднявшийся среди ночи по малой нужде. От ужаса Адуся поперхнулась. А Никита испугался и хлопнул ее по спине. Все насмарку! Так оконфузиться! На глазах выступили слезы. Но Никита и не думал насмехаться.
– Проголодалась, бедная? – участливо спросил он и налил ей чая. – Сядь, поешь по-человечески, – предложил он обалдевшей Адусе. А потом сказал тихо: – Иди ко мне.
«Господи! От меня же пахнет курицей», – с ужасом подумала неудачливая соблазнительница. Но Никите это все было, похоже, по барабану. Он властно притянул Адусю к себе. А потом легонько шлепнул по почти отсутствующей «филейной» части Адусиного худого тела и подтолкнул ее в свою комнату. И Адуся познала рай на земле. Или побывала на небесах. Впрочем, какая разница, если человек счастлив.
Бедная Надька-инвалидка выла от тоски и одиночества. Даже верная подруга Адуся пропала и не объявлялась. Изо дня в день Надька видела перед собой прекрасных и благополучных женщин. Вместе с ними залетали в Надькину унылую квартиру запах ранней весны, небывалых духов, легкость, и беспечность, и бесшабашные и сногсшибательные истории. Клиентки крутились перед зеркалом в прихожей, кокетливо щурили глаза и придирчиво и довольно осматривали свое отражение. Она видела их упругие бедра и грудь, стройные ноги, тонкое кружевное белье и вдыхала их аромат – аромат полной жизни и свободы. Они звонили по телефону и капризничали, повелевающими голосами разговаривали с мужьями и нежным полушепотом ворковали с любовниками.
Вечером, оставшись одна, впрочем, как всегда, Надька залпом выпила стакан водки и подошла к зеркалу в прихожей. Она долго и подробно рассматривала свое отражение. Стянула черную «аптекарскую» резинку с «хвоста», встряхнула головой, по плечам рассыпались густые, непослушные пряди. Она взяла черный, плохо заточенный карандаш и толстой, неровной линией подвела глаза – к вискам. Потом яркой красной помадой, забытой какой-то рассеянной клиенткой, она яростно и жирно черкала по губам, и что-то ведьминское, злое и прекрасное появилось в ее лице.
Потом она скинула халат и пальцем провела по своему телу – по маленькой и твердой груди с острыми и темными сосками, по впалому и бледному животу, по чуть заметной темной дорожке от пупка вниз, к паху. И вдруг ей показалось, что она прекрасна и ничуть не хуже их, тех, кому она так завидует и кем тайно любуется. Но потом взгляд ее упал на тонкую, сухую, изуродованную болезнью и грубым высоким черным башмаком ногу, и она зашептала горестно и безнадежно: «Но почему, почему?» – в который раз. Ее начала бить крупная дрожь, и она накинула чье-то недошитое манто из серебристой чернобурки, допила водку и уснула на кухне, уронив бедную голову на стол, – злая, несчастная и обессиленная.
А Адуся с утра жарила омлет. Не просто банальный омлет – яйцо, молоко, соль, все взбить вилкой. Это был омлет – произведение, завтрак для любимого. Адуся томила до мягкости ломтики помидоров, взбивала до белой пены яйца, щедро крошила зелень и терла острый сыр. Далее она варила кофе, жарила тосты, накрывала красиво – клетчатая льняная салфетка, приборы, букет тюльпанов на столе. Все это она делала, пританцовывая на легких ногах и что-то негромко напевая, – слух у нее был неважный. Жизнь прекрасна! Чего ж еще желать! Никита сел завтракать, удивляясь и слегка пугаясь такому натиску, – в кофе Адуся положила сахар и размешала его ложкой, а сливки взбила венчиком и аккуратно влила в чашку с кофе. «Так вкуснее», – пояснила она.
Никита молча жевал и кивал. Сама Адуся есть не стала, а только аккуратно прихлебывала кофе, присев на краешек стула, и что-то щебетала. Он посмотрел на нее – легкие кудряшки, тонкие ноги, длинный острый носик, узкие, словно птичьи лапки, руки. Пестрый халатик – птичка, ей-богу, ну просто птичка Божья. А старается как! «Смешно и нелепо», – подумал он, и что-то вроде жалости на мгновение мелькнуло у него в душе. Он глубоко вздохнул и поблагодарил ее за завтрак. А Адуся продолжала хлопотать – обед, уборка, собрать что-то в больницу Норе, днем – сама больница. А вот вечером – вечером их с Никитой время. Ужин при свечах! Все получается так легко и складно!
Нора в больнице капризничала, просила есть и рвалась домой – отпустило. Но скорая Норина выписка в планы Адуси никак не входила. Для начала нужно укрепить тылы и прочно занять оборону. Вечером накрыла в гостиной – свечи, салфетки в кольцах. Никита глянул и коротко бросил:
– К чему это?
Молча поел на кухне и ушел к себе, плотно прикрыв дверь. Адуся в ванной умывалась слезами – сама виновата, надо было мягче, осторожнее. Ночь промаялась, не спала ни минуты, утром, сомневаясь и дрожа, все же зашла осторожно, чуть скрипнув дверью, в его комнату. И легла, умирая от страха на край его постели. Никита вздохнул во сне, заворочался, повел носом, как собака, почуявшая дичь – и, конечно же, ни от чего не отказался. Он взял ее грубовато, коротко, не открывая глаз, и опять крепко уснул, а Адуся лежала рядом, тихо всхлипывая, и никак не могла решить, страдать ли ей дальше или все-таки радоваться. Утром Никита был весел, шумно брился в ванной, громко фыркал, шумно сморкался, а на пороге щелкнул легонько и необидно Адусю по носу – не придумывай себе ничего, угу? И был таков. Ах, ах, опять слезы, красные глаза, распухший нос, настроения никакого. Плюнуть, собрать вещи, уйти? Ну нет, мы еще поборемся – твердо решила Адуся. Это с виду я такая – переломишь, а внутри – стальная пластина. «Эх, медведь бестолковый, – с нежностью думала Адуся, – не видишь своего счастья. Всю жизнь тебе готова служить верой и правдой. И служить, и прислуживать – ничего не зазорно. Только бы быть рядом с тобой!» А вечером у Никиты было вполне сносное настроение – он шутил, беззлобно подтрунивал над Адусей, и уснули они вместе. Не все потеряно! Жизнь опять решила улыбнуться!
Нору забирали через две недели, и она опять ныла, ругалась с сыном и цыкала на бедную и верную Адусю. Дома, внимательно оглядев чистую и помолодевшую квартиру и оценив диетический, но вполне сносный ужин – куриное суфле, творожный пудинг, запеченные яблоки с корицей, – она попросила Адусю пожить у них еще несколько дней по причине ее, Нориной, слабости и нездоровья, естественно. Адуся согласилась. Спала она теперь на узком диване в столовой, а ночью крадучись пробиралась в комнату Никиты. Он принимал ее с легким вздохом – как бы в благодарность за оказанные услуги. Но разве она хотела это замечать? Нора быстро поняла про все удобства, связанные с проживанием Адуси, и моментально раскусила их так называемый роман, втайне надеясь, что вдруг наконец ее беспутный сын образумится и дай Бог… Своим практическим умом она, конечно, понимала, что лучшей жены ему не найти, а уж ей невестки и подавно. Адуся осталась еще на неделю, потом еще и постепенно и осторожно так перевозила свои вещи к ним в дом, конечно же, тайно, и страстно желая задержаться там навсегда.
И правда, стало вырисовываться со временем какое-то подобие семейной жизни – с общими ужинами, походами на рынок (ах, я не подниму тяжелых сумок!), в кино, вечерним поздним чаем на кухне, совместным просмотром какого-нибудь фильма по телевизору, когда Адуся, уютно позвякивая спицами, вязала Никите свитер из плотной белой шерсти со сложным модным северным орнаментом на груди – красными оленями с ветвистыми рогами. Никита почти не взбрыкивал, лишь иногда вечерами исчезал ненадолго, а однажды и вовсе не пришел ночевать. Но Адуся – ни слова. Так же подала завтрак и размешала сахар в чашке. Никита усмехался – вся ее игра шита белыми нитками, все наивно и смешно, паутину плетет соблазнительница коварная. Ей, Адусе, к тридцати, замуж хочет, понятное дело. Шансов немного, хоть и славная, в общем, девка. Смешная, нелепая, но старается изо всех сил. Но его, Никиту, так просто не окрутишь, не обовьешь. Да и к чему все это? Быт волновал его мало, жил же и не тужил и без ее забот, детей он не хотел – какие, право, дети? А жениться? Жениться надо по любви. Какой у него расчет? Смешно, ей-богу, на нее и на маман смотреть. Порешали все негласно, умницы какие! Да и сколько еще красивых и молодых баб, никак не охваченных Никитой? Добровольно от всего этого отказаться? Ради чего? Ради совместных посиделок вечером в кресле у телевизора? Чушь какая! Да и все эти завтраки, ужины, крахмальные рубашки, туфли, начищенные до блеска, да и сама Адуся, в конце концов. Хотя, что лукавить, втянулся как-то, поддался, что ли. В общем, не очень пока возражал. Правда, сходили даже пару раз в театр, съездили к институтскому другу Никиты на день рождения, где все удивились новой барышне известного бонвивана – смешной и странноватой, закрученной в пышные юбки и кружева.
Насмешники нашли ее нелепой, а доброжелатели – вполне трогательной. К Надьке она тоже Никиту затащила – с уловками и хитростью. Хотелось продемонстрировать свою удачу и состоятельность. Надька страшно почему-то смутилась, была, как всегда, неразговорчива, то бледнела, то вспыхивала своими неповторимыми серыми очами. Никита курил на кухне.
– Сегодня сделаешь? – с надеждой спросила Адуся. Работа для Надьки была – пустяк, так, подол подрубить и заузить лиф, но она свредничала – бабская сущность – и торопиться отказалась.
А Адуся с Никитой вечером собирались в Большой на «Дон-Кихота». Адуся жалобно канючила, а Надька говорила свое твердое «нет». Завтра к вечеру. Точка. Ушла от Надьки надутая, а потом осенило – завидует. Как все банально! И усмехнулась: ну что ж, милочка, поделаешь. Каждому свое. Уж извини, что так вышло. На балете Никита уснул, но это ее только умилило – устал, бедненький.
Потом она стала прихварывать, не понимая, в чем дело. Забеспокоилась – ее организм, работавший так четко до этого, дал какой-то явный сбой. Болела грудь, потемнели бледные Адусины соски, мутило, совсем не хотелось есть, а хотелось только свежего огурца с солью и томатного сока. И еще все время тянуло в сон. Так бы и спала целый день. В общем, взяла отгулы и валялась на диване. Попросила Никиту съездить к Надьке и забрать платье. Умная Нора просекла все до того, как поняла Адуся. И просила Бога образумить наконец ее непутевого сына. А еще через неделю исчез и сам фигурант, звонком, впрочем, успокоив мать – жив-здоров, просто уезжает, и, видимо, надолго. И еще очень просит мать – ну, ты же у меня умница! – льстец – придумать что-нибудь для Адуси. «Ну, что-нибудь, сама знаешь. Она ведь так явно задержалась», – хохотнул он на прощание.
Вечером того же дня Нора кричала на несчастную Адусю, называя ее дурой и бестолочью за то, что та не успела сказать Никите про ребенка, все думала, как эту новость торжественно обставить. А теперь ищи его днем с огнем! Где он сейчас, на чьих подушках? Похоже, закрутило его сильно, уж она-то своего сына знает, не сомневайся.
Адуся собрала вещи и уехала к себе. Тяжелее всего было пережить то, что она посчитала за явное оскорбление – исчез, не поговорив, не сказав ни слова объяснения, не по-человечески, по-скотски с ней обошелся. За что? Это и было самым горьким. Страдала она безудержно и отчаянно. Бессердечная Нора звонила ежедневно и уговаривала Адусю сделать аборт: «Одна ты ребенка не поднимешь».
Себя она в этом процессе, естественно, не видела. Ребенка Адуся решила оставить. Как можно распоряжаться чужой жизнью? Да и потом, материнская страшная судьба! Чувствовала себя она отвратительно, но душевная боль была куда сильнее, чем физическое недомогание. С работы она уволилась – видеть и говорить ни с кем не было сил. Относила в комиссионку на Октябрьской то серебряный молочник, то столовое серебро, то японскую вазу. Из дома почти не выходила, телевизор не включала, лежала часами на кровати без сна, но с закрытыми глазами. Открывать глаза и видеть этот мир ей не хотелось. К телефону подходить перестала, а потом и вовсе выдернула шнур из розетки.
Однажды, когда одиночество стало совсем невыносимым, просто выла в голос от тоски, поехала к Надьке, старой подружке. Вот кто поймет и пожалеет – тоже одинокая и неприкаянная душа. Вот наплачемся вволю. Надька не скоро открыла дверь, и Адуся оторопела и не сразу поняла, в чем дело. На Надькином лице блуждала странная, загадочная улыбка, да и вообще она была и вовсе не похожа на себя прежнюю – с распущенными по плечам богатыми волосами, с яркими, горящими глазами, в новом красивом платье и с накрашенными губами. «Чудеса, ей-богу», – удивилась Адуся.
Надька стояла в дверном проеме и не думала пропускать Адусю в квартиру.
– Не пустишь? – смущенно удивилась Адуся.
Надька стояла не шелохнувшись и молча смотрела на нее. А потом отрицательно покачала головой.
– Что с тобой, Надька? Занята так, что ли? – догадалась наконец Адуся и бросила взгляд на вешалку в прихожей.
На вешалке висели мужская красная куртка и белый вязаный свитер с северными оленями. У Адуси перехватило дыхание. Они стояли и молча смотрели друг на друга еще минут пять. Вечность.
В голове у Адуси не было ни одной мысли. Только опять сильно замутило и закружилась голова. Она выскочила на лестницу и там, у лифта, ее сильно вырвало. Надька громко захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной.
– Каждый за себя, – тихо сказала она и еще раз это повторила: – По-другому не будет. Каждый за себя.
Адуся сидела на холодных ступеньках, и у нее не было сил выйти на улицу – отказывали и без того слабые ноги. Сколько прошло времени – час, три, пять? На улице было совсем темно. Она подняла руку и поймала такси. Ночью, в три часа, она проснулась от того, что было очень горячо и мокро лежать. Догадалась вызвать «скорую». Из подъезда ее выносили на носилках.
В больнице она провалялась почти месяц. Вышла оттуда высохшая, словно обескровленная. Неживая. Ей казалось, что вместе с ребенком из нее вытащили и сердце, и душу заодно. Так черно и выжжено все было внутри. Врачи вынесли неутешительный вердикт. Детей у Адуси быть не может. Отвалялась дома еще два месяца – к зеркалу не подходила. Пугалась сама себя. Поднял ее настойчивый звонок в дверь. Она решила не открывать, но звонившие, похоже, отступать не собирались. И правда, отступать им было некуда. За дверью стоял высокий и темноглазый худощавый мужчина с обильной проседью в густых волнистых волосах. За руки он держал двух девочек-близняшек лет семи-восьми, а за его спиной стоял худой мальчик лет тринадцати с печальными и испуганными глазами.
Это был тот самый любовник матери, бакинский армянин-вдовец, невольный и косвенный участник ее трагической гибели. Бежал он тогда из Баку, как бежали в ужасе и страхе его собратья, бросив все, чтобы просто спасти свои жизни. В Москве, кроме бедной Адусиной матери, близких знакомых у него не было. Позвонить он ей не мог – телефон был отключен. Растерянная Адуся впустила их в свой дом. На кухне дрожащими руками она накрывала чай и рассказывала ему тихо о том, что мать она похоронила два года назад. Истинную причину ее гибели открывать она не стала. К чему? И так слишком много горя пережил этот человек. Он рассказывал ей, что пришлось бросить все – дом, вещи, только спасаться и бежать. Дети сидели тихо, как мышата, испуганно прижавшись друг к другу.
Они молча выпили чай, и мужчина, тяжело вздохнув, поднялся со стула.
– Куда же вы теперь? – тихо спросила Адуся.
Мужчина молча пожал плечами. Адуся достала из шкафа белье и пошла стелить им постели. Она раздвинула тяжелые шторы на окнах и увидела желто-багровую листву на деревьях и яркое круглое солнце, уходящее за горизонт. И наконец приказала себе жить.
Эта чужая семья прожила у нее полгода, и все они стали ей почти родными, почти родственниками. Она проводила с детьми все свое время, ходила гулять в парк, сидела в киношках на мультиках, возила их в Пушкинский, в Третьяковку и в зоопарк, читала на ночь книги, варила им супы, купала девочек и заплетала их прекрасные волосы в косы. Это и спасло ее тогда от страшной тоски и одиночества, и свои беды и страдания становились как-то менее значительными и весомыми, что ли.
Правда, теперь она начала печалиться из-за того, что это все обязательно кончится, и кончится совсем скоро, и они уедут, покинут ее дом, и она опять останется одна со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отец семейства целыми днями мотался по инстанциям – собирал бесконечные справки и бумаги на отъезд в Америку к дальним родственникам. Собирались они уехать в Сан-Франциско, где была большая армянская община. Оформили их как политических беженцев. Адусе было стыдно, но про себя она молила Бога, только бы что-то задержало их в Москве, ну нет, конечно, не дай Бог что-то серьезное, ну какая-то затяжка, ну хотя бы еще на пару месяцев. «Дура привязчивая!» – ругала она себя. Но все же она почти совсем ожила и даже начала улыбаться. Невесть откуда появились силы – куда деваться, когда столько хлопот и такая семья. Только вот нарядов своих она больше не носила. Ходила теперь в джинсах, свитерах и маечках. На ногах – кроссовки. И волосы остригла совсем коротко, под мальчика. А затейливые свои туалеты собрала в два больших мешка и отнесла на помойку. Кто захочет – заберет, а нет, так черт с ними всеми вместе с ее, Адусиной, прошлой жизнью.