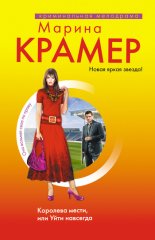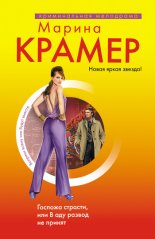Главные роли (сборник) Метлицкая Мария

В те дни Катя нам постелила в бабушкиной комнате, четко обозначив свое место в нашей семье. Сестра возмутилась, а я миролюбиво сказала:
– Ладно тебе, родители не молодеют, ты далеко, я в своих проблемах. Черт с ней, пусть живет, и матери полегче, да и положа руку на сердце весь воз проблем она тащит на себе. Из нас с тобой помощницы никакие. Да и мне так спокойнее.
– Нет, – отвечала сестра. – Мне это не нравится, она уже здесь хозяйка, неужели ты это не чувствуешь?
А вскоре тяжело заболела мама. Диагноз оказался страшным и необратимым – рассеянный склероз. Редкое заболевание у женщин после пятидесяти. У нее начали дрожать руки и ноги, она стала слепнуть, а потом и вовсе перестала вставать – начался частичный паралич. Я прибегала после работы, но все уже было сделано – постель чистая, мать подмыта и накормлена, а на плите ждал отца горячий ужин. Катя, как всегда, была сурово-сдержанна, скупа на слова и деловита. Мне она только протягивала заключения врачей и рецепты. Научилась делать уколы. За мать я была спокойна – лучшего ухода и представить невозможно, а к горю и к болезни все постепенно привыкли. Конечно, где-то глубоко внутри точила совесть, и щемило сердце – при двух вполне здоровых дочерях за матерью ухаживает посторонний человек. Впрочем, посторонней Катя уже, конечно, не была.
Тяжелая болезнь матери иногда давала передышку. Отец много работал и по понятным причинам дома старался бывать реже. Но ко всему человек привыкает, и постепенно ужас и паника отступили, и все привыкли к тому, что мать тяжело больна, и смирились с этим, радуясь временным и коротким улучшениям. Жизнь вошла в свой ритм и потекла уже по другому распорядку. Прошло четыре года. Однажды вечером я, как обычно, забежала после работы к матери. Почему-то шепотом она попросила меня поменять ей постель и вынести судно.
– Катюше это уже тяжело, – объяснила мать.
– Что тяжело? – удивилась я. А когда я увидела Катю, то быстро все поняла.
Живот у нее был, если приглядеться, вполне заметный – месяца на четыре. Мы пили с ней чай на кухне, и я увидела, что лицо ее расцвело коричневым пигментом, припухли губы и нос – словом, все признаки налицо. Я закурила и, помолчав, спросила:
– Замуж собралась?
– Нет, – ответила она. Короче не скажешь.
– Что «нет»? – разозлилась я. – Нагуляла? И где ты с ним, – я кивнула на Катин живот, – жить собираешься? Здесь гнездо совьешь?
Катя молчала.
– Что молчишь? – крикнула я. – Сама пристроилась и с ним, думаешь, не пропадешь. Люди мы добрые, на улицу не выкинем. Да и куда мы без тебя, пропадем ведь, погибнем, не справимся, – зло иронизировала я.
А Катя молчала.
– Не выйдет у тебя ничего. Может, ты еще прописаться здесь задумала? Не слишком ли много на себя берешь?
– А ты не слишком мало? – наконец ответила мне она.
Но остановить меня уже было сложно.
– Ты что думаешь, мы сиделку матери не в состоянии нанять? Думаешь, без тебя наша жизнь закончится? Ничего, не помрем, не переживай! – кипела я.
Видеть ее почему-то было невыносимо.
Я зашла к матери:
– Мам, ну что происходит? Ну чему ты потакаешь? Сегодня она родит, а завтра папашу ребенка приведет, алкаша заводского, ты его тоже пустишь? Она тут временно поселилась, временно, понимаешь? На черта нам все это надо? Ну, будет полегче с деньгами, наймем медсестру, ты же сама говоришь, что у нее рука тяжелая. – Я бессильно опустилась в кресло.
– Остынь, – тихо сказала мать. – Все останется как есть. Пока я жива, я здесь хозяйка. У вас своя жизнь, а у нас тут – своя. И решать это мне.
Я схватила куртку и выскочила на улицу. Во дворе я села на скамейку и попыталась взять себя в руки. Почему-то и злость, и гнев душили меня. Звонить сестре? Что ее тревожить? У нее своя жизнь, двое детей, другой город. Просить ее приехать? Глупо. Надо поговорить с отцом, осенило меня. Я позвонила ему – он, как всегда, был на работе допоздна – и сказала, что сейчас подъеду к нему. Он не удивился и не спросил, в чем дело. Я зашла к нему в кабинет и увидела, что он еще вполне хорош собой, седовлас и строен. И совсем не стар. Господи, подумала я, а ведь ему ох как несладко и как непросто.
Возмущаясь и сбиваясь, я твердила о том, что Катю надо выгонять сейчас, пока она не родила, потом будет сложнее. Ну нельзя допустить, чтобы из роддома она вернулась к нам, что потом мы не избавимся от нее вовек. И еще я говорила о том, что она внедрилась буром в нашу семью и стала, по сути, в ней хозяйкой и что виноваты во всем мы с сестрой, да-да, я это признаю, так всем нам было проще и удобнее, но пора остановиться, гнать ее, эту змею, которая вползла в наш дом, гнать именно сейчас, потому что потом будет поздно.
Отец ничего не отвечал, только молча курил, стоя у окна спиной ко мне.
– Что молчишь? – выкрикнула я. – Или тебе так тоже удобно, и тебя это совсем не касается?
– Касается, – коротко ответил он. Потом, помолчав, добавил: – Мать права, пусть все останется как есть. Ничего изменить нельзя. Мать без нее уже не может.
– А ребенок? – тихо спросила я.
Отец мне не ответил.
Я выскочила из кабинета и пошла прочь. В конце концов, это их жизнь, успокаивала я себя. И их решение. Я не приходила туда два месяца. А что творилось у меня внутри! И злость, и вина, и обида, и все душевные муки, которые только могут быть в виноватой и неспокойной человеческой душе. Теперь я звонила отцу, узнавала, как мать, и когда наконец решила прийти к ним, попросила отца, чтобы Кати в тот момент не было дома.
– Она почти не выходит из дома, – объяснил мне отец. – Состояние у нее не из лучших. Так что, если хочешь, приходи, а условий мне не ставь.
Я, конечно, пришла. Мать плакала и гладила мне руки. В коридоре я столкнулась с Катей. Ну почему мне так невыносимо было видеть ее – тяжелую, опухшую, с большим, низким животом? Она опустила глаза и молча прошла мимо меня. Я сидела в комнате у матери, и мы молчали. Потом она тихо сказала, вернее, попросила:
– Смирись, не мучь себя. Уже ничего не изменишь.
Я кивнула.
Спустя три месяца Катя родила вполне здорового и крупного мальчика. Когда я приходила туда, ребенок мирно спал на балконе. А Катя опять крутилась между ним, матерью и кухней. В ванной висели голубые фланелевые пеленки, а на кухне стояли бутылочки со сцеженным молоком.
– Поди посмотри на мальчика, – тихо сказала мать.
– Мне это неинтересно, – отвечала я.
Болезнь матери уже не оставляла никаких надежд – она все больше дремала, совсем перестала читать и лишь изредка смотрела телевизор. На тумбочке у ее кровати, на дурацкой, связанной Катей кружевной салфетке всегда лежало на блюдце очищенное и разрезанное на дольки яблоко и стоял стакан компота.
В квартире был абсолютный порядок, мать лежала на белоснежном, накрахмаленном белье, и на плите всегда стоял обед из трех блюд. Конечно, я все это замечала и вполне была способна оценить, но сделать шаг и начать общаться с Катей почему-то не могла. Или скорее всего положа руку на сердце не хотела. А мать рассказывала мне, что мальчик чудный и крепенький – тьфу-тьфу. И такая радость, когда Катя приносит его ей в комнату, ты не переживай, это меня ничуть не беспокоит, наоборот, одни сплошные положительные эмоции.
– А что моя жизнь? – говорила мать. – Лежу, как болван деревянный, столько лет. Ни туда, ни сюда. Не живу и не умираю. Только всех мучу. И освободить от себя не могу, – плакала бедная мать.
Младенца я увидела спустя полгода – забежав днем к матери. Он сидел в подушках на ее кровати, и она разучивала с ним нехитрые «ладушки». Мать смутилась, увидев меня, а Катя, быстро подхватив ребенка, выскочила из комнаты. Все, что я успела увидеть, – это то, что ребенок и вправду был хорош – гладкий, упитанный, розовощекий, с нежным светлым пухом на голове. Сердце мое сжалось – я была по-прежнему бездетна. Видя мое смятение, мать осторожно завела разговор:
– Чудный мальчик, правда?
– Не знаю, я в них не разбираюсь, – сухо ответила я.
Я покормила мать обедом и засобиралась домой. Вновь видеть ни Катю, ни ребенка мне не хотелось.
Медленно бульварами я пошла к своему так называемому дому. На душе было пусто. Период романтики и страсти мы, увы, уже проскочили, и остались лишь убогий быт, неустроенность и вечная нехватка денег. Всю зиму я ходила в осеннем пальто, подшив под него шерстяные платки, и в старых, латаных сапогах. Как следствие вечно простуженная и раздраженная. Появились обиды и упреки и, конечно же, взаимное недовольство друг другом. Я была уже вполне взрослая женщина, и мне хотелось стабильности, казавшейся мне синонимом счастья, – квартиры, семьи, ребенка, наконец. Наверное, в других обстоятельствах я бы вернулась к родителям, но возвращаться, по сути, мне было некуда. В общем, мне казалось, что я немолодая, тощая и загнанная лошадь, которая, обреченно и понуро опустив голову, бредет, спотыкаясь, по бренной земле.
А через два года умерла мать – урологический сепсис. Врач, констатировавший смерть, сказал, что причина банальна. И добавил, что мать, слава Богу, отмучилась – сколько лет такой страшной жизни. На похороны прилетела сестра, ставшая похожей на абсолютно восточную женщину, – крашенные в медный цвет волосы, черные одежды, крупные бриллианты на пальцах и в ушах.
Прилетела она с младшей дочкой, и девочка и Катин сын быстро нашли общий язык – что-то строили из кубиков на ковре. На кухне опять хлопотала Катя. Сестра внимательно посмотрела на нее и спросила:
– Кого ждешь?
– Мальчика, – одними губами ответила Катя. И быстро вышла из кухни.
На похоронах отец не плакал. Да и кто его вправе судить? Слишком долго и тяжело мать уходила. Человек ко всему привыкает. И все были к этому готовы. Жизнь есть жизнь. Только после поминок, когда мы с сестрой, обнявшись, сидели на мамином диване, он коротко бросил нам: «Помогите Кате». Я стала убирать со стола, а сестра пошла укладывать спать дочку. На кухне Катя мыла посуду.
– Ловко у тебя все получается, – усмехнулась я. – Теперь власть переменилась. Я-то тебя быстро выставлю, не сомневайся. Я не такая добренькая, какой была мать.
Катя развернулась ко мне и, глядя мне в глаза, твердо произнесла:
– Не выставишь, не надейся.
– Ну, это мы еще посмотрим, – пообещала я.
Катя вздохнула, вытерла о передник руки и достала из кармана конверт.
– Читай, – коротко бросила она.
Я открыла конверт и увидела листок из школьной тетрадки в линейку, исписанный крупным и кривым, словно детским, почерком. Я начала читать:
Девочки мои! Не решалась сказать вам раньше – так мне легче.
Примите Катю и ее детей. Это – ваши братья. Не осуждайте отца – так сложилась жизнь. Катя ни в чем не виновата. И никто ни в чем не виноват. С квартирой, думаю, разберетесь по-людски. Там же ваша доля тоже. Катя продлила мне жизнь. Хотя она была мне уже не очень-то и нужна. Но есть как есть. Решите все миром. Писать тяжело. Постарайтесь быть счастливыми. Очень вас прошу.
Мама.
Я долго держала в руках этот тетрадный листок, пытаясь что-то понять и осознать. Сколько я просидела на кухне на табуретке и как вышла в холодную московскую осень, я не помню. Отцу я не звонила долго, видеть ни его, ни Катю не хотелось. Да что там не хотелось – видеть я их просто не могла. Потом изменилась и моя жизнь. Я познакомилась с человеком, от которого веяло спокойствием и надежностью. Был он математик и бельгиец по происхождению. Человек от точной науки, четко объяснивший мне всю перспективу нашей с ним дальнейшей жизни. Где все мне было предельно понятно. Без богемного налета и неопределенности, от которых я очень устала. Я вышла за него замуж, и мы засобирались на его родину. Отцу я позвонила перед отъездом, за час до выезда в аэропорт, таким образом заранее отрезав себе пути к возможной встрече с ним. Говорили мы сдержанно и смущаясь. Я спросила его о здоровье и доложила минимальную информацию о себе. В трубке я слышала детские голоса.
– Напиши хоть когда-нибудь, – дрогнувшим голосом сказал он напоследок.
В Москве я не была несколько лет, жизнь моя сложилась так, как я уже и не ожидала, – жили мы дружно и тихо, наслаждаясь покоем и друг другом. Детей я так и не родила. С сестрой мы часто и подолгу общались по телефону – для меня это, слава Богу, было вполне доступно. И однажды решили приехать в Москву – повидаться и навестить могилу матери. Мы заказали один отель и поселились в соседних номерах. Наутро мы поехали на кладбище. Мы стояли возле ухоженной могилы и молчали. Думаю, что мы обе просили у мамы прощения. Ведь, если бы все сложилось по-другому, ей бы не пришлось пережить всего того, что она пережила. Если бы мы, ее дочери, были все годы рядом с ней. Мы, а не чужой человек, хоть, что греха таить, это нам было очень удобно, а потом мы стали искать виноватых. С кладбища мы шли молча, а когда сели в такси, я назвала водителю адрес старой родительской квартиры. Дверь нам открыла Катя – точно такая же, как много лет назад, только слегка располневшая. Несколько минут мы смотрели друг на друга, и потом я сказала:
– Чаем напоишь? Мы жутко промерзли – совсем отвыкли от московских зим.
Катя словно очнулась и мелко закивала. Мы разделись и зашли в дом. Из комнаты вышел постаревший отец и беззвучно заплакал, прислонившись к дверному косяку. Мы обнялись втроем. Катя накрыла стол в комнате, и за него сели двое вполне симпатичных мальчишек. Я подошла к ним и обняла их по очереди. Испуганные, они сидели тихо-тихо. Отец курил и молча наблюдал за нами. А потом вздохнул и сказал:
– Ну, слава Богу, вся семья в сборе. Садимся обедать!
Лучше не скажешь – вся семья в сборе. Ничего не попишешь – такая теперь вот у нас была семья. И слава Богу, что у нас хватило ума с этим смириться. Принять этот непростой пазл, который сложила жизнь и выкинула нам. Так, как было необходимо и мне, и сестре, – сейчас мы это понимали наверняка. И нашему отцу. И найти в себе силы начать со всем этим жить. Жить, чтобы жить. И постараться быть счастливыми. Как просила нас мама.
Прощеное воскресенье
Марина Северьянова готовилась к войне. Доставала доспехи, латы и мечи, это ее, как всегда, бодрило. К боевым действиям ей было не привыкать. Чаще внушали опасения передышка и затишье. Жизнь приучила ее к непрерывной и неустанной борьбе. И в этом состоянии, надо сказать, ей вполне было привычно и комфортно. Воин должен быть в строю. Иногда на плацу. Правда, учения давно уже закончились, хотя век живи, как говорится. Всегда готовая к обороне, сейчас она должна быть еще готова и к нападению. Повод был. И повод, надо сказать, был вполне серьезным. Серьезнее некуда. Когда в опасности бизнес и привычное благополучие – это одно. А когда в опасности твой ребенок… Твое единственное и обожаемое дитя. Самое дорогое существо на свете. И самое ранимое и незащищенное. Хотя, позвольте, как это незащищенное? А где же тогда она, Северьянова Марина Анатольевна? Да нет, слава Богу, здесь она, здесь. На месте. И в полной боевой готовности. И берегитесь все, кто против нас. Тысячу раз подумайте, прежде чем нанести нам обиду. Так-то!
А дело было вот в чем. В субботу вечером, часов в одиннадцать – Марина уже засыпала, – позвонила Маргоша. Хорошего от нее не жди. От Маргоши либо сплетни, либо ужасы и кошмары. Человек-негатив. Это, конечно, от безделья. Маргоша была богата – всех бывших мужей, совсем, кстати, непростых парней, раздевала до нитки. В этом она просто ас. Беспокоиться ей было не о чем. Кроме как о целлюлите на внутренней стороне бедер, новой коллекции от Prada и о мерзкой стерве домработнице (примерно десятой или двенадцатой за последний год), которая Маргошу, естественно, опять не устраивала. Услышав в трубке Маргошин голос, Марина сквозь зубы простонала:
– Господи! Сейчас пошлю к черту эту бездельницу!
Но оказалось, Маргоша звонила по делу. По важному и неотложному. Что в принципе редко с ней бывает. Маргоша докладывала Марине, что, обедая нынче в ресторане (простенько, недорого, просто рядом оказалась, оправдывалась Маргоша), так вот, обедает она, обедает, вдруг бац – за соседним столиком сладко воркует парочка. Маргоша от неожиданности чуть не подавилась карпаччо из лосося. Пригляделась – точно он. Не обозналась. Он, Маринин зять Миша собственной персоной. С кем? «С девкой, конечно, стала бы я тебе просто так звонить среди ночи, что я, дура, что ли? Да-да, с молодой девкой, блондинкой, разумеется. Сейчас же они все поголовно блондинки», – зло добавила Маргоша, натуральная шатенка, между прочим. Сон отлетел от Марины в тот же миг. Как не было. Она резко села на кровати, подобралась, сгруппировалась и начала задавать конкретные вопросы. Без всяких там ахов, охов, и «да что ты говоришь», и «не может быть», и «ты не ошиблась?». Во-первых, Маргоша не ошибалась никогда. Глаз-алмаз. Всегда с предельной точностью она могла на ком-то определить год выпуска коллекции, страну-изготовителя и цену. Также на расстоянии двух-трех метров она определяла запах духов и каратность бриллиантов. Так что думать, что Маргоша что-то перепутала, не приходилось. А во-вторых, Маргоша была какой угодно – капризной, скупой, мелочной, завистливой, но вот точно – врушкой она не была. Ну нет у человека такой черты в характере. Итак, вопросы были такого свойства – держались ли они за руки или, может, какие-то нежности в любой форме. Выражение лица зятя Миши – идиотско-счастливое, восхищенное, ровно-спокойное. Теперь о блондинке. Подробно. Рост, вес, что в ушах, на пальцах и на теле. Курит, пьет, томный взгляд, кокетство, равнодушие, молчит или трындит. Слушает ли открыв рот или незаметно позевывает. Что пили и что ели. Все это восстанавливает истинную картину происходящего и выявляет степень опасности. И вообще, предупрежден – значит вооружен.
Маргоша не ожидала, что ей придется так скрупулезно все восстанавливать, нет, память, конечно, отличная, тьфу-тьфу, но ей это все становилось уже неинтересно. Скучновато даже. Интереснее было бы обсудить новые сумки от Луи Вуиттона. Цены – ужас! Совсем охренели.
Но Марина цепко впилась – вот пиявка, и не отвяжешься. Все до миллиметра. Маргоша вяло отчиталась, зевнула и повесила трубку. Марина, встав, пошла в ванную и умылась холодной водой. И внимательно и пристально взглянула на себя в зеркало. На нее смотрела худая темноволосая, коротко стриженная женщина, со строгим взглядом холодных голубых глаз, со сведенными к переносице узкими бровями и тонкими, плотно сжатыми губами.
– Прорвемся! – уверенно сказала своему отражению Марина.
Потом она прошлепала босыми ногами по теплому, с подогревом, мраморному полу на кухню. Открыла холодильник и вынула банку пива «Faxe». Встала к окну, отдернула плотные шторы и медленно, маленькими глотками, стала пить ледяное пиво. По ярко освещенному Кутузовскому проспекту пролетали нередкие теперь ночные машины. Марина допила пиво и села в кресло. Сна как не бывало, а были мысли о дочке Наташке. Наташку Марина родила в девятнадцать. В дурацком и краткосрочном ребяческом браке. Наташкин отец, длинный, худой и сутулый, как вопросительный знак, Славик, был НИ-КА-КИМ. Ну вообще никаким. Ни глупым, ни умным, ни занудой, ни остряком. Он просто все время молчал. Ел и молчал, стирал пеленки и молчал, смотрел телевизор и молчал. Только отвечал на вопросы. Но вопросы задавать скоро расхотелось. И еще – вечно маячил по квартире. Марина постоянно на него натыкалась. Вроде он был длинный и худой, а ей казалось, что он занимает все ее жизненное пространство. Через три месяца после рождения Наташки она его выгнала. Ушел он тоже молча, ничего не выясняя. Физически без него было тяжелее – продукты, стирка, ночные бесконечные вскакивания к дочке. А вот морально стало лучше. Почему-то легче стало дышать. Теперь вечно сонная Марина натыкалась не на Славика, а на углы – от постоянного недосыпа. Иногда приходила помогать мама. Всегда с недовольной миной на лице – бровки домиком, рот гузкой. Наташка начала болеть с первой недели своего земного существования. В роддоме подхватила стафилококк, дома бронхит, далее дисбактериоз с колитом, две пневмонии до года, аллергия на молоко, детские смеси, не говоря уже про мясо, рыбу и яйца. Ела только геркулес на воде, молотый в кофемолке до пыли, и пила воду, настоянную на кураге. Раздирала пылающие, покрытые сухой корочкой щеки и ладошки. Плакала с утра до вечера. Марина была измучена вконец и научилась спать стоя и везде – в метро, во дворе, качая коляску, у телевизора, в детской поликлинике, прислонившись к косяку. А еще надо было на что-то жить. Добропорядочный Славик, правда, носил исправно каждый месяц 20 рублей. Плюс жалкое пособие – привет от родного заботливого государства. Что-то подбрасывала мать. Еле хватало на геркулес, курагу, детский крем, зеленку, чай с сушками для самой Марины и на оплату коммунальных услуг. Высохла она тогда до сорокового размера – брючки и кофточки покупала себе в «Детском мире». А однажды поняла – жить так больше нельзя, ну невозможно просто. Сама дошла до ручки, дочка одета с чужого плеча. И стала искать работу. Сначала устроилась на почту – разносила утренние письма и телеграммы. Начиналась каторга в шесть утра, и это после бессонной ночи. Наташку сажала в манеж, чтобы та не выскочила из кровати. А вечерами мыла два подъезда – свой и соседний. Наташка – в том же манеже у громко включенного телевизора. Чтобы соседи не жаловались, что ребенок орет. Однажды прибежала, а Наташка бьется в истерике и весь рот в крови, сломала свой первый зуб – стукнулась о железный крючок манежа (о безопасность изделия советского производства. Забота о детях). Марина дочку умыла, успокоила, а потом села на пол и ревела долго в голос, пока всю свою боль не выревела. И поняла, что все это не выход. Не деньги и вообще не жизнь. И выписала из деревни одинокую тетку матери – бабу Настю. Та собралась быстро – в деревне ей жилось нелегко. И через неделю Марина с Наташкой ее встречали на Ярославском вокзале – с заплечным мешком на спине. Баба Настя была человеком непростым и суровым, но с Наташкой управлялась лихо – вырастила трех своих племянников, опыт был. Девочка стала лучше есть и крепче спать. Баба Настя варила густые мясные щи, квасила капусту и пекла без устали большие и неровные пироги – тесто, тесто и совсем немного начинки. Сказывалась извечная бедняцкая привычка. Марина пришла в себя, отоспалась и быстро отъелась на теткиных пирогах. И пошла учиться на вечерний. А еще через год бросила свои телеграммы и швабры и пошла работать в универсам, в бухгалтерию.
Теперь они зажили почти роскошно. Старый, дребезжащий «Саратов» был набит всякой разной всячиной – копченой колбасой, бужениной, свежими огурцами, шоколадными бутылочками с ликером. Больше всех этому изобилию и дефициту радовалась баба Настя. Часами она перебирала все эти богатства, невиданные ею доселе, гладила разноцветные баночки и коробочки, резала на просвет колбасу и сыр и долго смаковала это все, громко причмокивая, покрякивая от удовольствия и зажмуривая глаза. Никогда прежде не жила она так вольготно и сытно. А к Наташке, не садовскому ребенку, продолжали липнуть вечные простуды и инфекции. За пару лет она успела переболеть всем и подряд – от легкомысленной ветрянки до угрожающей скарлатины, не пропустив ни свинку, ни корь, ни краснуху. Девочкой она была высокой, худой и, увы, очень сутулой. Вся в этого нелепого Славика, огорчалась Марина. А вот от матери ей достались густые и жесткие темные волосы и голубые прозрачные глаза, только у Наташки они были растерянные и близорукие. Очки ей надели в четыре года. Мать наезжала с инспекцией и вечно критиковала и дочь, и старую тетку, Марину она называла «типичной торгашкой». О том, что уезжала она от дочери с туго набитой кошелкой, старалась не думать. А тетке пеняла, что та готовит жирно, моет посуду грязно. И что она может дать ребенку? Внучкой она тоже была недовольна.
– Девочку надо развивать, – строго напоминала она перепуганной бабе Насте и уставшей и замученной Марине. На выбор она предлагала многочисленные кружки – лепка, рисование, музыка, танцы. С танцами у нескладной и неловкой Наташки не сложилось, а вот с рисованием они попали в яблочко. Наташка оказалась самой способной из всех. Теперь баба Настя, кряхтя и охая, три раза в неделю таскала Наташку в кружок. Наташка была счастлива – рисовать она могла часами. В шесть лет сама ставила натюрморт – вазочка, яблоко, лимон. Придумывала пейзажи – поле, узкая тропка по краю леса. Усаживала бабу Настю и пыталась писать портрет. Но с портретом было хуже – она была еще слишком мала.
А Марина тем временем влюбилась. Избранник ее был очень собою хорош – высок, крепок, седовлас и сероглаз. Звали его Георгий Иванович. И был он директором того самого универсама, где старательно трудилась Марина. Георгий Иванович был, естественно, женат и имел двоих вполне половозрелых детей. Сказал честно и сразу – не разведусь никогда, лучше время на меня не теряй. Она, естественно, не послушалась. Звала она его Герой, и человек, надо сказать, он был легкий, остроумный и щедрый. С одной стороны, торгаш, а с другой – меломан и театрал и вполне образованный человек. И эти две составляющие в нем прекрасно уживались и не пересекались. С ним Марина открыла для себя театр «Современник», Габриеля Гарсия Маркеса, музыку Вивальди, Коктебель и Каунас, но, самое главное, с ним она открыла себя. А точнее, свою женскую сущность и таинственную плоть – радости, неизвестные ей доселе. То, что Гера никогда не уйдет из семьи, она поняла и осознала сразу и навсегда, и это ее совсем не угнетало. Человеком она была рациональным и практичным и вполне понимала, что ей достается лучший Гера, известный только ей одной – до конца, до донышка. А это куда больше, чем норковая шуба и белая спальня «Людовик». В общем, статус любовницы ее не беспокоил. Ее интересовала любовь. А любовь у нее была. Когда наступили времена больших и малых перемен, ее умный возлюбленный выкупил свой замшелый универсам и превратил его в один из первых в городе супермаркетов. Они вместе полетели за границу, часами ходили по торговым залам крупных магазинов, изучали все до мельчайших подробностей – ассортимент, емкость холодильных камер, последовательность расположения товаров, форму продавцов, отдел кулинарии и полуфабрикатов. Все начинали с нуля и вместе. Головой, конечно, был Гера, Марина на подхвате, но в нужный момент она что-то напоминала ему, открывала свои записи – словом, со своей природной смекалкой и женской интуицией была ему необходима и незаменима. К концу девяностых она стала его полноправным партнером и соучредителем, и у них уже был не один, а пять супермаркетов. Дальше – больше. Теперь они и вовсе не бедные люди, но стало как-то не очень до любви, слишком много хлопот и проблем, слишком изменились и они сами, видимо, не вполне замечая этого, жизнь покрутила, побила, похлестала, сделав из них людей новой формации. Людей, взращенных нашей суровой действительностью, без сантиментов и почти без слабостей. Иначе и не выстоять. Так жизнь диктовала свои условия. Слабостью оставалась дочка Наташка.
После школы Наташка не расцвела и не похорошела – наоборот, укрупнилась, еще больше ссутулилась. Носила тяжелые очки с большими диоптриями и ни разу в жизни не сделала маникюр. В общем, классический «синий чулок» и бесспорная кандидатка в старые девы. Поступила в «Строгановку», но и там никаких компаний, никаких романов – в общем, никаких атрибутов студенческой жизни. Так и моталась со своим этюдником – музей, натура, дом. Марина не на шутку волновалась. И пыталась что-то изменить.
– Хочешь лучший салон, массажистку и косметичку на дом? Абонемент в лучший фитнес-центр?
Наташка от всего отказывалась – просто беда. Рестораны не выносила, магазины терпеть не могла все, кроме книжных. Там «зависала» на несколько часов. А однажды и вовсе пресекла Маринины попытки – не старайся, ничего не выйдет. Буду жить, как хочу, и не мешай мне быть счастливой.
Марина уже почти со всем смирилась, но помог случай, и замуж дочку она все же выдала. Все получилось совсем неожиданно. В Москву приехала из Чебоксар ее институтская подруга Любочка Светлова. Приехала не одна, а с сыном Мишей, скромным и стеснительным очкариком. Марина сразу смекнула и оставила Любочку у себя: «Что ты, какая гостиница, мы же подруги!» Хотя чужих людей в доме терпела с трудом. Но тут все грамотно рассчитала и в который раз не ошиблась. Наташка с Мишей спелись в одночасье. Она таскала Мишу по музеям, а Марина покупала билеты в лучшие театры. В общем, они оказались родственные души. Миша с Любочкой уехали, и дети начали переписываться.
– Позвони! – удивлялась Марина.
А Наташка продолжала строчить километровые послания. На зимние каникулы Миша приехал, и они решили пожениться. Любочка радовалась – так удачно пристроить сына! В Москву, в богатый дом да еще и не к чужим людям. Но больше Любочки была счастлива Марина, не чаявшая уже вообще когда-либо пристроить свою странную девочку. От пышной свадьбы молодые отказались – Марина и Любочка нехотя смирились. Просто посидели дома – тихо, по-семейному. А на следующий день улетели во Францию – Маринин свадебный подарок. Дети вернулись, и Марина вручила им ключи от новой отремонтированной и обставленной квартиры. Теперь Марина осталась одна. Баба Настя уже жила в деревне, в новом, построенном Мариной же, большом рубленом доме с удобствами. Правда, теперь наладилась наезжать новая сватья, Любочка, тайно мечтавшая окончательно перебраться в столицу. И застревала надолго у молодых. Но Марина твердой рукой эти попытки быстро пресекла. Сиди в своих Чебоксарах и не рыпайся. Радуйся за сына.
Марина заезжала к детям раз в неделю, конечно, с полными сумками. Принюхивалась – живут вроде мирно, тихо как мыши. Читают, смотрят телевизор, ходят в театры. А однажды Наташка ей сказала: «Хватит, мам, не помогай нам больше, теперь мы сами. Мишу это унижает». Так, приехали! Унизили их, стало быть! Ничего про эту жизнь не знают, а собрались сами. Смешно, ей-богу. Но выход придумала. Тиснула зятя Мишу в одну солидную инвестиционную компанию. Помог Герин приятель, который был ему сильно обязан. Исполнительный и скромный Миша быстро пошел в гору. И очень скоро пообтесался, от бывшего провинциала на осталось и следа – хорошая стрижка, стильные очки, приличные костюмы, недешевая обувь. Иномарка – правда, подаренная Мариной к пятилетию их с Наташкой свадьбы. А дочка оставалась все такой же – ни грамма косметики, короткие ногти без маникюра, хвост на затылке, джинсы, ветровки, кроссовки. Марина начала волноваться, но, как тогда оказалось, напрасно: жили они по-прежнему тихо и мирно и к тому же родили ребенка, любимейшую внучку Машеньку. И Машенька стала главной Марининой радостью и забавой. С двух лет Машенька обожала наряжаться, в магазинах безошибочно тыкала пухлым пальчиком в самые лучшие туфельки, платьица и пальтишки. Тут уж Марина отрывалась по полной. Наташка, конечно же, этого всего не одобряла. С матерью спорила, возмущалась бездуховностью маленькой Машки, обращавшей внимание в музеях только на резные золоченые рамы и атрибуты прежней роскошной жизни – старинную мебель, изысканные туалеты и изящные украшения. Возмущалась, но ничего поделать ни с матерью, ни с Машкой не могла. Сама Наташка преподавала теперь в частной гимназии живопись и историю искусств. Слава Богу – нашла себя и работу свою обожала. И вот сейчас вся эта такая, казалось бы, налаженная и благополучная жизнь была под реальной угрозой. Господи, все это, так тщательно спланированное и выстроенное благополучие двух самых родных и любимых Мариной людей, дочки и внучки, просто грозило рухнуть в одночасье. Конечно, что говорить, в последнее время Марину часто посещали поганые мысли и заползал в душу холодной змеей липкий страх – на Мишу так легко могут найтись желающие или он вдруг посмотрит на жену другими глазами. Ведь сколько там, на работе, молодых длинноногих в свободном полете девиц! Но мысли эти черные она от себя отгоняла – да нет, все нормально. И потом, он так любит Машку! Хотя кому и когда дети были помехой…
Итак, Марина решила действовать. Для начала она вызвала к себе на разговор (очень личный – предупредила Марина) начальника службы безопасности своих магазинов. Это был человек из органов, полковник-отставник по имени Николай Фадеевич. Человек он был надежный и проверенный жизнью. Мишин телефон был поставлен на прослушку. А через два дня Фадеич – так по-свойски называла его Марина – представил ей подробный отчет по блондинке. Зовут Катей, Мишина землячка из Чебоксар, вдова тридцати двух лет с трехлетним сыном Артемом. В Москве владеет собственным бизнесом – маленьким косметическим салоном в районе Октябрьского поля. Бизнес идет так себе, ни шатко ни валко, но на кусок хлеба с маслом хватает. И на внедорожник «Тойота-Rav-4», и на няню для ребенка, впрочем, тоже. Дорогой зять встречается с ней примерно раз в неделю. Иногда вечером или в обед в кафе, иногда заезжает за ней на работу и на пару часов поднимается к ней в квартиру – съемную, кстати. С собой обязательно прихватывает пирожные и игрушку для блондинкиного ребенка. Распечатки телефонных разговоров с блондинкой были, кстати, довольно безобидны – как дела, как здоровье, как ребенок. Никаких там «любимая», «малыш», «хочу» или «люблю». Но это Марина отнесла за счет Мишиной сдержанности. Теперь она его почти ненавидела. Почему «почти»? Ну, потому что, будучи человеком здравым и реальным, по-человечески понять его могла – не сорваться хотя бы раз и не сходить «налево» от ее буки Наташки было бы в общем-то странно. А ненавидела за все остальное – тут же припомнив ему и про «из грязи в князи», и про занюханные Чебоксары, и про теплое местечко на работе, и про квартиру, и про машину. В общем, гад, сволочь и предатель. Ответишь за все.
К дочери теперь заезжала почти ежедневно, хотя на работе уставала как собака. Тревожно и внимательно разглядывала ее – не замечает ли чего, не подозревает? Но Наташка была, как всегда, ровная, спокойная, сдержанная. Что-то пеняла строгим голосом капризной Машке, готовила ужин, гладила мужу сорочки. В общем, похоже, ни слухом ни духом, слава Богу. «Бедная моя девочка! – страдала Марина. Как она переживет все это, если вдруг… Страшно подумать!»
– А где твой муж? – интересовалась она.
– Работы много, задерживается, – отвечала дочь.
«Знаем мы эту работу», – кипела про себя Марина. Иногда сталкивалась с Мишей – наблюдала. Да нет, с виду вроде все нормально – чмокает жену, обнимается с дочкой, ужинает с удовольствием. Значит там не ел. С одной стороны, хорошо, а с другой – чем занимался, если было не до еды? Видеть его было невыносимо – Марина выскакивала за дверь и долго сидела в машине – тряслись руки, и бил озноб. А ночью она не спала – продумывала стратегию и тактику. Сначала надо загнать его в угол – чтоб в себя пришел и очухался. Это значило оставить его без работы и соответственно без хорошего заработка. А то оперился и расслабился, забыл, гад, кому и сколько должен.
Попросила о встрече Мишиного шефа. Решила играть открыто, правда, нервничала будь здоров. Рассказала ему, звали его Юрий Андреевич, про зарвавшегося, наглого блядуна-зятя, которому она, Марина, сделала, собственно, всю жизнь. А он, сволочь, не смог оценить и живет в свое удовольствие, не думая ни минуты ни о жене, ни о дочке.
– Что же ты от меня хочешь? – удивился Юрий Андреевич. Искренне так удивился. – Парткомов сейчас, если ты помнишь, нет, – напомнил он Марине.
– Я хочу, чтобы ты его съел. И выгнал с позором.
– На основании чего? – еще больше удивился он. – Он прекрасный работник, вполне приличный человек, с какой стати, Марина? И потом, хорошего топ-менеджера сейчас днем с огнем не найти, ты же знаешь, сама в бизнесе. И извини, но это твои внутрисемейные разборки, при чем тут я? У меня, знаешь, и так башка кипит. И вообще-то это не мой уровень – такими делами заниматься. Да и чего ты этим добьешься? Ну уволю я его, он на другую работу устроится – парень он толковый.
Марина молча курила, глядя в пол и покачиваясь в мягком вращающемся кресле. А потом подняла глаза и, глядя на Мишиного шефа в упор, медленно и тихо произнесла:
– Я помню, Юра, что Георгий оказал тебе однажды услугу. Серьезную, как я понимаю. И ты, наверное, про это не забыл? – Она вздохнула и поломала в пепельнице окурок. – Так вот, не нужно вдаваться в подробности – это мое личное дело. А твое – исполнить мою просьбу. Не так много, верно? А дальше я сама разберусь. Не маленькая. – Сказав все это, она широко улыбнулась и откинулась в кресле. – Ну придумай, Юрочка! – заговорила она умильным голосом. – Ну подлог какой-то в документах, ошибку маленькую, но вполне достаточную для твоего большого разочарования в Михаиле Светлове. А хорошего менеджера я тебе доставлю в лучшем виде. От себя оторву, а к тебе приведу. Ничего не потеряешь. Ты мне веришь? – лучезарно улыбалась Марина.
Юрий Андреевич долго и молча разглядывал золотую паркеровскую ручку, а потом тяжело вздохнул и сказал:
– Ладно, Мариш, что-нибудь придумаю. – И добавил: – Поклон Георгию!
– Обя-за-тель-но! – по складам ответила Марина. А у двери обернулась: – Спасибо, Юрочка. Я твой должник.
Юрий Андреевич молча махнул рукой.
Мишу уволили через десять дней. По статье «халатность». Причина – из его кабинета исчезли ну очень важные документы. Шеф объяснился с ним коротко:
– Теперь мне будет сложно вам доверять.
Пункт номер один был выполнен. Пусть попробует устроиться в приличную фирму со статьей о халатности! И кому он нужен без денег и положения! Следующим пунктом Марина взялась за блондинку. Сначала так, по мелочи – налоговая, санэпидстанция, пожарный надзор. Трясли ее как грушу пару месяцев. Побледнела, похудела – тут не до любви. А потом и вовсе подкатили серьезные ребята и внятно объяснили, что заинтересованы в данном помещении, ну просто позарез нужны им эти 60 квадратных метров у метро «Октябрьское поле». Так что бизнес девочке придется продать. Скажи спасибо, что сроку даем месяц. А будешь капризничать – уйдешь сегодня в чем была. С нами не спорят и не ссорятся. С нами вежливо соглашаются. Через месяц она подписала все документы. А еще через неделю снялась из квартиры и вместе с ребенком укатила к родителям в Чебоксары. Зализывать раны – перепуганная до смерти. Теперь при слове «бизнес» и «Москва» ее начинало трясти.
А вот зять Миша пребывал в глубокой депрессии. Ну никак он не мог понять, как из его личного сейфа исчезли те самые злополучные документы. Две недели он сидел молча, уставившись в одну точку, а потом сильно запил.
Ничего, думала Марина. Все по сценарию. Блондинка – в Чебоксарах, прибитая и раздавленная, будет знать, как чужих мужей уводить. Про себя она в этот момент не думала. Да и кто же себя возьмется судить? Мы – хорошие, мы – другие. Мы не со зла, просто так жизнь повернула. Зятьку тоже на пользу, пусть очухается без копейки в кармане. Это даже полезно, что его так тряхануло. А то память короткая, забыл, кому всем обязан. Ничего, оклемается и на работу пристроится. Зато будет знать свое место. Наташка, правда, ходила бледная, замученная, с воспаленными глазами, рассеянная больше обычного. «Переживает за этого гада! – думала Марина. – Не беда, все устаканится. И заживут они, как прежде, спокойно и счастливо. Тьфу-тьфу, не сглазить».
Стоял необычайно теплый октябрь, поехали на дачу – на последние шашлыки. Марина раскладывала на тарелке зелень и следила за Машкой – та возилась в песочнице. Миша жарил на мангале мясо. Наташка с книжкой лежала в гамаке. Вдруг она вскочила и бросилась к кустам у забора. Марина слетела по ступенькам за ней. Наташку выворачивало наизнанку.
– Залетела! – ужаснулась Марина.
Потом, когда дочь умылась, она уложила ее в комнате на тахту, прикрыла теплым пледом и принесла горячего чаю с лимоном.
«Вот и славно! – подумала Марина. – Теперь он точно никуда не денется, все-таки двое детей. Черт с ним, надо помочь этому дураку с работой, а то совсем присосется к бутылке и безделью».
– Будешь рожать? – ласково спросила у дочери Марина.
Наташка всхлипнула и кивнула.
– Вот и славно, вот и хорошо, – приговаривала Марина, гладя бледную дочь по голове.
– Нет, мам, нехорошо, – помолчав, тихо сказала Наташка.
– Да ладно, все утрясется, и Миша устроится, и будет в доме лад и покой, – убаюкивала дочь Марина.
– Нет, мам, не утрясется. Потому, что все не так, мам. Все гораздо хуже. Ты даже себе представить не можешь, как все ужасно. – Наташка отвернулась к стене и горько заплакала.
Господи – у Марины остановилось сердце.
– Что ты, доченька, что же тут страшного? Ну, у всех бывает – поссорились-помирились, проблемы, трудности, со всем справимся. Мне-то ты веришь? – горячо шептала Марина.
– Ох, мама, что я наделала! – Наташка села на кровати и схватила Маринину руку.
– Все не так, мам! Я влюбилась! Понимаешь? И от Миши я ухожу. И ребенок этот не от него, а от другого человека. Я дрянь, да, мам! Ох, какая же я дрянь!
– Ты что? С ума сошла, какого человека? – не поняла ошарашенная Марина. – А Миша знает? Что ты такое несешь, Наташка? – Марина не могла прийти в себя.
– Да, мам, я сошла с ума. По-другому и не скажешь. Я полюбила, мам, первый раз полюбила, понимаешь? А мне уже тридцать лет. И это так в первый раз, понимаешь? С Мишей у нас, ну, ты же знаешь, мы были как брат с сестрой, как родственники, что ли. А здесь все по-другому, я и не знала, что такое бывает. Может, я и гадина последняя, но поделать с собой, мам, я ничего не могу. – Наташка замолчала, и Марина почувствовала, какие у дочери ледяные руки.
– Ну и кто он? – спросила Марина.
– Его зовут Аркадий, он преподает историю в нашей гимназии. Мам, ну прости меня, пожалуйста!
– За что простить, Господи, о чем ты, Наташа? – сказала Марина.
– Только мне Мишу очень жаль, мам, у него и так сейчас все хуже некуда. Такой жуткий период. А тут еще я. Но врать ему я больше не могла, понимаешь? В общем, я ему все рассказала. И про ребенка тоже. Вот такая я сволочь, мам.
«Боже мой! Моя тихушница Наташка! И такое выкинуть! Завела роман, залетела, а я все пропустила, ничего не заметила. Вот это поворот, Господи. А сейчас она, бедная, мучается из-за этого ничтожества, слезы льет, с ума сходит. Господи, а нервничать ей сейчас никак нельзя».
– За Мишу переживаешь? – усмехнулась Марина. – А вот это зря. Твой дорогой Миша даром время не терял. Крутил за твоей спиной роман с блондинкой по имени Катя. А ты – ни сном ни духом. Так что совесть тебя пусть не мучает, дорогая! – оживилась Марина.
– С какой Катей? – спокойно уточнила Наташка. – С Катей Виленской, что ли?
– С ней, с ней, видно, еще с чебоксарских времен этот романчик тянулся. А ты откуда про нее знаешь? – спросила обалдевшая Марина.
– Господь с тобой, мам, какой там роман, что ты. Она была женой его школьного друга, Вадима. Он погиб три года назад, на машине разбился. Ну помнишь, Миша еще на похороны ездил? Вот он Катюхе и помогал, ну, поддерживал, как мог. Она тогда еле выкарабкалась, не дай Бог. Ребенок еще грудной был. Миша к ней заезжал, я мальчишке игрушки передавала. В общем, подбадривали ее, что ли. Жизнь у нее была очень непростая – бизнес еле шел, ребенок болел, в общем, билась она, как могла, а тут еще на нее серьезно наехали, она за мальчишку испугалась и уехала к родителям. Какой роман, о чем ты, мам? Ладно, мам, ты иди, я хочу побыть одна, извини.
Шашлыки Марина не ела, а выпила залпом стакан водки и ушла к себе. Не выходила из комнаты почти сутки. А потом поднялась, встала под душ, накрасилась и приказала себе – ничего не вспоминать. Ну, ошибочка вышла. Осечка. С кем не бывает. Что искать себе оправдание? В конце концов, она билась за своего ребенка, а здесь, как известно, все способы хороши. Цель оправдывает средства. Ну, погорячилась, не разобралась – у нее тоже, извините, эмоции. Тоже живой человек. Так, надо все это просто из головы выкинуть и забыть, забыть, забыть. Теперь надо решать другие проблемы. Теперь новые заботы – что еще за птица этот Аркадий? Господи, там зарплата наверняка три рубля и, может, еще и семья есть, дети. С этим всем надо разобраться, разобраться. Ведь он, между прочим, отец ее будущего внука. Про Мишу она больше не думала – интересовать он ее перестал. Жизнь в корне менялась, и надо было быстро ориентироваться в новых обстоятельствах. Если этот новый кандидат женат, значит, надо с этим что-то делать. И устраивать новую Наташкину жизнь. В общем, переживать и каяться времени нет, да и какой со всего этого навар? Жизнь – борьба. И на это нужно очень много сил.
Наташка развелась с Мишей через два месяца – мирно, без скандалов. И Миша укатил на родину, в Чебоксары. Беременность она переносила тяжело и почти все время лежала. Ее возлюбленный, Аркадий, навещал ее два раза в неделю – он, конечно же, оказался женат и, судя по всему, хоть мучился, страдал и рефлексировал, но не очень торопился с разводом.
Видя его нерешительность, Марина собралась заявиться к его жене и расставить наконец все точки над i. Конечно, кошки на душе скребли, да и вообще как-то грубо и неэстетично, но было крайне мало времени на тонкие интриги – аврал на работе, растущий Наташкин живот, ее страдающие глаза.
Глубокий вдох – и Марина нажала на кнопку звонка. Дверь открыла очень маленькая женщина – и ростом, и в кости, в блеклом сатиновом халате. Хвост на затылке, бледное лицо, сухие губы.
– Разрешите? – Марина вступила в крохотную прихожую, женщина растерянно кивнула, Марина прошла на кухню.
На кухне стояла старая мебель из семидесятых годов прошлого века – она вспомнила ее название – «Яблоневый цвет». На плите в сковородке лежали макароны. Марина присела на край табуретки. Женщина смотрела на нее испуганно и теребила тонкий серебряный крестик на шее. И Марина начала свой спич.
– Знаете, – как бы доброжелательно усмехнулась она, – жены обычно узнают все последними. Мне очень жаль, но все зашло так далеко, и, мне кажется, пора бы и вам быть в курсе.
Она сделала паузу и посмотрела собеседнице в глаза. Та еще ничего не понимала, но уже чуяла беду – глаза ее были полны страха.
– Ну, не буду тянуть. У вашего мужа серьезные отношения с другой женщиной. И даже более того – эта женщина ждет от него ребенка. Отпустите его! На черта он вам нужен при таком раскладе?
Женщина прислонилась к дверному косяку и побледнела. Она рванула тоненький шнурок на котором висел крестик. И было слышно ее свистящее и шумное дыхание.
– Ну вот, – испугалась Марина. – Ну что вы так разнервничались? Обычная ситуация, рядовая. Это просто надо пережить. Может, вам воды или капель? – осведомилась она.
– Уйдите, – чуть слышно просипела женщина. – Умоляю, скорее уйдите.
Марина дернула плечом и быстрым шагом вышла за дверь.
Ничего! Переживет! От этого еще никто не умер. Жалко бабу, конечно, но дочь жалко больше. Вечером эта чахлая жена устроит скандал – и он будет свободен. Соберет вещички и окажется у Наташки. Что и требовалось доказать.
Аркадий и вправду оказался свободен на следующий день. Его жена, страдающая с детства бронхиальной астмой, умерла тем же днем – асфиксия и сердечная недостаточность вследствие сильнейшего стресса. Молодой женщине было 34 года.
Наташка приехала к Марине вечером следующего дня.
Не снимая куртки и сапог, не пройдя в комнату, она кричала шепотом, с ненавистью и ужасом глядя на мать:
– Что ты наделала, что ты делаешь с людьми? Ты въезжаешь в чужие жизни и души на своем внедорожнике с шипованной резиной! Теперь я понимаю, что это ты устроила ад Кате и расправилась с Мишей. Только сейчас это дошло до меня, после того, как я узнала, что ты приходила к жене Аркадия.
– Господи! – закричала Марина. – Да все в этой жизни я делаю для тебя. Для тебя и для Машки. Для тебя! Чтобы ты не собирала чужие плевки в подъездах, как собирала я. Чтобы ты не знала, что такое суп из плавленого сырка и батон хлеба на четыре дня. Миша твой ничтожество – сложился пополам сразу. Таких жизнь быстро проверяет на излом. Там, в своих сраных Чебоксарах, небось со вдовицей, не скучает. Будь спокойна – утешился. А этот твой доходяга бородатый в портках двадцатилетней давности тоже устроился – мотается из дома в дом, всех жалеет. Знаю я таких чувствительных. Всем жизнь испортит. И еще будет себя в грудь бить, что он приличный человек. Я сама всю жизнь одна, на заднем дворе. И тебе такого не пожелаю.
Обессиленная, Марина опустилась в кресло и закрыла глаза.
– Ты монстр, мама, ты чудовище. И самое страшное, что ты уверена в правоте своих действий и в своей непогрешимости. У меня нет ни сил, ни желания искать тебе оправдание. Ты смертоносное оружие, мама, ракета земля – воздух. И меня больше нет в твоей жизни.
Жизнь не потеряла смысл, она просто закончилась.
Цепь, как известно, состоит из звеньев. Зло порождает зло. Несчастье – несчастья.
Через трое суток Маринину машину выловили из Москвы-реки. Ночью, пробив чугунный, крашенный черной краской парапет, она ушла на грязное дно Москвы-реки – вместе с Мариной. Случайность? В ее жизни так мало было случайностей. Но как было на самом деле, уже не узнает никто.
Наташка позвонила Любочке, и на похороны они приехала вместе с Мишей. Особняком стоял поникший, моментально потерявший весь свой лоск Гера, Наташку держал под локоть Аркадий – светило ненадежное мартовское солнце, и было очень скользко.
Хоронили Марину в Прощеное воскресенье. Опять случайность? Просто так совпало. Хотя, наверное, прощение ей было нужнее всего. Хотя бы после жизни.
То, что имеет значение
В поезд взяли с собой дежурный набор советского пассажира: жареную курицу, десяток яиц, сваренных вкрутую, помидоры и огурцы, предварительно вымытые дома, кулек карамелек и плюшки с корицей, испеченные заботливой маминой рукой. Настроение было – лучше не бывает. Еще бы: они ехали на море. На целых две недели, даже нет, почти на три – полных восемнадцать таких многообещающих дней. Итак, впереди были море, мелкий белый песок, южные фрукты, молодое вино, а главное – любовь и свобода. Ведь они были тогда еще так молоды. И счастливы. Бесспорно, счастливы. Позади оставалась неуютная комната в старой коммуналке на Соколе, доставшаяся в наследство от бабушки, защита институтских дипломов, нудная и однообразная до тошноты работа по распределению и дождливое и холодное московское лето. Поженились они около года назад, естественно, по любви и сильному взаимному притяжению молодых и нетерпеливых тел. Они оба были из однородной среды – среды технарей, итээровцев. Из приличных и интеллигентных семей среднего достатка. Впрочем, достаток тогда был в принципе усреднен у людей их круга. Но скудноватый быт вряд ли кого-то расстраивал. Жили вполне весело и интересно. Бегали по театрам, не дай Бог пропустить премьеру, выстаивали часами у Пушкинского, всеми способами прорывались в клубы, где пели барды и читали стихи известные и неизвестные поэты. Жили куда как скромно – в незамысловатом гардеробе одиноко болтались две-три кофточки и одно выходное платье и костюм, а внизу в коробке стояли единственные выходные туфли. Пусть до зарплаты обязательно не хватало пятерки и покупались на ужин полтавские котлеты, щедро посыпанные хлебной крошкой, но все же жили, а не выживали. И несмотря на трудности и убогость быта, оставались силы радоваться жизни. Почувствуйте разницу!
Впереди была поездка на поезде длиною в сутки, которую они воспринимали, конечно же, как путешествие. Сложилось удачно и с попутчиками. Молодая пара ровесников, тоже молодоженов. Ужинали уже вместе, накрыв один общий стол, где оказались две одинаковые курицы и мамины пирожки с капустой. У новых знакомых была припасена бутылка белого сухого вина. Было шумно, весело и сладко от предвкушения грядущего. По приезде решили снимать жилище вместе – так веселее. К ночи почувствовали себя старыми знакомыми – Олюня, Лерочка, Игорек, Вадюша. Полночи бегали курить в тамбур, заснули под утро, а разбудил восхитительный запах свежего кофе. Кофе заварила новая знакомая – Лера, засыпав в узкий металлический термос мелко намолотую дома арабику. Два раза пили кофе с пирожками, глазели в окно, выходили на полустанках покупать уже южные дары природы – вишню, абрикосы, горячую картошку, пересыпанную укропом, малосольные огурцы и теплое светлое пиво в бутылках. В купе было невыносимо душно – окно, конечно же, не открывалось, и они занавесили мутное раскаленное стекло мокрой простыней. Знали друг о друге уже практически все – молодые женщины непрерывно болтали, а их более сдержанные мужья занялись своими делами. Лерочкин Игорь уснул, а Вадим читал толстенный старый и любимый английский детектив. К вечеру прибыли на место. На перроне на них накинулась стая бойких теток, наперебой расхваливающих свое жилье, и они, немного растерявшись, отправились за одной из них, клятвенно уверявшей, что садик у нее зеленый и тенистый, улица тихая, до моря рукой подать, да и от вокзала всего ерунда – какие-то пятнадцать минут. Шли с остановками около часа – какие уж там пятнадцать минут. Мужчины тащили тяжелые чемоданы и чертыхались, а их молодые жены укоряли хитрую бабульку. А дом, увитый плющом и виноградом, и вправду оказался хорош – на тихой мощеной улочке в пирамидальных тополях по обе стороны, сильно разросшийся буйный южный сад с абрикосовыми деревьями, в котором стояли крепкий, потемневший от времени деревянный стол и врытые в землю скамейки с высокими спинками. Сняли две комнаты и одну общую кухню.
Бросив вещи и наспех переодевшись в купальники и плавки, поспешили на море. Раннее южное апельсиновое солнце уже почти истаяло на горизонте, но море было еще совсем теплым. По уже остывающему песку все бросились в воду. Ольга замерла, застыла, ощутив какую-то непонятную и тревожную грусть. Она села на сыроватый песок и пропустила чуть влажную пригоршню через пальцы. Море было прекрасно – ровное, гладкое, уверенное, бархатно-синее, – оно успокаивало и будоражило одновременно. Ольга сбросила с себя это странное наваждение и побежала к воде. Окунуться, скорее, скорее, какое блаженство, вот он, рай на земле. Как упоительна жизнь! Она закрыла глаза и медленно поплыла вперед. Вечером нажарили картошки, порезали в глубокую миску розовые неровные помидоры и красный, сладкий лук – принесла хозяйка. Выпили вина, и потянулся долгий разговор с редкими всплесками смеха. Почему-то она долго не могла уснуть, а муж спал рядом крепко, посапывая и покрякивая, ей стало смешно, и она с трудом перевернула его на бок. Он не проснулся. Рано утром разбудила Лера, тоненько пропев под их дверью: «Вставай, страна огромная!» Ольга нехотя поднялась. Умывалась во дворе у рукомойника. Дисциплинированная Лера уже заварила чай. Хозяйка баба Вера принесла десяток свежих, еще теплых, из-под курицы, яиц и опять свои гигантские помидоры – каждый с голову младенца. Игорь сказал, что эти помидоры резать нельзя, а нужно крупно ломать, и, действительно, на изломе они засеребрились крупитчатой, сочной, почти мясной, мякотью.
На пляже оказалось народу тьма, не протолкнешься. С трудом нашли место, чтобы расстелить четыре полотенца. Море уже не было таким спокойным – на берег накатывали мутноватые, с грязно-белыми гребешками волны. У берега в воде копошились мамаши с детьми.
– Поплыли? – предложила Ольга.
Лера кувыркалась у берега – плавала она плохо. Игорь с Вадимом бросились брассом – наперегонки. Ольга отстала от них и плыла медленно и спокойно, переворачиваясь на спину и подставляя бледное лицо солнцу.
– Сгоришь! – крикнул ей муж.
Она махнула рукой. К полудню Лера разволновалась и уговаривала всех уйти с пляжа. Солнце стало и вправду беспощадным. К часу, совсем разморенные, все нехотя поднялись. Отправились на базар, купили мелкую розовую картошку, вяленую рыбу и маленькие круглые ароматные тугие дыни. Высохший до черноты от солнца и старости дедок продал им трехлитровую банку молодого рубинового домашнего вина. Обедали в саду, восторженно нахваливая все-все, ибо это все казалось им совершенно чудесным и необыкновенным. Молодое вино ударило в голову и почти обезножило их, и они еле добрели до кроватей и упали в глубокий, безмятежный молодой сон. Вечером, отоспавшись, опять пошли к морю. Солнце зашло, и в воде было довольно прохладно, а выходить и вовсе зябко. Они растерлись полотенцами, переоделись и пошли в город. В летнем кинотеатрике – маленький экран, шаткие скамейки – обнаружился любимый всеми фильм – старая добрая французская комедия с Луи де Фюнесом. Вечером долго пили чай с хозяйкиным вишневым вареньем и опять бесконечно трепались. В общем, жизнь прекрасна! И потекли размеренные, похожие друг на друга, как близнецы, дни. Пляжная жизнь по утрам, киношка или незамысловатая карточная игра по вечерам, холодное вино, крепкий сон в душной комнате и, конечно, любовь двух молодых и крепких тел. Дружно хихикали под простыней, слушая понятные шумы и шорохи у соседей. К концу второй недели Ольга начала раздражаться на аккуратистку Леру, называя ее пионервожатой. Сама бы она с удовольствием не мыла посуду сразу после обеда, а отложила бы это занятие до прохладного вечера, ни за что бы не пошла в краеведческий музей, навязанный неутомимой Лерой, да и вообще и утром спала бы подольше, если бы не побудка. В общем, Ольга начала капризничать. Шепотом Вадим ее уговаривал не создавать конфликта, не ломать так чудесно сложившуюся компанию, идти на небольшие компромиссы, чтобы не рушить их покой и избегать неловких ситуаций. Она понимала, конечно, что он прав, но вредная женская сущность брала верх. А потом случилась и вовсе странная история, поступок, который она не могла объяснить даже себе всю дальнейшую ее жизнь, как ни пыталась, ни мучилась, загоняя себя в угол и виной, и раскаянием. Пока однажды, спустя довольно много лет, просто не приказала себе крепко-накрепко и навсегда об этом забыть, категорически забыть, не вспоминать и не думать. В общем, что было, то было, как говорится, закат заалел. У кого же в жизни не было пусть не позора, а хотя бы стыда за содеянное?
Тогда, в тот отпуск, одновременно расклеились и вышли из строя и случайная подружка Лера, и собственный муж Вадим. У Леры случился обычный женский ежемесячный недуг, а Вадим мучился животом – расплата за чрезмерную страсть к недозрелым абрикосам. В тот день Ольга и Игорь отправились на море одни. По дороге он предложил Ольге поехать на косу, дикий пляж, всего-то полчаса автобусом. Трястись в старом, раздолбанном автобусе не хотелось, но она соблазнилась лиманом – лечебными естественными грязями, после которых, по рассказам, кожа становилась волшебной, шелковой мягкости и свежести. Минут сорок ехали они в душном автобусе по пыльной пустой дороге, мимо полей со степным ковылем и сиреневатыми кустами кемерника, вдоль высохших камышей по краям остро пахнувших сероводородом черных лиманов, мимо редких рыбачьих хижин. Начиналась узкая полоса дикого пляжа. Они сошли на конечной остановке с соответствующим названием – Дальняя коса. И увидели абсолютно пустынный берег с мелким белоснежным, почти седым, песком, небольшими островками осоки и низко стелющимися кустиками колючек. Справа было бесконечное жемчужное море, а слева узкая полоса лимана, сверкающего на солнце жирной, черной, масленой грязью. Сначала они бросились в море, смывая с себя пот и усталость, а уж после перешли дорогу и, смеясь, стали обмазывать друг друга крупными пригоршнями горячей лиманной грязи. На жарком полуденном солнце грязь быстро высыхала и серела и больно стягивала кожу. Тогда они побежали опять к воде, пытаясь оттереть застывшую плотную корку. Почему-то было страшно весело и смешно. Вдруг Игорь прижал ее к себе крепко-крепко. Ольга растерялась, и у нее перехватило дыхание. Потом он взял ее лицо в свои ладони, внимательно посмотрел ей в глаза и поцеловал в губы – долгим и очень умелым поцелуем. Они вышли из воды и, не говоря друг другу ни слова, взявшись за руки, побежали по раскаленному песку на берег, ровно до ближайшего чахлого, но все-таки дающего какую-то иллюзию защищенности кустарника. Все случившееся было быстро, остро и горячо. Игорь отпрянул от нее, поднялся, стряхнул песок и закурил, безмятежно глядя в ясное и яркое небо.
– Глупость какая-то, – пробормотала Ольга, поднимаясь с песка.
– Ни о чем не жалей, – дружески посоветовал Игорь.
Ольга не ответила и пошла вдоль берега. Это, наверное, и называется страсть, а вообще-то, конечно, полное безумие. Точно то, что делать этого явно не следовало. На душе гадость какая-то. Раскаяние, стыд перед мужем и новоявленной подружкой? Да нет, так, сожаление, невнятное беспокойство и ощущение бездарности происшедшего. Какие-то дурацкие терзания, так несвойственные ей. Она довольно долго шла по береговой полосе, потом остановилась, оглянулась и повернула назад. Видеть Игоря ей не хотелось, но было довольно глупо возвращаться домой поодиночке. Ольга вернулась и увидела, что Игорь спит, накрыв голову майкой. Она дотронулась до его плеча и, усмехнувшись, сказала:
– Поехали, время.
Он нехотя поднялся и стал натягивать шорты. До самого дома они не проронили ни слова. В автобусе Ольга села одна. У самого дома коротко и жестко она сказала:
– Забыли, ничего не было.
Он равнодушно кивнул и пожал плечом. Хлопотливая Лера уже успела поволноваться – охала, кудахтала и накрывала на стол. За обедом Игорь был весел, аппетит у него был отменный, и он обстоятельно и подробно рассказывал про поездку на Дальнюю косу, дикий пляж и лиман. Ольга молчала и вяло что-то клевала. Вадим спал и к обеду не вышел. Ольга заварила ему крепкий чай и зашла в комнату.
– Как провели день? – поинтересовался он. – Скучно вдвоем не было?
– Не скучали, – бросила Ольга и легла на кровать. Она отвернулась, а Вадим подошел и накрыл ее простыней. «Господи, какая же я тварь!» – пронеслось в голове, и гулко застучало в виске. Лера и Игорь уезжали через два дня, Ольга и Вадим – тремя днями позже. Оставшиеся два дня прошли как обычно, только явно сильнее проступало общее раздражение – все уже устали друг от друга. Вадим пошел провожать их на вокзал – ящик груш, дыни, помидоры. Ольга простилась с приятелями дома. Обменялись телефонами, клятвенно заверив друг друга в вечной дружбе и желании плотно, семьями, общаться в Москве. Как гора с плеч, Боже, какое счастье, они остались одни! Вадим наивно удивился.
– А что, они тебя так утомили? Вроде весело было.
– Веселее не бывает, – буркнула Ольга и в ответ на недоумение мужа раздраженно сказала: – Да надоел этот колхоз с построением, эта активистка с ее обедами, тебе-то что, все нипочем, а мне – хочешь не хочешь. – Она расплакалась злыми слезами.
Вадим вздохнул и покачал головой. Бабы, поймешь их! Может, приревновала меня к этой Лерке? Черт их разберет.
В Москву – не удержались – купили маленькие желтые, пахнувшие солнцем дыни и связку вяленой тараньки – к пиву.
Москва себе не изменяла – встречала их дождем. Но все равно было счастьем оказаться дома. Через неделю-другую Ольга почти забыла об этом странном эпизоде, случившемся в ее жизни, и даже обозначила его как забавное приключение, придающее ей загадочность и статус роковой женщины, бросив в копилку ее нехитрого женского багажа пусть не рубль, но пятак. Да и вообще, помня о том, что женщина состоит из прошлого… Чувство вины и недоумения почти прошло, и своего молодого мужа она продолжала любить – сильно и безоговорочно. Даже, как ей казалось, теперь еще сильнее и крепче прежнего. Затошнило ее примерно через недели три – среди ночи. Она проснулась, и ей невыносимо захотелось квашеной капусты. Господи, да какая квашеная капуста в сентябре? Она встала с кровати и босиком пошла на кухню. В холодильнике стояла банка соленых помидоров. Она села на пол и стала жадно есть помидоры, вынимая из банки их прямо руками. Сок тек по локтям и ночной рубашке. Когда она ополовинила банку, наконец все до нее и дошло. И она замерла от ужаса. Женщина всегда точно знает, от кого у нее ребенок. Или почти всегда. А здесь и вовсе не было никаких сомнений. С Вадимом ничего этого у них быть не могло – детей заводить они не торопились и поэтому были весьма осторожны.
Игорь! Господи, ну конечно же, Игорь! Боже, я же ни о чем не подумала тогда, все мгновенно, какие-то минуты. Что делать? Она поднялась с пола и пошла в ванную, включила свет и внимательно разглядывала себя в зеркало – вот и получи, дрянь. Пустячок, ерунда, а платить по счетам будешь всю жизнь. Такая мелочь – растереть и выплюнуть, а нет, не удастся выплюнуть-то. Теперь будешь помнить об этом всю жизнь. А может, аборт? «Страшно, страшно – первый аборт, а если потом вообще не рожу?» Ее стало знобить и трясти, и она залезла под душ. И долго стояла под горячей сильной струей. «Нет, никаких абортов, рожу. Это мой ребенок. В конце концов, мой, и больше ничей. С Вадимом я разберусь, все устрою, – лихорадочно бежали мысли в голове. – Сволочь я, уже думаю, как все обтяпать шито-крыто. Со сроком придумать. Гадина какая, оказывается. Ловко все рассудила. Да нет, это все вранье – не грех, грех от ребенка избавиться. Вот и выбирай – или ложь, или человеческая жизнь».
О беременности она сказала Вадиму на следующий день. Он растерялся.
– А когда это мы с тобой успели? – удивился он.
– Ты что, забыл? – лихо врала ловкая Ольга. – Тогда на море, ну помнишь, мы выпили тогда и забыли, ну?
Он пожимал плечами:
– Разве? – И озаботился: – А может быть, это опасно, мы же пили.
– Ерунда, – ответила Ольга. – Я уже узнавала – красное сухое вино – полная ерунда, даже не бери в голову, это только полезно.
Он удивился, но промолчал. А Ольга спросила, заглядывая ему в глаза:
– Ты что, не рад?
Он смутился:
– Что ты, рад, конечно, просто неожиданно как-то. Но раз так вышло, надо только радоваться этому.
И они дружно решили радоваться. С новыми «курортными» друзьями они так и не встретились – то дела, то делишки. Чувствовала себя Ольга неважно, ни видеть, ни слышать никого не хотела, после работы рано ложилась спать. Ей теперь только и хотелось – спать, спать, спать. Лера позвонила пару раз, а потом, видя односторонность своих звонков и предложений собраться, разобиделась и звонить вовсе перестала. Мужу объяснила, что редко получается продолжение дружбы после таких вот кратковременных, бурных общений. Он удивился, но поверил.
В апреле Ольга родила мальчика. Сына назвали Денисом. В начале 90-х, после отъезда шефа в Канаду, распалась, рассыпалась лаборатория Вадима – обычное дело. Он оказался на улице – «бомбил» на машине, что-то сторожил ночами, маялся, депрессировал. Тогда, в те годы, жесткая и собранная Ольга постаралась не растеряться. И не растерялась, устроившись в одну коммерческую структуру. И стала основным кормильцем в семье. Называлась ее должность офис-менеджер. Звучит красиво, а на деле – обычная секретарша – кофе, чай, бумаги. Платили, правда, неплохо. Сын был похож на нее – темноглазый, русый, с жестким упрямым ртом. Мальчика она любила без памяти, а когда изредка вспоминала о своих мыслях по поводу аборта, от ужаса у нее падало сердце и она покрывалась холодным потом с головы до ног. Мальчик рос спокойным и разумным, в общем, ребенок без особых хлопот, а вот в десятом классе понеслось – серьга в ухе, татуировка на плече, длинные волосы, черные майки с черепами, гитара, музыка, вегетарианство. Сразу все и в одну кучу. Он и сам не мог разобраться. Учиться, кстати, тоже перестал. Ольга скандалила, кричала, бегала в школу. Он хамил, хлопал перед ее носом дверью, не разговаривал сутками. Она страдала, билась, пыталась выстроить хоть какие-то отношения. Тщетно. А вот с Вадимом отношения у сына были вполне терпимые, даже временами дружеские. Муж мудро советовал:
– Оставь, перебесится.
– Конечно, – зло бросала Ольга, – тебя же ничто не волнует, ни институт, ни армия. Все я, все на мне. Ты же ничего не требуешь, ты хороший. Это я баба-яга.
Теперь обижался Вадим, и уже он не разговаривал с Ольгой. Она сходила с ума и была взвинчена до предела. Стала совсем невыносимой – теперь она скандалила не только с сыном, но и с мужем, обвиняя одного в черствости, а другого в несостоятельности. Денег и на повседневную жизнь катастрофически не хватало, а впереди маячили и вовсе страшные вещи – институт, армия. Еле выживали, все шло наперекосяк, пальто было ветхим, сапоги промокали, обои отклеивались, краны текли, сын из всего вырастал – обувь, джинсы, куртки. До зубной боли осточертели грязные оптушки и бесконечный пересчет копеек. Денис допоздна болтался без дела, Вадим начал попивать, правда, дома и по чуть-чуть, но… И никаких надежд на улучшение ситуации. В общем, тотальная беспросветка. На улице был апрель, и ярко светило такое долгожданное солнце. Ольга надела легкий и, увы, давно немодный старый плащ, вытащила из шкафа весенние туфли на каблуке, на шею набросила яркую косынку. Все перемена в жизни. Решила съездить в центр, просто прошвырнуться – поглазеть на витрины, порыться в книжном на Тверской. Если не праздник, то хотя бы небольшой релакс. В центре уже совсем не было снега, да что там снега – абсолютно сухо и безупречно чисто. Народу было полно – все яркие, нарядные и весенние люди. Ольга глазела на витрины, читала меню кафешек, вывешенные у входа, ужасалась ценам, сейчас особенно остро почувствовав пропасть между своей жизнью и жизнью вообще. Но все-таки была рада тому, что вырвалась и глотнула свежего воздуха свободной и, казалось, беспечной жизни. Она притормозила у витрины шикарного обувного – и у нее перехватило дыхание. Захотелось всего и сразу: и маленьких, изящных вечерних туфель, невесомых и легких, пестрых босоножек на тонком каблуке, и цветастой яркой сумки на блестящей цепочке. Господи, пронеслось у нее в голове – а ведь этого не будет у меня никогда. Какое же безнадежное слово – «никогда», обрубающее на корню даже самые невинные женские фантазии. В этот момент кто-то тронул ее за рукав, Ольга обернулась и увидела невысокую полную женщину в круглых темных очках.
– Ольга! Ты? – спросила она.
Ольга растерянно кивнула, совершенно не узнавая ее. Женщина сняла очки и улыбнулась:
– Ну а так? Не узнаешь? Что, так сильно изменилась? А вот я тебя сразу узнала – вот что значит сохранить размер.
– Лера! – тут как осенило Ольгу.