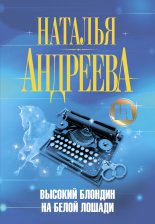Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть IV. Демон и лабиринт Фурман Александр

В первых числах сентября Минаев сообщил Фурману, что Машка очень просила их обоих в ближайшие несколько дней принять участие в поисках места для предстоящего Большого слета (требовалось найти где-нибудь в подмосковных лесах поляну, на которой могли бы одновременно разместиться от трех до десяти тысяч человек с палатками). Сама Машка по каким-то причинам поехать с ними не могла, и в первый момент это поручение показалось Фурману шокирующе ответственным. Но Борька насмешливо успокоил его: не пугайся, мы с тобой не единственные, кому дано такое задание. В поиске задействованы десятки, а может и сотни других разведчиков, которых направляют в разные стороны от Москвы. Короче, сценарий этот давно обкатан, и знающими людьми все заранее предусмотрено. Даже если они с Фурманом провалят свою часть операции и ничего не найдут, их никто за это не накажет. И кстати, Фурману, как человеку более свободному в плане времени, придется где-нибудь пересечься с Машкой и взять у нее карту с уже размеченным маршрутом.
При торопливой встрече в метро Машка сказала, что ехать им нужно электричкой с Савеловского вокзала до станции Икша, а дальше пешком; карта в конверте, все ориентиры и примерная зона поиска там указаны. Когда Фурман дома открыл конверт, оказалось, что эта «крупномасштабная карта» – всего лишь маленькая фотокопия какого-то схематичного плана местности, который был подозрительно похож на самоделку, пусть и добротно сделанную. Но как бы то ни было, задание требовалось выполнить.
С Минаевым они договорились встретиться через день, на вокзале, в 8:45 утра под табло с расписанием поездов.
Что Минаев всегда и всюду опаздывает, было хорошо известно. Но через пятнадцать минут Фурман начал беспокоиться, а через двадцать пять, пропустив уже три подходящих им электрички, проклял все на свете. Тут из привокзальной толпы его вдруг окликнули по имени, и к нему направился какой-то маленький смуглый парень с длинными темными волосами и в очках.
– Привет тебе, Саша Фурман! – повторил он, протягивая ладонь для пожатия. – Надеюсь, я не очень опоздал?.. Та-а-ак, вот те раз, кажется, ты меня не узнаешь? Ну, на самом деле это теперь уже и не важно. Главное, что я тебя сразу узнал и наша с тобой встреча, можно считать, состоялась. Давай-ка я вкратце напомню тебе обстоятельства нашего знакомства. Зовут меня Саша Морозов. Мы с тобой пересекались несколько раз в редакции. И потом еще однажды в Карелии на коммунарском сборе я был в твоем отряде. Вспомнил? Ну, вот и отлично! Теперь к делу. Наш общий друг Боря Минаев позвонил мне примерно час назад и слезно умолял заменить его в этой поездке. Собственно, вот почему я здесь. Он, конечно, страшно извиняется, но у него есть уважительная причина: ему пришлось срочно ехать в универ. На мой взгляд, он принял верное решение – уж кому-кому, а ему-то как раз не стоило бы пропускать лекции с первых же дней учебы… Так, извини, я тебя уже совершенно заболтал, а ведь нам, как я понял из его путанных, как всегда, объяснений, нужно еще куда-то ехать?..
То, что Фурман не сразу узнал Морозова, можно было объяснить лишь эффектом неожиданности. Год назад в редакции они виделись только мельком, но Фурману было известно, что Морозов вместе с Минаевым, Максимовым, Дубровским и всеми прочими ходил в Школу юного журналиста и был одним из победителей всесоюзного конкурса школьных сочинений о войне, после которого их и пригласили в «Алый парус». Все уважительно отзывались о его таланте, но ни в клубе, ни в газете он в тот момент почему-то не задержался. А прошлой весной в Петрозаводске, когда Фурман первый раз был отрядным комиссаром на сборе «Товарища», туда, чтобы поддержать его, приехал Минаев, который зачем-то притащил с собой и Морозова. Оба они числились в отряде Фурмана, но он тогда так волновался, что их присутствие почти не зафиксировалось в его памяти. Теперь ему вдруг припомнилось, как этот Саша Морозов при знакомстве с отрядом всех удивил, назвав своим любимым поэтом Роберта Рождественского (для столичного десятиклассника, собирающегося стать журналистом, это предпочтение выглядело несколько странно: не Блок, не Маяковский, не Гумилев, а этот известный советский поэт-песенник…). А на второй день сбора Морозов неожиданно исчез. Хватились его только вечером. Минаев нашел у себя в кармане какую-то странную записку, и оказалось, что Морозов без всяких объяснений, никого не предупредив, отправился на вокзал, купил билет и уехал в Москву. «Товарищи» были в шоке. Значит, вот так поступают москвичи?.. Борьке пришлось оправдываться: мол, не принимайте это на свой счет, к сбору и ко всем его участникам это не имеет никакого отношения. Он в этом абсолютно уверен, хотя бы потому, что с Морозовым подобные истории раньше уже случались. Он приезжает в какое-нибудь замечательное место, поначалу все идет отлично, а потом ему вдруг, без всякой видимой причины, становится совершенно невмоготу оставаться там, где он находится, и он просто сбегает, иногда даже на ночь глядя. Да, конечно, он повел себя очень неправильно, нехорошо и даже возмутительно с моральной точки зрения, поскольку знал, что люди будут о нем беспокоиться. Но, к сожалению, ничего тут не поделаешь – так уж устроен этот человек. Обижаться на него глупо. И волноваться о его судьбе тоже не стоит. Вы немного недооцениваете этого парня: опыт показывает, что при всех своих отрицательных качествах он прекрасно ориентируется в сложных жизненных ситуациях и всегда находит из них выход. Поэтому сейчас лучше всего просто выкинуть его из головы – ну уехал, и черт с ним!.. Видимо, этот совет тогда сработал каким-то волшебным образом… Кроме того, еще минуту назад Фурман был слишком нацелен на то, чтобы увидеть опаздывающего Минаева…
Предпоследняя перед большим перерывом электричка отправлялась через шесть минут, и они побежали покупать билеты. На ходу Фурман объяснил своему новому напарнику их задачу.
– Ты, я смотрю, при полной экипировке! – с веселым одобрением отметил Морозов, пока они стояли в очереди. – Выглядишь вполне по-походному. А я так, налегке!..
С учетом того, что на прошлой неделе шли дожди, Фурман серьезно подготовился к предстоящей экспедиции: под потертой брезентовой штормовкой на нем был толстый шерстяной свитер, на ногах – брезентовые штаны, заправленные в резиновые сапоги. Он даже спички с собой на всякий случай прихватил в непромокаемом пакетике. Не хватало только рюкзака, чтобы казаться бывалым туристом. Зато его спутник – в легкой джинсовой куртке нараспашку, тонкой городской рубашке, темно-серых выходных брюках и легкомысленных полукедах – как будто собирался не в глухой сырой лес, а куда-нибудь на дачу. Это впечатление подчеркивали свежие газеты, небрежно торчавшие из небольшой наплечной сумки. Вообще, вид у Морозова был какой-то расхристанный: спутанные волосы торчат во все стороны, воротник рубашки, расстегнутой на две пуговицы, съехал набок…
Народу в электричке было немного. Первые десять минут Морозов деловито просматривал газеты, приговаривая «так-так-так…», «а вот это уже довольно любопытно…» и отпуская какие-то неразборчивые комментарии, на которые Фурман реагировал в основном вежливым хмыканьем. Сам он от чтения газет отказался: из-за недосыпа и недавно пережитого волнения его начало подташнивать и мощно клонить в сон.
Но подремать на бьющем в окно ярком утреннем солнышке ему удалось совсем недолго, потому что, покончив с прессой, Морозов энергично принялся «углублять знакомство». Самым простым и удобным способом поближе узнать другого человека он «в силу специфики своей будущей профессии» считал жанр блиц-интервью. Фурман, поежившись, сказал, что, как ему кажется, по-настоящему узнать друг друга при таком способе общения невозможно. Морозов с сомнением покачал головой: может, по большому счету ты и прав, но пока давай начнем именно с этого. Ну что, ты готов? Фурман недовольно пожал плечами, и Морозов стал в быстром темпе выстреливать короткие острые вопросы на самые разные темы. При этом ему явно не нравилось, когда Фурман задумывался над своими ответами. Он со скучающим видом начинал поторапливать его, как будто они куда-то опаздывали, и иногда его нетерпение прямо граничило с невежливостью. Могло даже показаться, что содержательная сторона ответов интересует Морозова лишь постольку-поскольку и ему гораздо важнее ставить где-то у себя в голове воображаемую «галочку»: вопрос задан, ответ получен, переходим к следующему. Все это было довольно обидно, и в другое время Фурман вряд ли позволил бы так с собой обращаться (подобный напор легко можно было бы сбить, например, проявив активный встречный интерес к собеседнику). Сейчас же ему хотелось только одного: чтобы его хотя бы на полчасика оставили в покое. Однако прервать эту навязанную жесткую игру в словесный пинг-понг у него не было сил: его сопротивление и отказ отвечать наверняка вызвали бы лишь новые вопросы, пришлось бы что-то объяснять, упрямо настаивать на своем…
С растущим раздражением отбиваясь от чужих наскоков, он вдруг поймал себя на том, что в паузах между своими репликами так язвительно и грубо втихомолку комментирует каждое слово и даже движение расположившегося напротив бойкого смуглого человечка в очках, словно это какое-то мерзкое существо иной природы.
Больше всего в собственном «внутреннем голосе» Фурмана поразило сладострастное издевательство над внешними особенностями другого человека: цветом кожи, чертами лица, жестами, манерой речи. И это дикое «параллельное» бормотание продолжалось даже теперь, когда он его заметил! А ведь именно вот так исподтишка мог бы наблюдать за шевелениями и подергиваниями еврея антисемит.
Фурман почувствовал, что краснеет. Какой стыд! Какой позор! И ты еще смеешь считать себя настоящим коммунистом?! Но откуда во мне взялась эта дрянь? Я же никогда раньше…
«Ну и что в этом такого? – вдруг пробормотал внутренний голос с дурашливым вызовом. – А если он и вправду такой противный?..»
«Господи, что со мной происходит?!» – испугался Фурман и прислушался. Но ответа не последовало.
Внутренний голос хмыкнул.
«Кажется, я схожу с ума… Неужели это вот так и случается?» – с веселым отчаянием подумал Фурман.
Морозов в этот момент, к счастью, увлеченно пустился в какие-то длинные объяснения, предваряющие очередной вопрос.
Надо было срочно что-то делать с собой. Но что тут можно сделать?! Вызвать санитаров? Спокойно. Самое главное – это сохранять остатки разума. Понять, что происходит.
А как это – «понять»? Давай, понимай! Только побыстрее!
Наверно, для начала нужно, как говорится, просто «увидеть себя со стороны».
С какой еще, к черту, стороны?
Допустим, здесь сейчас был бы Боря. Что бы он сказал?
Ну и?..
Он бы сказал: дорогой цыпленочек, помочь тебе сейчас некому.
Отлично!..
Поэтому придется тебе действовать самому. Итак, с тобой происходит что-то неправильное. Возможно, это означает, что у тебя внутри что-то нарушилось, сломался какой-то важный механизм. Попробуй заглянуть в себя и увидеть, что там не так.
«Заглянуть в себя». Бред.
Но что же делать?.. Если в машине что-то ломается, первым делом поднимают капот и смотрят, что с мотором…
Так то мотор… Ну хорошо, предположим, я «заглянул в себя» – и что дальше?
Ничего, просто попробуй это представить. Закрой глаза.
Осторожно покосившись на болтающего Морозова, Фурман прикрыл глаза.
И, естественно, ничего не увидел. Только какую-то мелкую рябь на внутренней поверхности век.
Тут ничего нет, я ничего не вижу! Все это просто глупость. Я открываю глаза!
Подожди, это же просто, как игра в ассоциации. Если тебе не нравится образ мотора, попробуй представить самого себя в виде чего-то другого – например, дома. Или хотя бы комнаты.
Фурман судорожно вздохнул, и ему почти сразу привиделось какое-то небольшое вытянутое помещение с голыми стенами без окон.
Откуда-то сверху тихо сеялся белесый искусственный свет.
Странная полупустая комната, видимо, была частью жилой квартиры: в центре длинной стены была приоткрытая наружу дверь, а за ней – узкий полутемный коридор с угловатым поворотом, уходивший то ли в соседнюю комнату, то ли в кухню. Там тоже было светло, но никаких звуков, которые говорили бы о чьем-либо присутствии, оттуда не доносилось.
В комнате, поначалу казавшейся пустой из-за светлых голых стен, весь пол был завален разбитыми на мелкие кусочки домашними вещами и грубо разломанными фрагментами мебели. Похоже, совсем недавно здесь происходил какой-то дикий, беспощадный разгром. Какая же нужна была сила или злоба, чтобы все вокруг так порушить…
В нескольких местах на запятнанных ободранных стенах чем-то темным были яростно выведены какие-то каракули. С брезгливым любопытством попытавшись их разобрать, Фурман медленно, как во сне, догадался, что все, что он видит, на самом деле является лишь чем-то вроде театральной декорации. Вот это да! А ведь все так реалистично и подробно… Ему даже стало интересно, что здесь будет происходить дальше. Но потом до него так же медленно дошло, что это иносказание. А смысл «сообщения» таков: это в его собственном внутреннем мире все разгромлено и порушено. Как?! Почему?.. Да потому, идиот, что на самом деле с тобой прямо сейчас происходит кошмарная истерика. И она вовсе не закончилась, а с каждой секундой катастрофически нарастает, грозя вот-вот прорвать жалкую плотину человеческих приличий!.. Тут у него в голове врубился такой мощный звук, что «картинка» мгновенно уменьшилась, посерела, пошла волнами и погасла, как экран телевизора, и все заполнилось торжествующим ревом авиабомбы, быстро перешедшим в завывания полярного ветра, наложенные на запись симфонической кульминации гигантского оркестра в сопровождении пары академических хоров…
Среди этого гула Фурман краешком сознания равнодушно отметил, что уже третий подряд вопрос Морозова остается без ответа.
Между тем его упорное молчание, застывший взгляд и бледное лицо с приоткрытым ртом заставили Морозова слегка забеспокоиться. «Саня, ты в порядке? – спросил он. – У тебя ничего не болит? Может, я заболтался и что-то не то тебя спросил? Не обращай внимания, со мной это случается… Ты меня слышишь?»
Фурман кивнул и вяло поднял ватную ладонь, успокаивая его и прося немного подождать.
Величественное пение адского хора теперь как будто отдалилось, и в нем стали различаться отдельные повторяющиеся интонационные линии… сложное переплетение голосов… какие-то страстные оперные мольбы и грозные предупреждения…
Фурман вдруг вспомнил, как Боря однажды убеждал его, что для того чтобы не сойти с ума, очень важно научиться понимать свои вытесненные желания и «мирно договариваться» с собственным бессознательным. Может, сейчас как раз самое время попробовать разобраться, о чем они так громко воют у него внутри? Они ведь, наверное, чего-то хотят? Может, если дать им это, они успокоятся и заткнутся?..
Он стал с терпеливым вниманием вслушиваться в рыдающие и визжащие голоса, ощутив даже что-то вроде охотничьего азарта, – и в какой-то момент словно поймал сквозь помехи нужную радиостанцию. Но от услышанного он просто оторопел: с немыслимой злобой они наперебой требовали сию же минуту растерзать на кусочки эту сидящую напротив дрянную куклу (то бишь Морозова)… начать выкрикивать ему в лицо самые грязные оскорбления… сорвать с него очки и растоптать их… дернуть стоп-кран, чтобы он упал и разбил себе голову… выскочить из вагона на ближайшей остановке и по шпалам бежать обратно в Москву…
Но зачем?! Зачем надо бежать в Москву?
Он вдруг с удивлением понял, что вся эта чудовищная волна не может иметь к Морозову как таковому никакого отношения. Это было очень, очень странно. До смешного ни о чем не подозревающий «объект» всех этих бешеных угроз, Морозов действительно был «куклой» – подменой, тенью, случайной зацепкой. Но что-то в самом Фурмане – какая-то его важная часть, недавно бесцеремонно отброшенная им в сторону, – теперь с поразительной детской бескомпромиссностью мстила ему, отказываясь принимать реальность. Ту единственную реальность, в которой они с Морозовым сейчас находятся вместе – едут в электричке – и которая, как считает этот смертельно обиженный детский голос, предательски изменилась полчаса назад, в момент их встречи на вокзале, когда совершилась подмена.
Какая еще подмена? Он действительно ждал Минаева. А вместо него пришел Морозов – и что, дальше все пошло не туда? Поэтому надо убивать Морозова, дергать стоп-кран и выскакивать из поезда? Чтобы вернуться в ту точку, где все изменилось? Но ведь Минаева-то там все равно не будет?..
Вот это да! Это же натуральный фрейдизм! Выходит, все это не выдумки? «Вытеснение», «переносы», «эдипов комплекс» и прочие психоаналитические фокусы… То есть самого доктора Фрейда мы, конечно, не читали. Да и Боря – древний огненный источник фурмановских познаний – наверняка тоже «изучал» его труды по каким-нибудь дурацким пересказам… Но как же все это странно и интересно устроено!
Проблема в том, что желание не может создать полноценную другую – «желаемую» – реальность. Конечно, можно попытаться убить Морозова в этой единственной реальности, но нельзя вернуться в прошлое, заставить Минаева бросить свои дела и ехать сейчас в электричке с ним, а не с Морозовым… Кстати, а почему все так уперлось в Минаева-то? Допустим, он был бы сейчас здесь – и что? Чего Фурман лишился в его лице? Из-за чего у него в голове разгорелся весь этот ужасный сыр-бор?..
Лишь теперь он с болезненным изумлением начал узнавать опасно взбунтовавшуюся часть самого себя. Этот Фурман два последних дня провел в тяжелом волнении и сомнениях, настраиваясь на предстоящий трудный, но абсолютно необходимый ему разговор с Минаевым. После его возвращения из Петрозаводска они уже несколько раз встречались у Наппу и где-то еще, но спокойно поговорить наедине не получалось. Поход создавал для этого почти идеальные условия. Только Минаеву Фурман мог честно рассказать о бесславном завершении своей полугодовой миссии в «Товарище», а главное – о своих совершенно запутавшихся и горьких отношениях с Нателлой… И вот, вместо желанной дружеской откровенности, понимания и утешения ему придется целый день потратить на совершенно бессмысленное общение с этим бесконечно чужим, поверхностным и неприятно приставучим человеком!.. Нет-нет, конечно, сам по себе Морозов ни в чем не виноват, даже наоборот, он поступил благородно, согласившись заменить бестолкового друга Минаева…
Хотя по большом счету и Минаев тут был ни при чем. Все дело было в Нателле. Она ускользала от него, и ему казалось, что с ней ускользает будущее. Ведь у него никогда никого не было, кроме нее. И ему так не хотелось окончательно отпускать ее, расставаться с ее образом, снова погружаться в темную голодную бездну одиночества… А тут его безжалостно лишают даже возможности поговорить о ней – быть может, в последний раз!.. Невыносимая детская обида разрывала сердце Фурмана. И ему было жалко себя до слез. Как говорил один попугай, «бедный, бедный Робин Крузо, как ты сюда попал?..»
Ну и что теперь с этим делать?
Электричка – маленький, сильно раскачивающийся островок реальности, к которому он был безнадежно прикован вместе со своим чудаковатым Пятницей, – по-прежнему бодро неслась вперед, во всепобеждающую суетливую скуку жизни. Спасения не было… Правда, и давление в его «котле» уже заметно упало, истерика иссякла. Оставалось только в очередной раз повторить про себя слова героя «Башни из черного дерева»: «Уцелел…»
Морозов, видя, что Фурман приходит в себя, с извинениями отказался от своей, «возможно, чересчур агрессивной тактики ведения беседы» и предложил перейти к обсуждению более важных тем, представляющих взаимный интерес.
Одной из таких тем, по его словам, мог бы стать «сознательный и принципиальный отказ» Фурмана от получения высшего образования, некоторое время назад вызвавший большие споры в их ШЮЖевской группе.
– Надо же, – недобро усмехнулся Фурман. – И о чем был спор?
Мнения участников дискуссии резко разделились, отрапортовал Морозов. Но кто и что именно тогда говорил, ему сейчас уже вряд ли удастся вспомнить. Да это и неважно. Во-первых, потому что обсуждение развивалось по наихудшему сценарию (что, кстати, нередко случается, когда глубокие мировоззренческие вопросы пытаются решать силами профессионально неподготовленных людей). К тому же следует отметить, что довольно большой процент присутствующих составляли разнообразные замечательные девушки, что определенным образом влияло на некоторых особо слабонервных ораторов и в целом, несомненно, подогревало страсти… В общем, если описать в двух словах, то сначала все выступавшие крайне нудно и тоскливо несли всякий инфантильный вздор, затем, перейдя уже непосредственно к обсуждению, грубо обзывались, с детской жестокостью обвиняя друг друга во всех смертных грехах, после чего долго размазывали по щекам сопли и слюни, а под конец, когда на столе совершенно неожиданно появилось несколько бутылок с вином, стали со слезами на глазах признаваться во взаимной вечной любви, произносить зажигательные тосты, целоваться и обниматься. Так что в целом можно сказать, что тот вечер прошел на славу.
– Ну, а во-вторых? – поинтересовался Фурман.
– А что во-вторых? – удивился Морозов.
– Ну, ты же сказал, что все это было неважно, во-первых, потому-то – и очень подробно и красочно объяснил почему. Я и подумал, что раз так, то должно быть еще и какое-то во-вторых. Вторая причина, по которой ваши позиции в том споре стали для тебя неважны.
– Вот ты о чем… Типа, если кто-то сказал «а», то должен сказать и «б». Логично. Ну что ж, тогда можно назвать и вторую причину.
Он ненадолго задумался.
Суть в том, что за прошедшие полгода (или чуть больше) каждый из участников той дискуссии под давлением, так сказать, внешних биографических обстоятельств был вынужден совершить свой личный выбор – даже если у кого-то он заключался в отказе делать этот выбор самостоятельно и перекладывании его на плечи родителей. В результате каждый получил ответ на волновавшие его тогда вопросы как бы самим ходом собственной жизни. Что, возможно, и является единственной правильной формой ответа… К сожалению, тут нет никакого предмета для разговора, потому что ответы эти в 99 случаях из 100 совершенно банальны и хоть какой-то минимальный интерес могут представлять разве что с точки зрения социологии. Да и то вряд ли. Зато у самого Морозова теперь есть редкая возможность прояснить, так сказать, из первоисточника глубинные основания той яркой и в хорошем смысле провокационной позиции, которая в свое время послужила исходным толчком для их заслуженно забытого спора. Стоит ли говорить, что эта позиция и сегодня вступает в острое противоречие с нормами и ценностями их общей социально-культурной среды и поэтому нисколько не утратила своего значения…
Судя по мягкой терпеливой улыбке, Морозов ожидал от Фурмана какого-то развернутого ответа. Обескураженный этим виртуозным напором сложносочиненной речи, Фурман попытался собраться с мыслями, но ничего столь же «умного» или хотя бы достойного в голову не приходило. Пауза затягивалась… Вообще-то Фурману очень не понравилось, что его жизнь бесцеремонно используют как аргумент в каких-то дурацких детсадовских спорах. Резануло его и словечко «провокация», прозвучавшее как некая двусмысленная похвала (неужели Морозов считал, что Фурман не стал поступать в институт нарочно, «назло врагам», лишь бы вызвать у них какую-то реакцию?!). Кроме того, само изысканно-замысловатое построение обращенного к нему вопроса (если это вообще был вопрос) таило в себе какую-то хитрую лесть… И тут Фурмана осенило: если Морозову так нравятся провокации, может, стоит пойти ему навстречу? Он ждет, что ему сейчас вот так, с места в карьер, откроют «глубинные мотивы»? Но с чего он вообще взял, что они у Фурмана имеются? А как ему вариант под названием «грубая правда»? (Фурману не раз доводилось выслушивать от родственников и знакомых жесткие «разоблачения» в свой адрес, и произнести их самому перед посторонним человеком означало бы стать выше – ну, или хотя бы шире – этих обидных и даже оскорбительных «версий».) После этого любая поверхностно-романтическая интерпретация «светлой личности Фурмана» станет невозможной, и Морозову с его красноречием придется либо открыться и прямо заговорить о самом себе, либо наконец просто заткнуться. Конечно, существовала еще и некоторая вероятность, что он полностью согласится с нелицеприятной оценкой Фурмана. Это было бы смешно – попасться в собственную ловушку… Но рискнуть стоило.
Пряча довольную улыбку, Фурман мрачно нахмурился, на всякий случай кашлянул и спросил засмотревшегося в окно Морозова, готов ли он выслушать его ответ.
– Да-да, конечно! – оживился тот. – Я весь внимание.
– Должен тебя предупредить, что, возможно, это не совсем то, чего ты от меня ждешь, – сказал Фурман и после затянувшегося обмена любезностями позволил себе выдвинуть предположение, что его «пресловутый принципиальный отказ» от получения высшего образования может объясняться и без привлечения гипотезы о наличии у него неких «глубоких идейных оснований».
– А чем же тогда все это можно объяснить? – озадаченно спросил Морозов. – Не мог бы ты привести какой-нибудь понятный пример?
– Да кучей самых разных причин это можно объяснить! – загорелся Фурман. – Если брать только самые простые, лежащие на поверхности, то это, например, свойственная мне от природы определенная интеллектуальная туповатость… Ну хорошо, хорошо, скажем по-другому: отсутствие необходимых для получения серьезного высшего образования способностей к математическому мышлению… Нет, спорить с этим как раз невозможно, потому что именно по этой причине меня в свое время с позором выперли из математического класса! Следующая причина: обычная человеческая лень, которая, конечно, свойственна большинству людей, но в рассматриваемом нами случае явно зашкаливает по всем параметрам. С этим тоже глупо спорить, просто поверь мне на слово. Далее. Инфантильный страх; патологическое нежелание претерпевать экзаменационные унижения… Это всё, так сказать, субъективные причины. А есть еще и объективные. К ним можно отнести, например, абсолютное равнодушие большинства учителей к своему делу. Или очевидные недоработки школьной системы профориентации… Продолжить – или этого достаточно?
Его слова почему-то ужасно расстроили Морозова. Бросив на Фурмана обиженный взгляд, он странно покривил губами, потом отвернулся и надолго уставился в окно. Фурману даже показалось, что в глазах этого непонятного человека за стеклами очков с тонкой золотистой оправой блеснули слезы. Однако он мстительно решил не нарушать молчания и тоже стал нервно посматривать в окно.
И справа, и слева показывали какую-то мелькающую чушь.
Ну что, конец общению?.. А что вообще случилось-то? Да наплевать!.. Но закрыть глаза и подремать Фурман все же не решился – это выглядело бы слишком демонстративно, а кто знает, вдруг этот обидчивый парень выйдет из себя и набросится на него спящего… Ладно, тогда просто посидим. Как будто мы вообще не знакомы.
Фурман стал исподтишка рассматривать своего соседа. И, надо сказать, что тот, несмотря на свой встрепанный цыплячий вид, показался ему в чем-то даже симпатичным…
Наконец, словно завершив какие-то сложные вычисления, производившиеся в уме на фоне заляпанного оконного стекла, Морозов снова повернулся к Фурману. Сняв очки, он устало потер глаза, потом аккуратно посадил очки обратно, два раза сухо кхмыкнул носом на выдохе, подергал ноздрями – и заговорил как ни в чем ни бывало. Он хотел бы обратить внимание Фурмана на то несомненное лично для него обстоятельство, что в их пока довольно непросто развивающейся беседе им, Морозовым, движет отнюдь не праздный интерес и уж тем более не пошлое желание скоротать время в электричке за болтовней со случайным попутчиком. Нет смысла скрывать: он уже давно искал случая сойтись поближе и всерьез пообщаться с этим полулегендарным Фурманом, о котором в их кругу всегда было столько разговоров. Да-да! Постоянно только и слышишь: Фурман то, Фурман се… Но в том, что их встреча состоялась именно сейчас, при желании можно усмотреть своего рода знак судьбы. Потому что лично для него, «как для человека, который только что пошел на мучительную сделку с системой» (это он о своем поступлении на журфак, не сразу догадался Фурман), все еще важно понять, возможен ли был какой-то другой путь? Не совершил ли он некоего предательства по отношению к самому себе? И вообще, каково это – чувствовать себя маргиналом? Бросить вызов всему своему окружению, пойти наперекор семье, друзьям, противостоять давлению среды… Какую цену приходится платить за то, что живешь так, как считаешь нужным? Вот в чем на самом деле заключался его вопрос! Который, возможно, и был задан в несколько витиеватой форме, но на который он пока так и не получил ожидаемого достойного ответа. Ведь, по правде сказать, ему не так уж мало известно о Фурмане. Что именно? Ну, например, что он много времени посвящает самообразованию и прекрасно ориентируется в художественной литературе, психологии и философии, а следовательно, и в социальных науках, к которым, кстати, и сам Морозов проявляет определенный интерес. Ну да, да, не стоит так ядовито ухмыляться – источники его информации вполне понятны… И он, конечно, прекрасно понимает, что любая откровенность подразумевает доверие, а его нужно сначала заслужить. Тем не менее он считает, что его искреннее уважение к Фурману дает ему право как бы авансом рассчитывать на серьезное отношение – пусть и не к себе, что было бы абсолютным нахальством с его стороны, но хотя бы к этому все еще возможному разговору…
…Заслушавшемуся Фурману пришлось срочно мобилизоваться и выразить готовность к обсуждению альтернативной темы, немедленно предложенной Морозовым: о личностных проблемах начинающего студента. Но так как Фурману было совершенно нечего сказать по данному вопросу, Морозову пришлось «выступить с основным докладом».
Типичные и вполне идиотические «школьные» ситуации, которые он начал описывать с псевдонаучной обстоятельностью («во-первых… во-вторых… в-третьих…») и явно преувеличиваемым драматизмом, нагоняли на Фурмана жуткую скуку. Некоторое время ему с трудом удавалось маскировать приступы зевоты, а потом его сознание стало просто отключаться на секунду-другую. В одном из таких глубоких «провалов», обладавших собственным временем, он услышал резкий размеренный голос брата, который убеждал его не бояться трудностей, связанных с поступлением в институт и началом учебы. Пробудившись словно по звонку, Фурман вспомнил, что такой разговор у него с Борей действительно происходил год или два назад… И тут же понял, что ему есть чем ответить на все это жалкое человеческое нытье! Сон как рукой сняло, и пока бедный докладчик неуверенно пытался нащупать точку завершения своего затянувшегося монолога, Фурман, энергично кивая и посверкивая глазами, терпеливо сидел в засаде.
– Ну, и что ты обо всем этом думаешь? – наконец спросил Морозов.
– Что я об этом думаю? – загадочно протянул Фурман, с отстраненным интересом рассматривая жертву. – Я думаю примерно следующее…
И с покровительственно-соболезнующей Бориной интонацией он доходчиво объяснил, что 50 процентов из описанных Сашей мучительных переживаний человека, который, так сказать, пошел на сделку с системой, то бишь стал студентом, вызвано вполне понятными, но в целом незначительными и, главное, преходящими причинами. Что это за причины? Ну, во-первых… (Фурман поймал себя на том, что машинально повторяет морозовские «ходы», но было уже поздно) это ситуация личной свободы, абсолютно новая для подавляющего большинства начинающих студентов и сильно отличающаяся от привычной для них школьной «обязаловки» с постоянным жестким контролем со стороны учителей и родителей. Ясно, что далеко не каждый готов выдержать это испытание свободой и, например, сразу же не пуститься в тяжкий загул, из которого можно уже никогда и не выбраться. Или же выбраться слишком поздно, когда все шансы нагнать других будут упущены… Во-вторых, студента-первокурсника неизбежно сбивает с толку обилие чужих или малознакомых людей, многие из которых поначалу кажутся поразительно яркими, талантливыми и располагающими к общению, а впоследствии оказываются дураками и ничтожествами. К сожалению, на выяснение этого печального обстоятельства может уйти уйма времени и сил. Третья причина – это повальное неумение правильно организовать свои занятия, и как следствие – нарастающий завал с учебой. А поскольку в вузе нет нянек и каждый предоставлен сам себе, уже ко второй сессии как минимум четверть людей безнадежно отстают и становятся кандидатами на отсев. Четвертое – это то, что романтично настроенные молодые люди обычно не понимают одной простой, но важной вещи (впрочем, никто им этого и не объясняет): в любом вузе на 1–3 курсах нет интересных занятий по профессии, а есть только однообразная и несерьезная работа-учеба по общим предметам и дисциплинам. Специализация начинается позднее, но к этому моменту многих уже постигает страшное разочарование в избранном пути, и они, опять-таки, просто перестают учиться.
– Хорошо, допустим, все обстоит именно так, как ты говоришь, – растерянно сказал Морозов. – Но какой ты делаешь вывод? Что из всего этого следует?
– А следует из всего этого только одно: что молодым людям не стоит нервничать и суетиться попусту, – хладнокровно ответил многомудрый Фурман. – Кстати, кажется, мы уже подъезжаем… Так, станция Икша. Быстренько выходим!
Посрамленный Морозов получил возможность выразить Фурману свое завистливое восхищение лишь через несколько минут, когда электричка угрохотала и они остались одни на быстро опустевшей платформе.
По обе стороны железной дороги широкой полосой лежали перепаханные поля, а за ними неровными уступами синел лес. Во внезапно накатившей тишине на пристанционных деревьях возбужденно перекликались какие-то мелкие здешние птицы. Бодрыми порывами налетал свежий загородный ветерок. Сквозь легкие серые облака нежно пригревало утреннее сентябрьское солнышко.
Сориентировавшись по карте, Фурман с Морозовым перебрались через пути, от которых волнующе пахнуло знакомым с детства тяжелым маслянистым запахом, и вскоре вышли на узкое местное шоссе, по которому им теперь предстояло двигаться примерно три километра до пересечения с маленькой безымянной речкой или ручьем.
Асфальт на шоссе оказался на удивление ровным, и в начале пути каждый шаг доставлял какое-то необыкновенное удовольствие. На ходу они продолжали вести неторопливую уважительную беседу на подбрасываемые Морозовым темы.
Краем глаза Фурман с тревогой отмечал, как быстро сгущаются облака и тускнеет воздух. Когда спустя сорок минут они приблизились к небольшому поселку с ухоженными домиками, закапал дождь. Они старались мужественно не обращать на него внимания, но, дойдя через пару сотен метров до отмеченного на карте ручья, у которого им следовало свернуть в лес, все же решили переждать непогоду под аккуратным с виду каменным мостом. Однако внизу все оказалось «как везде», и они, брезгливо поглядывая под ноги, встали у самого входа под арку – просто чтобы головы не так мокли.
Сердито отшумевший ливень перерос в унылый мелкий дождик. Судя по всему, зарядил он надолго. Торчать неизвестно сколько среди этой вони было глупо. Как говорится, не за этим они сюда ехали из самой столицы! Посовещавшись, они решили, что правильнее будет войти в лес и приступить к выполнению задания. Морозов попросил Фурмана подождать еще минутку; достав из сумки газету, он несколькими отработанными движениями ловко сложил из нее треуголку и нахлобучил себе на макушку, сразу сделавшись похожим на маляра. Зато теперь и Фурман мог натянуть свой капюшон (до этого он не накрывал голову из молчаливой солидарности с напарником). Выйдя под дождичек, они направились вдоль ручья по хорошо утоптанной тропе.
Живописные окрестности имели вполне обжитый и окультуренный вид: чистые крашеные скамейки, детская площадка, что-то вроде песчаного пляжа на берегу ручья, тут и там – скульптурно обработанные пни… (Интересно, что от всего этого останется, если здесь просто пройдут мимо несколько тысяч человек с рюкзаками и прочим туристским скарбом?) Но вскоре тропа сузилась и запетляла по неухоженному смешанному молодому лесу. Через каждые двести метров разведчики ненадолго углублялись в него, держа в памяти, что ручей должен оставаться в пределах досягаемости.
Чем дальше от поселка, тем сильнее и красивее становился лес. Блуждая среди наполненных густой молчаливой жизнью стволов, уклоняясь от их защитных колючих сетей, пробиваясь сквозь гибкие агрессивные заросли к обманчиво манящим просветам, Фурман с Морозовым постепенно расходились в разные стороны, но периодически окликали друг друга и снова сближались.
Пара обнаруженных ими довольно уютных полян явно не подходили по размеру для большого лагеря, поэтому они продолжали продвигаться дальше по тропе, совершая вылазки.
Между тем дождь как-то незаметно прекратился, тучи разогнало, и сквозь листву в голубеющем небе засверкало солнышко.
…А у Фурмана начала побаливать голова. По печальному опыту зная, что головная боль у него никогда не проходит сама собой, но может становиться невыносимой, он предусмотрительно прихватил в дорогу проверенную таблеточку. Вот только запить ее сейчас было нечем (запастись питьем ни он, ни Морозов не догадались), поэтому Фурман решил еще немного потерпеть.
Ориентировался он в лесу не очень хорошо (да и отяжелевшая голова этому не способствовала). Выйдя в какой-то момент к ручью, он вдруг подумал, что в сапогах его вполне можно перейти вброд. Идея ему очень понравилась – ведь это сразу вдвое увеличивало зону поиска!
Другой берег оказался сильно заболоченным и весь зарос каким-то высоким и труднопроходимым кустарником. Минут через пятнадцать, когда Фурман потерял всякое представление о своем местонахождении и заметался, его вдруг снова вынесло к ручью – но теперь прямо напротив детской площадки, которую они видели в самом начале маршрута. Пораженный своим загадочным промахом, Фурман уже напрямик перебрался на ту сторону и побежал по знакомой тропе назад. Как это могло произойти? Почему он сделал такую огромную петлю? А главное, что Морозов наверняка уже хватился его… Вот ужас-то!.. Добежав на цыпочках до какого-то смутно знакомого места, он вломился в чащу, прорвался сквозь нее, слегка отдышался и потом громко позвал Морозова. В голове били тяжелые молоты… Через пару минут Морозов отозвался (оказалось, недалеко ушел), и нелепая фурмановская оплошность осталась тайной.
При очередной встрече они заметили, что впереди тропа забирается в горку, и решили взглянуть на окрестности с этой небольшой высотки. Но вид оттуда оказался намного внушительнее, чем это можно было себе представить. Дальше пейзаж радикально менялся: впереди один за другим вздымались неожиданно крутые и очень живописные лесистые холмы; от узкой вершины, на которой они остановились, склон резко уходил вниз, и свой ручеек они обнаружили не сразу – он скрывался среди зарослей и уходил в обрывистое ущелье между ближними холмами. Для Подмосковья эта местность казалась совершенно нехарактерной.
Кроме того, им стало понятно, что плоских полян нужного размера здесь не может быть по определению.
Фурман решил свериться с картой (до этого ему и в голову не приходило обратить внимание на отметки высот). И тут Морозов меланхолично заметил, что и сам этот ручей им явно не подходит – он слишком мелок для предполагаемого количества народа, и его просто затоптали бы в первые же два часа…
Подуставшего Фурмана эта запоздалая констатация очевидного факта мгновенно разозлила:
– Так что ж ты сразу об этом не сказал?! – хищно прищурился он. – Получается, мы зря проболтались на этом пятачке почти три часа!
– Ну, я подумал, что ты сам это понимаешь, но по каким-то причинам все-таки хочешь искать здесь… Ты ведь у нас командир.
– Ладно, – сурово сказал Фурман, – значит, теперь мы должны побыстрее двигаться дальше и найти другое, более подходящее место.
– И куда ты планируешь идти?..
У верхнего края карты был еще один ручей, который вроде бы выглядел на полмиллиметра шире, чем первый. В том же районе были обозначены какие-то довольно большие продольно расчерченные территории – скорее всего поля. Возможно, это именно то, что требовалось. По прямой туда было километра три-четыре. Но тропа, тянувшаяся по холмам вдоль ручья, вскоре вместе с ним уходила куда-то в другую сторону, и дальше путь лежал через глухой лес. Перспектива, мягко говоря, неприятная, ориентироваться придется по солнышку, но других вариантов не было.
– Ну, варианты-то всегда есть, – скучным голосом возразил Морозов. – Честно говоря, я склоняюсь к тому, что сейчас нам было бы правильнее всего повернуть обратно. Пока погода снова не стала портиться…
– Как это – повернуть обратно?! – опешил Фурман. – Мы же еще не выполнили задание! Люди на нас рассчитывают! А мы тут погуляли в свое удовольствие, подышали свежим воздухом, и все? Нет, извини, я так не могу.
– Подожди, не кипятись! Я лично вовсе не считаю, что мы потратили время попусту. Во-первых, мы с тобой смогли пообщаться и обсудить интересующие нас обоих темы, а это уже само по себе не так мало. Я шучу, конечно… На самом деле за эти два с половиной или даже три часа мы провели тщательное обследование достаточно большого участка. Причем, обрати внимание, те, кто нас сюда направил, отметили его на карте как преимущественный район поиска. Мы с тобой облазили всю округу и убедились, что здесь отсутствуют необходимые для проведения слета условия. Но, поверь мне, в полученном нами нулевом результате нет ничего катастрофического. Более того, я бы даже взял на себя смелость утверждать, что такой результат совершенно нормален и естественен. Правда заключается в том, что подавляющее большинство остальных разведчиков точно так же вернутся в Москву ни с чем. Повезти может только кому-то одному или максимум двум. Но это уже просто дело случая. А мы с тобой честно выполнили порученное нам дело и можем с чистой совестью возвращаться домой…
Фурман злобно фыркнул.
– Тем не менее, Саня, если ты считаешь, что мы во что бы то ни стало должны проверить еще какой-то участок, я не буду тебя отговаривать. И уж конечно, не брошу тебя одного в этом гадком страшном лесу! Но взгляни еще раз на карту. Там, где, как тебе показалось, находится удобное для стоянки место, сбоку маленькими буковками написано: «Экспериментальные поля ВАСХНИЛ». Вот, видишь? То есть это не какие-то никому не нужные и заброшенные совхозные поля. Исходя из их принадлежности Академии сельского хозяйства, рискну предположить, что там все плотно засеяно какими-нибудь ценными экспериментальными сортами и культурами. А отсюда можно сделать вывод, что территория эта наверняка очень хорошо охраняется. И даже если на нас двоих сейчас никто не обратит внимания, огромную толпу туда точно никто не пустит… Но допустим, что там нет никаких экзотических посадок. Существует не меньшая вероятность, что это какие-нибудь экспериментальные поля аэрации, и тогда вокруг них будет стоять такая чудовищная вонь, что туда и на пару километров не подойти без противогаза. Если ты очень хочешь проверить, какая из моих версий окажется правильной, воля твоя. Мы можем сейчас двинуться дальше и несколько часов пробиваться через глухой незнакомый лес с помощью этой совершенно бесполезной карты, на которой, кстати, в этом районе почему-то не отмечено ни одной тропы. Думаю, нам очень повезет, если мы вскоре не окажемся в каком-нибудь огромном болоте. Но допустим даже, что мы еще засветло пройдем этот огромный лес без всяких приключений и не заблудимся в нем. Предположим также, что мы, ориентируясь по солнцу, как ты предложил, в конце концов выйдем приблизительно туда, куда нам нужно, и сможем подобраться к этим полям поближе. Что дальше? Ты должен отдавать себе отчет, что без еды и питья это будет для нас тяжелейшим испытанием. А ведь нам еще придется как-то выбираться оттуда. Судя по карте, железной дороги там нет. А это, скорее всего, значит, что мы должны будем проделать весь этот путь еще раз. Честно говоря, об этом даже подумать страшно. Нет, Сань, я бы не стал браться за это дело.
…Фурман чуть не расплакался от охватившей его бессильной злобы. Но, похоже, Морозов был прав. А если и не совсем прав, то все равно в правый висок и глаз Фурмана уже начало медленно ввинчиваться горячее адское сверло. Так что обратная дорога в любом случае будет пыткой.
Возможно, в поселке рядом с мостиком им удастся раздобыть воду, чтобы запить таблетку. Хотя бывало и так, что одной таблетки не хватало. И что он тогда будет делать…
– Саня, тебе решать. Но в этой ситуации никто не сможет нас с тобой упрекнуть, что мы могли сделать что-то еще и не сделали, – твердо сказал Морозов.
Фурман угрюмо молчал, не желая признавать поражение. Возненавидеть Морозова, как он того заслуживал, мешала головная боль.
– Не хочу тебя торопить, но время идет, – терпеливо заметил Морозов. – Если мы прямо сейчас двинемся быстрым шагом к станции, то у нас еще есть шанс успеть на электричку, которая отправляется примерно через час. А дальше по расписанию, насколько я помню, будет большое двухчасовое окно. Ну, так как мы поступим?
– Ладно, возвращаемся, – процедил Фурман.
– Я не сомневался, что ты примешь правильное решение.
Они сразу взяли такой темп, что внимание пришлось полностью сосредоточить на движении. Для вязнущего в болевом тумане Фурмана так было даже проще.
Когда они оказались в поселке, он поискал глазами колодец или колонку. Ничего. Конечно, можно было бы постучаться в один из ближайших домов и попросить воды запить таблетку. Но так как любая задержка была чревата опозданием на электричку, а потом и кошмарным двухчасовым ожиданием следующей, Фурман решил не останавливаться. Впрочем, в коротком сне на ходу он все же сделал это и, получив помощь от добросердечной одинокой женщины средних лет, испытал странное облегчение…
Шоссе по дороге к станции делало довольно большую петлю, поэтому Морозов предложил срезать путь и идти напрямик. Фурман вяло пробормотал, что это будет намного тяжелее: здесь-то травка, кусты, а кто знает, что там дальше, за теми холмиками, – вдруг болото. Но Морозов жестко сказал, что иначе им не успеть. Возражать было себе дороже, и они поперлись по пересеченной местности.
Становилось все жарче. На открытом пространстве солнце так по-летнему раскочегарилось, что Морозов вскоре решительно разоблачился по пояс и бодро призвал Фурмана последовать своему примеру. Куртку Фурман снял, а свитер так и не решился – байковая рубашка и майка под ним все равно уже давно промокли насквозь, и на легком, но порывистом ветерке немудрено было и простудиться; да и из-за головной боли ему становилось все хуже. Он начал отставать, и Морозову несколько раз пришлось его поджидать. Фурман наконец сказал ему про свою голову, и теперь тот посматривал на него с молчаливым сочувствием.
Как бы то ни было, большую часть пути они преодолели без особого труда. Но на самом последнем участке, когда до станции было уже рукой подать, их ждала коварнейшая полоса препятствий в виде вспаханного поля.
Двигаться поперек осыпающихся и проваливающихся полуметровых земляных волн было так тяжело, что Фурман почти сразу полностью обессилел и утратил всякую волю шевелиться. Он готов был отказаться от всего и просто повалиться в первую попавшуюся борозду; даже сказал Морозову, чтобы тот шел дальше один, а он, мол, посидит немного и догонит… Морозов велел ему держаться: Саня, нам осталось пройти какие-то жалкие пятьсот метров! Соберись, мы успеем! Предложил опереться на его плечо… Ну, это было бы уже просто черт знает что. Фурман трясущимися руками достал свою заветную таблетку, кое-как проглотил ее всухую, потом стянул через голову свитер и, матерясь про себя, пошел вперед напролом…
…Они были в электричке, она ехала. Успели. Хорошо. Таблетка с кофеином понемногу начала действовать. Морозов сидел напротив и читал развернутую газету. Заметив, что Фурман открыл глаза, он поинтересовался его самочувствием и заботливо сказал, чтобы он продолжал отдыхать. Но уже через несколько минут завел разговор сначала о только что прочитанной статье, потом о профессии журналиста вообще, о правде, рутинной официальной лжи и выборе, который всегда стоит перед каждым пишущим человеком… Фурман еще не вполне включился и только вяло кивал в знак поддержания общения.
С журналистики Морозов перекинулся на литературу: мол, ты как писатель, вероятно, тоже сталкиваешься в своей работе с подобными проблемами; как ты наверняка помнишь, Камю в своем эссе «Миф о Сизифе» блестяще показал… Увы, Фурман читал только «Постороннего», напечатанного в каком-то старом номере «Иностранной литературы», но после величественных надрывов Достоевского эта небольшая прозрачная вещь показалась ему мелковатой и несколько «литературной». Однако разочаровывать пылкого собеседника и объясняться было бы для него сейчас слишком трудной задачей, поэтому Фурман просто сказал, что читал Камю очень давно, и попросил Морозова напомнить подробности.
По мере приближения к Москве народа в вагоне стало понемногу прибавляться. На одной лавке с Фурманом теперь сидела немолодая интеллигентная женщина в очках, сосредоточенно читавшая журнал «Наука и жизнь».
Морозова явно увлекала «проблематика абсурда вообще», как он это обозначил. В его быстрой, раскованной и чрезвычайно организованной речи мелькали имена Сартра, Ионеско, Беккета, о которых Фурман только слышал… Хотя в драматургии все это началось, несомненно, еще с Чехова… Впрочем, тема была намного шире литературы, и Морозов уже пару раз использовал залихватскую присказку: «Понимаешь, Саня, в нашем достаточно абсурдном мире…», «Надеюсь, ты согласишься с тем, что в нашем достаточно абсурдном мире…» Фурман, веривший в гуманизм и возможность построения справедливого коммунистического общества, вовсе не считал, что миром правит абсурд; к тому же его отталкивала сама манерная «декадентская» интонация, с которой это произносилось, – тем более при совершенно чужих людях. (В какой-то момент его соседка удивленно прислушалась к речи Морозова и окинула их обоих внимательным насмешливым взглядом поверх очков.) Фурману стало стыдно за весь этот мальчишеский театр. Показав Морозову, что они здесь все-таки не одни, он попытался перевести разговор с рискованных мировоззренческих тем на что-то более нейтральное, бытовое. Однако Морозов только усмехнулся. «Если ты о стукачах, то их и так повсюду полно», – без всякого стеснения объявил он. Кстати, ему представляется чрезвычайно интересной задачей подумать над сюжетом романа, центральным персонажем которого был бы именно стукач. В экзистенциальном плане, на его взгляд, это одна из интереснейших фигур нашего времени, а возможно, в чем-то даже и ключевая. Повествование могло бы вестись непосредственно от лица такого человека – что-то в духе «Записок из подполья» Достоевского или Камю, но, естественно, на современном материале и еще более остро-провокационно. Как тебе такой замысел?..
К счастью, за окном уже началась Москва.
На вокзале они распрощались: Фурману нужно было к метро, а Морозову – на автобусе в другую сторону, он жил где-то не очень далеко. Что ж, приятно было пообщаться, еще увидимся, Борьке привет, и т. д., и т. п.
Уф! Оставшись один, Фурман испытал острое чувство освобождения – новый знакомый его изрядно утомил. Да и сам он, скорее всего, произвел на него не слишком благоприятное впечатление… Что ж, наверное, это был просто неудачный, потраченный впустую день. Отоспать ся и забыть.
Минаева очень интересовало, как прошла встреча двух его друзей. Фурман бодрячком отчитался ему о состоявшейся высокоинтеллектуальной беседе и мягко пожаловался на то, что посередине маршрута Морозов, воспользовавшись его головной болью и плохим самочувствием, довольно ловко надавил на него и сумел уговорить прекратить поиски, хотя вообще-то они еще могли бы… «Да, я тебя понимаю, Морозов парень непростой, конечно, – ухмыльнулся Борька. – Но, если говорить в общем и целом, я рад, что вы с ним сошлись. Надеюсь, это будет полезно для всех…» Месяца полтора о Морозове ничего не было слышно. Потом он стал появляться в редакции; Мариничева и Наппу с восхищением говорили о его «блестящих способностях»
(Макс при этом ревниво поджимал губы и холодно улыбался одними глазами), Соня тоже отзывалась о нем с симпатией, оговариваясь, правда, что совсем его не знает, – в общем, вскоре все согласились, что Морозова пора вводить в круг.
Ближайшим поводом для этого стала очередная поездка в Переделкино. Уходя в армию, Валька Юмашев настойчиво просил не забывать его маму, навещать ее и при случае оказывать мелкую помощь по хозяйству (в основном требовалось обновлять запасы угля, которым отапливалась их избушка). Об этом же он постоянно напоминал всем в своих письмах. Мама его, работавшая истопником в соседнем детском санатории, была чрезвычайно дружелюбным человеком и с радостью принимала их даже большими компаниями.
В этот раз в Переделкино собрались Макс, Друскина, Фурман, неожиданно объявившийся Дубровский и Валькин приятель Эдвин. Минаев, который обещал приехать с Мариничевой попозже, настоял, чтобы они взяли с собой и Морозова.
В электричке Морозов в своей уже знакомой Фурману манере подбрасывал спутникам острые темы для разговоров, но реагировали все вяло, да и ехать было недолго.
От станции нужно было еще минут сорок идти по шоссе в сторону озера. Справа на горке виднелось кладбище с могилой Пастернака, в поселке был его дом, дальше – поле, не раз появлявшееся в его стихах. Вон там жил такой-то прославленный писатель, а там, за глухим забором, – дача другого, еще живого… Переделкино было легендарным местом советской литературы, и все культурные люди запросто ориентировались здесь в отличие от Фурмана, который лишь благоговейно помалкивал, озираясь по сторонам.
Для начала ноября погода выдалась вполне приятная, даже солнышко разок ненадолго выглянуло, хотя заледеневшие лужи на дороге уже не таяли, а поле было седым от инея.
У знаменитой речушки, ныне забранной в бетонную трубу, между Максимовым и Морозовым вдруг разгорелся нелепый спор – то ли о ее глубине и возможности перейти вброд, то ли о какой-то изысканной поэтической подробности, – и, чтобы разрешить его, всем вслед за спорщиками пришлось сойти с шоссе и по скользкой глиняной тропинке направиться в обход огороженных участков к заросшему кустами заболоченному берегу. Морозов, несмотря на уговоры сопровождающих не лезть на рожон и пожалеть обувь, рвался продемонстрировать свои доказательства. Цепляясь за кусты, он стал смело пробираться по самому краю. В какой-то момент земля у него под ногами внезапно обрушилась, и он по бедра провалился в воду. Что, в общем-то, и требовалось доказать.
Добровольцы-спасатели кое-как вытянули утопающего на твердое место. Пока Морозов, мужественно посмеиваясь над собой, выливал воду из ботинок, Друскина сердито выговаривала ему за пережитое волнение, а признанный победителем Максимов скорбно покачивал головой.
Когда все вернулись на шоссе, встал вопрос, что теперь делать. Возвращаться в Москву? Всем вместе или разделиться? Но на станции можно прождать и час, и два, плюс еще дорога по городу. Попробовать остановить машину и попросить подвезти до Валькиного дома? Но шоссе было совершенно пустым – за все время мимо проехала только одна машина, да и то в противоположную сторону. Морозов прямо на себе деловито отжал брюки и сказал, что дойдет так. Тогда уж лучше их совсем снять, посоветовал Дубровский. И идти босиком… Впрочем, смех смехом, а ведь он вполне мог серьезно простудиться.
– Чтобы не замерзнуть, ему нужно не идти, а бежать! – сообразил Фурман, и все дружно принялись убеждать Морозова, что это единственное разумное решение в данной ситуации. Через 15–20 минут он будет уже в теплом доме. Валькина мама даст ему сухую одежду. И нужно попросить ее нагреть воды, чтобы попарить ноги. С горчицей – тогда он точно не заболеет! Особенно, если ему еще предложат стакан водки «для сугрева»… «А что, ребят, раз такое дело, может, нам всем имеет смысл окунуться?!» – оживился Дубровский.
Морозов упирался: мол, ни к чему это, он не знает дороги и даже не знаком с Александрой Николаевной… Но ему объяснили, что все эти проблемы решаются очень просто, и буквально погнали вперед. Он неспешно потрусил по шоссе, и все стали задорно требовать, чтобы он побыстрее шевелил ногами и не халтурил. Сделав короткий рывок – смотрите-ка, может ведь, гад, если захочет! – Морозов небрежно помахал им рукой и упрямо перешел на шаг.
С открытого пространства подул резкий холод ный ветер.
Глядя на одинокую смешную фигурку, которая вот-вот должна была скрыться за поворотом, Фурман вдруг ясно представил, с каким ощущением тотального жизненного абсурда Морозов в своих мокрых, противно липнущих к ногам штанах и отвратительно чавкающих ботинках бредет неизвестно куда по совершенно пустому шоссе среди голых осенних полей под равнодушным серым небом, – и испытал острую жалость к нему. Неправильно было отпускать его одного. Да еще и с такими грубыми насмешками… Но это уже случилось, и все выглядели вполне довольными своими усилиями. Поймав и у себя на мордочке приклеенную картонную ухмылку, Фурман ужаснулся: ладно, им простительно, они все творческие личности и убежденные индивидуалисты, даром что считают себя интеллигентными людьми, – но сам-то он как смеет после этого называть себя коммунаром?!
Он уже понял, что должен сделать. Но что сказать остальным? Ему очень не хотелось, чтобы они увидели в этом некий демонстративный «моральный укор» в свой адрес (проклятая Мариничева – всем им испортила мозги своими «педагогическими» манипуляциями!)…
– Чего-то он там, по-моему, еле тащится, – сказал Фур ман. – Я, пожалуй, догоню его и дальше побегу вместе с ним.
Все посмотрели на него с изумлением.
– Просто лучше, если кто-то будет все время его под гонять. А то у него самого, похоже, нет никакого стимула напрягаться. Так он и правда может заболеть, – пояснил Фурман.
Все пожали плечами. В Сониных глазах мелькнуло какое-то непонятное выражение, но она промолчала.
– Ну ладно, тогда я побежал. Будем ждать вас там… Надеюсь, вы без меня больше не станете баловаться и искать приключений себе на голову? – не удержался он.
– Фурман, кончай трепаться, – добродушно проворчал Дубровский. – Беги уже, коли решил…
Он помчался легко и собранно, как по ниточке, чувствуя себя на сцене и стремясь поскорее исчезнуть за поворотом. Вне зоны видимости он сразу сбавил темп и постарался восстановить ровное дыхание – бежать-то им предстояло еще довольно долго.
Морозов в глубокой задумчивости вышагивал метрах в десяти впереди, и, чтобы не напугать его своим топотом, Фурман тоже пошел, но чуть быстрее, чем он. И все же когда Фурман, оказавшись у него за спиной, позвал его по имени, он вздрогнул от неожиданности и отшатнулся. Чуть в кювет не свалился, бедняга.
– Не бойся, это всего лишь я! – весело сообщил ему Фурман. – А ты думал кто?
Морозов что-то растерянно пробормотал в ответ и потом с тревогой спросил:
– У вас что-то произошло?
– Да вроде ничего не произошло. Просто мы о тебе беспокоились… Ты разве не рад меня видеть?
– Нет, я, конечно, очень рад… Но все-таки скажи, почему ты здесь?
Фурман откровенно объяснил, как он видит свою роль и их общую задачу.
– Ну нет, зачем это надо? – уперся Морозов. – Вы мне все очень понятно объяснили, и теперь я сам прекрасно дойду.
…Это было просто нелепо – он замерзает, и его же еще приходится уламывать! А ведь того и гляди, вся компания появится из-за поворота и увидит, как они тут препираются вместо того, чтобы… В следующую минуту Фурман, применив все свое красноречие, сумел добиться от Морозова согласия не только «потерпеть его присутствие», но и бежать, а не идти! К счастью, когда до них долетели приветственные крики и посвисты, они уже на пару трусили по асфальту. Постепенно Фурману удалось увеличить скорость, и основную часть пути они проделали в довольно приличном темпе.
В какой-то момент, когда у Фурмана уже все начало плыть перед глазами и он готов был сдаться, Морозов предложил притормозить на минутку, чтобы слегка отдышаться.
– Ну как ты? Тебе не холодно? – заботливо спросил Фурман, с трудом переставляя задеревеневшие ноги.
Морозов, тяжело отдуваясь, помотал головой. Потом остановился, отлепил штанину и несколько раз одернул ее, пытаясь расправить:
– На мне все уже почти высохло.
– Да, и теперь, похоже, их можно будет еще долго не гладить, – подхватил Фурман. – Стрелка у тебя получилась просто на загляденье!
Они пошутили также насчет носков и ботинок. Потом пошли молча, примериваясь к следующему этапу – возможно, последнему.
– Саня, должен тебе все-таки сказать одну вещь, – заговорил Морозов. – Конечно, я пропустил момент – надо было сделать это сразу, но… не получилось. Тем не менее, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так вот, на самом деле я тебе страшно благодарен и даже, можно сказать, поражен тем, что ты решил поддержать меня в этой трудной ситуации. Хотя ведь мы с тобой, в общем-то, едва знакомы…
– Ну почему же? – с иронией возразил Фурман. – Я довольно хорошо запомнил наш первый совместный поход… Да и вообще, о чем тут говорить? Уверен, что на моем месте так поступил бы каждый! Если честно, то это как раз я должен извиниться за то, что не сразу сообразил побежать с тобой. И присоединился к общему, так сказать, хору насмешек.
– Да ну, брось, о чем ты?! – отмахнулся Морозов. – Я ничего этого даже не заметил. Вы все замечательные люди!
Они еще немного посмеялись и побежали дальше.
У первокурсников-журфаковцев шла своя, наполненная разнообразными событиями жизнь, о которой Фурман узнавал лишь из случайных разговоров. Например, он знал, что Минаев с Морозовым развели бурную деятельность в ШЮЖе, где они теперь вели группы уже в качестве преподавателей. Но чем именно они там заняты, можно было только догадываться.
Параллельно Минаев, Друскина и Машка увлеклись идеей создания «песенного театра» и даже вступили в таинственные переговоры с кем-то из влиятельных Машкиных знакомых в КСП. Фурман с самого начала относился к этой идее скептически. Когда он спросил, как Борька видит свое участие в будущем театре, тот весело, но с достоинством ответил, что готов взять на себя роли бессловесных героев второго плана, которые имеются почти в любом порядочном спектакле, а на худой конец может открывать и закрывать занавес во время представлений, для чего тоже не требуется открывать рот. (Фурман вовсе не имел в виду его заикание, но Борька почему-то понял его вопрос именно так.) Из его и Сониных странно уклончивых объяснений Фурман ревниво догадался, что под влиянием Машки замысел постепенно приобретает какую-то нехорошую «полудиссидентскую» направленность. Вскоре Соня проговорилась, что их согласился взять под свое крыло человек «с многозначительной и легко запоминающейся фамилией Российский» (Фурман заметил, что жить с такой необычной фамилией, наверное, непросто, а если это псевдоним, то тем хуже для него). По информации Наппу, в среде самих каэспэшников Российский имел очень нехорошую репутацию: некоторые безусловно уважаемые люди считали его опасным провокатором, если не прямо стукачом. Но поскольку все переговоры с ним, естественно, были завязаны на Машку, а она и слышать ни о чем таком не хотела, выйти из игры было уже невозможно – ведь Машка наверняка посчитала бы, что ее просто предали. Что ж, оставалось только надеяться, что этот странный союз развалится раньше, чем их всех заметут.
Впрочем, «замести» в любой момент могли не только их. Как раз в начале осени Наппу уговорил Фурмана записаться вместе с ним и еще парой общих знакомых в подпольную секцию карате. В СССР карате было официально запрещено. Все помнили, что год или два назад против нескольких известных мастеров были заведены уголовные дела, и о том, что их посадили, причем надолго, даже писали в газетах. Но, видимо, этими «показательными» процессами все и ограничилось, потому что платные группы по изучению карате продолжали относительно спокойно существовать на нелегальном положении.
Вечерние занятия секции для начинающих проходили два раза в неделю в спортзале обычной средней школы. Учеников обычно набиралось человек 1520. На занятие все выходили босиком, в белых запахивающихся куртках для самбо (вместо кимоно) и легких белых портках до щиколоток (которые приходилось шить в домашних условиях, так как в спортивных магазинах ничего подходящего не было). В комплекте с самбистскими куртками продавались прочные тканевые пояса защитного цвета, и начинающие каратисты обшивали их полосками из белых простыней (белый пояс означал нулевую стадию ученичества). Учителем был невысокий, атлетически сложенный мужчина лет под сорок, с круглыми карими глазами, сломанным носом, густыми холеными рыжими усами и выразительным тяжелым подбородком. Его следовало называть «сэнсэй» и приветствовать по-японски с четким поклоном. В отличие от учеников на сэнсэе были «фирменная» каратистская куртка с маленькой фабрично вышитой эмблемой японской школы бесконтактного карате «Шотокан», «правильные» штаны и коричневый пояс мастера. Как сообщил всезнающий Наппу, «по первой специальности» сэнсэй был мастером спорта по боксу и «в миру» носил редкое имя Ганс (не исключено, что это была лишь его дружеская кличка, случайно услышанная кем-то из учеников, потому что по имени никто из них к нему не обращался, а фамилия его тщательно скрывалась в целях конспирации).
Фурману сразу понравился весь этот легкий японский привкус: лаконично подчеркнутая и чуть театральная дисциплина, скульптурно выразительные «фундаментальные стойки», продуманная танцевальная отточенность каждого движения, крик «Кия-а!» в высшей точке напряжения… Гибкости и растяжки ему, конечно, не хватало, но у большинства других с этим было гораздо хуже. А уже на втором занятии сэнсэй при всех отметил, чо у Фурмана вполне прилично получается скользящий каратистский шаг. (Правда, получается благодаря не столько усердию, сколько определенным природным способностям, добавил он, чтобы ученик не зазнавался.)
Начинающие каратисты должны были учиться сохранять равновесие в движении, поэтому Фурман в метро и даже в автобусе перестал держаться на ходу за поручень и, как дурак, сосредоточенно пружинил на полусогнутых ногах, при резких толчках заваливаясь на окружающих.
Еще ему очень нравилось то, что в бесконтактном карате любой наносимый удар должен был виртуозно останавливаться в сантиметре от цели.
Как-то на занятии Фурман с Наппу оказались в паре при отработке одного из самых мощных и сложных ударов ногой – «маваши-гири». Это был целый комплекс движений, плавно переходящих одно в другое: после короткого двухшагового разбега нужно было, подняв согнутую в колене правую ногу в горизонтальное положение на уровне бедра, одновременно развернуться боком на левой – опорной – ноге и нанести удар наружным ребром правой стопы, вложив в него инерцию бедра и сохраняя равновесие с помощью резкого разнонаправленного движения обеих рук. Каждый делал по пять заходов, а потом защищался (правда, сэнсэй объяснил, что блок рукой против такого сильного и тяжелого удара в реальной ситуации бесполезен – лучше просто отскочить назад). Фурман долго тренировал этот удар дома и был настроен серьезно, а вялый тщедушный Наппу со своей ласковой улыбочкой нелепо болтал конечностями и был похож на психа в великоватой больничной пижаме. А ведь Фурман с недавних пор и его стал – пусть и с печальной иронией – называть «сэнсэем»! Собрался бы, позорище!..
Учитель, наблюдавший за одной из соседних пар, посоветовал увеличить концентрацию ударной силы в крайней точке движения. Фурман нашел в этой рекомендации удачный выход своему раздражению и начал с каждым разом все более мощно и свирепо выходить на удар, вкладывая в него на выдохе всю силу и с удовольствием слыша, как прихлопывает в коротком полете свободная ткань. «Фурман, ты меня так убьешь! Полегче! Передохни немного…» – с укором сказал ему запыхавшийся Наппу. Но один из соседей одобрительно подмигнул Фурману, и в следующей серии он продолжил свой торжествующий демонический танец. Правой, левой, поворот, выстрел, «кий-я!»… На этот раз он взял такой могучий разбег, что его опорную ногу словно подхватило ураганным ветром – она предательски поехала, Фурман грохнулся на задницу, и его с позором выбросило прямо к ногам испуганно отступившего хлипкого учителя. Все вокруг захохотали. Это и впрямь было смешно, и Фурман, несмотря на боль, тоже заулыбался. «Вот видишь! – с хитроватой назидательностью сказал Наппу. – Я ведь тебя предупреждал, что это плохо кончится. А ты меня, как всегда, не послушал. Ладно уж, давай руку!..»
Однажды сэнсэй преподал ученикам странный урок. Двум самым умелым и опытным из них было разрешено устроить давно ожидаемый спарринг. Оба участника – а это были староста группы и его заместитель – занимались уже второй год и намного превосходили остальных в технике. Староста был высокий, стройный, чрезвычайно положительный и, судя по его заграничной одежде, отличным ботинкам и кожаному «дипломату», хорошо обеспеченный молодой человек. Он уже «дослужился» до красного ученического пояса, готовился к первому экзамену в центральной школе, и куртка у него была настоящая японская, как у сэнсэя. Следить за тем, как он выполняет упражнения, было удовольствием: его длинные руки и ноги двигались как мощные, отлично смазанные рычаги. Второй ученик производил куда менее приятное впечатление: среднего роста, слегка сутулый, тощий, нервный, с горбатым заостренным носом и жирными черными волосами, он и держался всегда с какой-то грубоватой надменностью. Но на занятиях выкладывался полностью.
Взволнованные предстоящим событием зрители расселись на узких низких скамьях, которые стояли вдоль стен. Бойцы вышли на середину зала, поклонились сначала сэнсэю, потом друг другу, и бесконтактная схватка началась. Большая разница в росте позволяла старосте удерживать своего соперника на дистанции и методично проводить серии демонстративных дальних ударов. Все попытки черноволосого атаковать почти сразу захлебывались. Минуты шли, и от безнадежности он начал заметно горячиться: его движения потеряли четкость, стали более суматошными и непредсказуемыми. И неожиданно это принесло ему успех: он сумел как-то по-хулигански проскользнуть сквозь частокол запаздывающей правильной защиты и яростно навтыкал смешавшемуся старосте несколько сильных обозначающих ударов в корпус. Один из них нерасчетливо угодил старосте прямо в пах, но злобный парень словно бы не заметил этого опасного нарушения правил и продолжал атаковать. Вероятно, в суматохе он еще раз жестко попал в бедного старосту, потому что тот вдруг потерял координацию и стал похож на какую-то огромную, беспомощно надломившуюся металлическую конструкцию, которая вот-вот завалится. Чтобы остановить схватку, подбежавшему учителю пришлось с силой оттолкнуть черноволосого в сторону. Тот сразу сник и только злобно посверкивал глазами на возмущенных зрителей. Согнувшегося пополам старосту усадили на лавочку. Несколько минут все возбужденно галдели, обсуждая случившееся и гадая, не прекратит ли учитель занятие. Но сэнсэй велел всем успокоиться и сесть на свои места. Он холодно попросил черноволосого извиниться, как положено, перед своим пострадавшим партнером и остальными учениками – что тот и сделал со строгими поклонами в разные стороны, – а потом вдруг предложил ему продолжить прерванный спарринг. С кем продолжить? С ним. Ученик замялся: такое происходило впервые. Растерянно поклонившись, он пробормотал, что еще не готов к этому. Сэнсэй стал настаивать, но черноволосый скривил губы в блудливо-недоверчивой улыбке и отрицательно покачал головой. «Пока у тебя еще есть время подумать и все взвесить, – негромко сказал ему сэнсэй. – Но его остается совсем немного. Поэтому внимательно выслушай то, что я тебе сейчас скажу. Ты должен знать, что формально я никак не могу наказать тебя за твой проступок. Будем считать, что ты совершил его не нарочно. Но твой отказ от схватки неизбежно повлечет за собой определенные последствия. В сложившейся ситуации это для всех будет означать, что ты просто струсил. Поэтому тебе придется уйти из группы, причем не только с сегодняшнего занятия, а совсем. Если ты захочешь обжаловать мое решение, это тебе ничего не даст. В немногих подобных случаях – а такое уже бывало – ученик получал что-то вроде “волчьего билета”, и перед ним навсегда закрывались двери всех секций нашей школы. Да и большинства других приличных школ тоже. Тебе это понятно? Тогда решай. Даю тебе минуту. Мы все ждем».
После пятисекундного колебания черноволосый с отчаянно бегающими глазами кивнул, поклонился, вышел на свобод ное пространство, неловко поклонился еще раз и встал в стойку. Учитель тоже совершил короткий поклон, занял позицию и спокойно пригласил его начать атаку. Черноволосый кинулся на него, лихорадочно выбрасывая руки и ноги, потом отступил, чтобы чуть-чуть отдышаться, кинулся снова – и… его удары вдруг налетели на реально поставленные защитные блоки. Контакт был неожиданным и, видимо, достаточно болезненным. Непонимающе поморщившись, ученик опустил руки. Однако учитель спокойно велел ему продолжать. Следующая атака началась более осторожно. Но в какой-то момент противники опять опасно сблизились и зацепили друг друга. Учитель внезапно перешел в атаку… и его короткие хлесткие удары один за другим стали попадать в цель. Парень с отчаянным мужеством пытался оказать сопротивление, но учитель играючи поколотил его. Это заняло всего несколько секунд: под градом ударов черноволосый попятился, уперся в стену, беспомощно поднял руки и судорожно поклонился. Учитель остановил себя с видимым сожалением и разжал кулаки не сразу.
Урок был объявлен оконченным, и все со странным чувством раздвоенности исполнили ритуал прощания с сэнсээм.
В раздевалке все хранили неловкое молчание. Потом кто-то сочувственно спросил черноволосого, не больно ли ему, но он, презрительно скривившись, отмахнулся и быстро ушел. Впрочем, он всегда уходил один.
На следующем занятии его не было, и все решили, что он из гордости больше не появится. Но он пришел, отзанимался с прежней самоотдачей – и через неделю тоже пришел. Все вздохнули с облегчением. Но после этого он исчез.
Изредка заходя в редакцию, Фурман отстраненно отмечал появление новых людей, накапливающуюся в знакомых лицах усталость, неожиданные перемены в интонациях… Но когда Соня в разговоре с ним нежно назвала Морозова Санечкой, он все же заинтересовался. Выждав минуту-другую и прикинув, чего может стоить ему любопытство, он осторожно спросил, часто ли теперь Морозов бывает в редакции и не удавалось ли Соне пообщаться с ним поближе. Соня легко ответила, что про Морозова она не знает, так как сама последнее время забегала в «контору» лишь от случая к случаю, но пару раз они здесь действительно пересекались и немного поболтали. А что? Ничего, просто в их маленьком кругу любое общение с Морозовым сейчас для всех, безусловно, новость номер один. А поскольку между собой они чаще всего называют друг друга по фамилии или какими-нибудь коротенькими собачьими кличками, образованными опять же от фамилий, он невольно обратил внимание на то, что она стала называть Морозова по-другому. Соня широко раскрыла глаза: да? И как же? Фурман терпеливо объяснил как, и это заставило Соню нахмурить брови и опасно задуматься. После некоторых колебаний она мрачно сказала, что по всем правилам выживания в этом отвратительном мире ей, конечно же, следовало бы дать Фурману немедленный и предельно жесткий отпор за его наглое вмешательство в чужие дела. Но так как ей и самой вдруг стало интересно понять, что происходит, она на этот раз его прощает и хочет продолжить начатый разговор. Возможно, раз уж Фурман такой наблюдательный, он тоже обратил внимание на одну особенность морозовской манеры общения… Проще всего определить ее как чрезмерно развитую склонность к типично мужскому покровительству. Но у Морозова в отличие от большинства ярко выраженных мужчин-самцов, стремящихся к грубому доминированию любой ценой, это стремление покровительствовать почему-то совершенно не отталкивает и не пугает, а наоборот, странным образом почти сразу вызывает доверие, так как имеет необычайно теплый и вполне интеллигентный характер. Вообще, надо сказать, он потрясающе заботлив, тактичен и предупредителен. Причем, как заметила Соня, проявляется эта яркая особенность не только в общении Морозова с женщинами – что вполне нормально, но и с мужчинами – что куда более странно. Кстати, разве не странно и то, что столь развитые мужские качества гнездятся в таком, да простит ее Морозов, тщедушном тельце? Хотя в этом вопросе она, возможно, и не права: на ум сразу приходит Наполеон и куча других известных коротышек с манией превосходства… На двусмысленное замечание Фурмана, что и они с ней тоже отнюдь не великаны, Соня только криво усмехнулась. Но в целом они оба сошлись на том, что устоять перед этим почти бескорыстным морозовским обаянием едва ли возможно.
Насмешливая трезвость, с которой Соня говорила об этих довольно острых и деликатных вещах, очень понравилась Фурману. Его давно уже раздражала совершенно автоматическая реакция на Соню подавляющего большинства лиц мужского пола: миниатюрная «гениальная художница» с фигуркой подростка в потертых джинсах мгновенно заставляла их ощутить себя добрыми богатырями, способными защитить это хрупкое чудо от окружающей «грязной действительности». На взгляд Фурмана, этот «половой автоматизм» унижал не только самих мужчин, но и Соню, поскольку она допускала такое отношение к себе. Всё здесь казалось ему ложью: никто из них не был богатырем, не говоря уж о доброте; капризная Сонька отнюдь не была «хрупким чудом»; а действительность не была такой уж грязной. Тем более что, как учил Маркс, ее можно и нужно было переделать…
Новый 1977-й год их компания отмечала в Переделкине у необычайно гостеприимной и дружелюбной Валькиной мамы. Зима выдалась снежная, но мягкая. Сладкое похрустывание под ногами, сверкающие ночные сугробы, замершие толпы деревьев в богатых шубах, молчаливая близость легендарных писательских дач и головокружительно веселые зеленые звезды придавали тайным детским обещаниям новогоднего праздника волнующую достоверность…
После этого Александра Николаевна при каждом удобном случае передавала им приглашения приехать к ней в гости – просто так, уже без всякого праздничного повода. Дорога до Валькиной «избушки» занимала почти столько же времени, сколько привычное перемещение с одного конца Москвы на другой, а путевые впечатления были намного разнообразнее и к тому же легко пробуждали драгоценное литературное самосознание, поэтому вскоре поездки в Переделкино стали для всей их компании делом почти обычным.
Присутствие Морозова каждый раз очень оживляло общение. Он увлекательно и со знанием дела говорил на любые темы, блистал парадоксами, тонко шутил, с необычайной деликатностью относился к Соне и с подчеркнутым уважением – к Саше Фурману…
В одной из поездок, после веселой и шумной ночной прогулки вдоль высоких безответных заборов писательского поселка, Морозов с Фурманом начали на пару сочинять шутливые письменные приказы человечеству и различным группам населения Земли. Когда возник вопрос об авторстве этих суровых распоряжений, было решено для солидности немедленно присвоить самим себе высшие офицерские звания. Два фельдмаршала – это было бы слишком помпезно, а вот «генерал Морозов и генерал Фурман» звучало в меру нелепо и потому приемлемо. Дотошный Фурман попросил уточнить, генералом какого рода войск является многоуважаемый Александр… да, Олегович. Пожевав губами, Морозов молниеносно вписал в очередной приказ: «Генерал морской кавалерии».
После этого их обоих стали насмешливо называть «наши генеральчики».
В другой раз до поздней ночи затянулся «глубокий мировоззренческий спор», причем его участники с самого начала разделились на пары: Морозов с Минаевым продолжили давнюю дискуссию о профессиональных ценностях журналиста, а Фурман ожесточенно ругался с Максимовым на семейно-бытовые и общелитературные темы. Друскина, с интересом следившая за развитием событий на обеих площадках, в половине первого не выдержала и ушла спать в соседнюю комнату. В отсутствие публики спорщики начали терять интерес друг к другу и встревать в параллельный разговор. Слово за слово, Морозов назвал «дурой» какого-то, как потом выяснилось, «чрезвычайно дорогого сердцу старика Максимова человека» (Фурман в этот момент отвлекся, чтобы объяснить Минаеву его очевидную неправоту), отчего Максимов странно взвизгнул, с ненавистью сунул ноги в ботинки и, хлопнув дверью, выбежал из домика в глухую переделкинскую ночь. Даже куртку не накинул. Вопреки цинично-разумным советам Минаева Фурман с Морозовым, посмеиваясь, отправились его искать. Макс, естественно, торчал неподалеку на тропинке, гордо задрав голову к черному небу. Несмотря на обиду, он довольно быстро дал себя уговорить вернуться. Однако извинения, с готовностью принесенные ему Морозовым, оказались крайне двусмысленными, поэтому примирение затянулось. В конце концов Морозов, безнадежно махнув рукой, вышел покурить на крыльцо, а Фурман с Минаевым остались утешать истерично-безутешного приятеля. Минут через пятнадцать это тяжелое и нудное занятие неожиданно было прервано криками Друскиной, донесшимися из соседней комнаты. Похоже, она звала на помощь. Растерянно переглянувшись, все трое кинулись к двери – и вдруг столкнулись с Морозовым, который выскочил из темной комнаты им навстречу.
– Что случилось? – хором спросили они, не успев удивиться тому, что Морозов оказался в этой комнате.
– Ничего такого не случилось, все в порядке! Это просто недоразумение, – неубедительно произнес он с кривой улыбочкой.
– Надеюсь, ты ничего плохого не сделал Соньке? – мрачно осведомился Максимов, глядя на Морозова сверху вниз. – Потому что если ты посмел хоть пальцем ее тронуть… я за себя не ручаюсь!
– Да ничего плохого не произошло, не беспокойтесь! Можете спросить у нее самой, она, кажется, уже не спит, – с досадой сказал Морозов и посторонился, пропуская их.
– Соня, ты как? – осторожно спросил Минаев, всматриваясь в темноту. – Ты не спишь? С тобой все нормально?