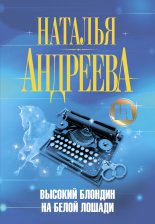Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть IV. Демон и лабиринт Фурман Александр

Машка и Морозов регулярно уходили курить в тамбур. В какой-то момент, когда они в очередной раз отсутствовали, Соня с полотенцем через плечо отправилась готовиться ко сну, а Фурман достал взятую с собой книгу и попытался начать читать. Вскоре вернулась Машка, сказав, что Морозов остался в тамбуре, так как двух выкуренных сигарет ему оказалось мало. Машка с Фурманом просидели вдвоем довольно долго и уже стали недоумевать, куда подевались остальные, но тут в купе ворвалась Соня и со слезами на глазах пожаловалась, что Морозов опять к ней приставал.
– Где, в туалете?!
– Нет, в тамбуре. Я еле от него отбилась!
– А как ты оказалась в тамбуре? Ведь ты вроде бы пошла умываться?
– Морозов попросил постоять с ним, пока он докурит.
– Это сколько же он успел выкурить за это время? Пачку?.. Ну хорошо, так что же он тебе сделал?
– Я не хочу об этом говорить.
– Он что, ударил тебя? Выворачивал руки?
– Нет, что вы!
– Тогда в чем же выражалось его «приставание»?
– Он вдруг на меня накинулся и попытался меня поцеловать!
– Так… Понятно. А он что-нибудь говорил при этом?
– Ну, сказал, что любит меня…
Машка с Фурманом чуть не попадали от смеха.
– Ну и как, получилось у него тебя поцеловать-то?
– Вы дураки! – Соня сделала вид, что обижена. – Знаете, как мне стало страшно в первый момент, когда он вдруг на меня бросился! Я даже закричала! По-моему, он и сам ужасно испугался…
– Кстати, а где он? Ты его случайно не прибила сгоряча? Может, он там валяется на грязном полу, избитый до полусмерти? Или уже выпрыгнул на ходу из поезда?..
Соня окончательно расстроилась и с досадой сказала, что она сама во всем виновата. Черт ее дернул идти с Морозовым в тамбур, и вообще… Но Машка, отсмеявшись, строго заявила, что если он еще не спрыгнул с поезда, то тем хуже для него. Она ему этого безобразия просто так не спустит. Здесь она одна несет ответственность за Друскину – девушку чрезвычайно талантливую, но, к сожалению, в житейском плане беспредельно наивную, неопытную и даже, пусть она ее простит, элементарно глупую. Поэтому Морозова надо как следует проучить, чтобы на будущее отбить у него всякую охоту к подобным «невинным детским шалостям». После ее грозных речей Фурману стало совсем уж жалко парня, и он отправился проверить, в каком тот находится состоянии.
Вообще-то морозовская пылкость его удивила. Ведь он уже второй раз безуспешно пытается «пристать» к Соне. Но если он настолько серьезно в нее влюбился, бедняга, то зачем выбирать для этого такие неудачные моменты, да еще когда кругом полно людей? Неужели нельзя было в Москве встретиться с ней где-нибудь в тихом месте и просто объясниться? Чтобы это оставалось тайной, а не превращалось каждый раз в какой-то нелепый и смешной скандал? Все-таки странный Морозов человек… Хотя в общем-то они с Соней неплохо смотрелись бы вместе.
Вопреки его смутным опасениям, Морозов стоял в тамбуре у окна и задумчиво курил. Увидев Фурмана, он сразу затушил сигарету и помахал рукой, разгоняя дым.
– Ну, как ты тут? – спросил Фурман. – Здесь довольно холодно.
– Да, вообще-то не жарко. Они помолчали.
– Говорят, ты опять приставал к Соне?
– Я? Приставал?! Да что ты! Разве я мог? Впрочем, наверно, можно это и так назвать. А что, она уже успела на меня наябедничать?
– Да уж. Но, насколько я понял, она сама считает свою реакцию на этот досадный эпизод неадекватной и преувеличенной и жалеет, что все так получилось.
– Да ладно. Ничего такого ведь между нами и не было, о чем стоило бы жалеть. Одни разговоры.
Фурман пожал плечами.
– Так что, можно считать, она на меня не в обиде?
– Думаю, что нет.
– Ну, вот и отлично. Значит, все нормально, можно возвращаться?
– В принципе, можно. Правда, Машка, в отличие от Сони, настроена очень жестко и хочет тебя, так сказать, проучить на будущее.
– Вот как? Ну, тогда мне придется открыть тебе одну страшную тайну: к Машке этой вашей, с которой вы все так носитесь, я отношусь абсолютно равнодушно. Если она, как ты говоришь, собирается меня «проучить», пусть попробует. Я ее ни капельки не боюсь и вполне способен за себя постоять. Так что ты, Сань, можешь за меня не беспокоиться. Хотя я очень благодарен тебе за сочувствие. Давай-ка пойдем скорей обратно. А то здесь и впрямь можно окочуриться от холода.
Когда они вернулись, Машка, мрачно набычившись, начала было отчитывать Морозова, но Фурман с Соней дружно заставили ее замолчать: уже всё, хватит, успокойся, никто никого не обижал, произошло недоразумение. Соня с лукаво-демонстративной заботой спросила Морозова, не умер ли он в этом ледяном тамбуре, и предложила принести ему горячего чаю. Когда она вышла, позвякивая четырьмя стаканами в подстаканниках (Фурман решил на всякий случай остаться в купе), Машка все же произнесла свой воспитательный монолог – в краткой, но откровенно грубой форме.
– Морозов, надеюсь, ты меня понял? – спросила она напоследок.
– Да-да-да, Мань, из твоей, надо сказать, в целом довольно путаной речи главное я уловил: что Соня тебе очень дорога и что ты за нее готова всем пасть порвать, моргала выколоть и так далее и тому подобное, – смело ответил ей Морозов. – Да, к сожалению, я отлично расслышал все эти твои жуткие блатные угрозы, которые якобы должны «леденить мне душу». Но вынужден тебя разочаровать: я тоже отнюдь не вчера родился, и никакие театрализованные выступления в этом жанре давно уже не производят на меня впечатления. Кроме того, мне кажется, что здесь, в нашем и без того чрезвычайно узком и хрупком дружеском кругу – к которому я причисляю нас обоих, хотя сейчас у меня и возникают определенные сомнения по этому поводу, – никому и ни при каких обстоятельствах не стоит опускаться до уровня подобного дворового общения, унизительного в первую очередь для самого говорящего. Можешь мне поверить, я ничуть не меньше, чем ты, готов защищать Соню от окружающей грубости и грязи…
В дверь несильно стукнули ботинком – это вернулась Соня с полными стаканами. Остановившись на пороге, она грустно обвела взглядом их сосредоточенные лица:
– Ну что, вы всё еще продолжаете ругаться?..
– Да никто вроде и не ругался, – успокоил ее Фурман. – Так, Машка с Морозовым немного поспорили… Но как раз перед твоим приходом закончили.
– Правда, что ли? Мир-дружба? – с надеждой спросила Соня, опасно качнувшись.
– Давай-ка я перехвачу у тебя эти дурацкие стаканы, – встрепенулся Морозов. – Пока тут кого-нибудь случайно не обварило кипятком…
Поставив стаканы на столик, он собрался выйти покурить, но у двери неожиданно развернулся:
– Соня, скажи честно, ты ведь не держишь на меня никакой обиды?
– Даю честное слово, Санечка. Можешь спать спокойно! У меня на тебя правда нет никаких обид.
– Вот и хорошо, – растроганно сказал Морозов.
– Ладно, Морозов, я тоже оценила твою пламенную речь в защиту Друскиной, – усмехнулась Машка. – Будем считать, что мы с тобой друг друга поняли.
Спать все легли с легким сердцем. В полусне Фурман еще раз представил себе эту дикую сцену: как Морозов в раскачивающемся холодном тамбуре вдруг прижимает Соню к стене и пытается поцеловать ее в губы, как она в панике визжит и отбивается от него – и невольно разулыбался… Ладно, завтра они окажутся в другом мире!
По прибытии на место выяснилось, что московские челябинцы, использовав свои «тайные связи в школьных верхах», подготовили им замечательный сюрприз: делегацию столичных журналистов, возглавляемую Наппу, уважительно поселили отдельно от всех, в пионерской комнате. Среди потертых горнов и барабанов, пыльных знамен, знакомых с детства книжек о пионерах-героях и смешных официозных плакатов – как бы специально на радость Машке. Наппу заявил, что ему лично абсолютно все равно, где перекантоваться, главное – что происходит вокруг, зато все остальные вполне оценили эту дружескую заботу: несмотря на их готовность претерпеть временные бытовые неудобства ради пресловутого «сборовского откровения», перспектива провести три ночи в классах или в спортзале с толпой незнакомых детишек была все же не слишком заманчивой.
На обед они безнадежно опоздали, но в пустой школьной столовой их опять же «по блату» накормили еще теплыми остатками, набранными со дна нескольких кастрюль (Наппу воспользовался случаем и пообедал второй раз). После этого они, волнуясь, отправились знакомиться со своими отрядами, по которым их разбросала чья-то неведомая воля.
Фурман нашел свой отряд после долгих блужданий по школьным коридорам и вовсе не там, где он должен был находиться, а в каком-то странном помещении, напоминающем склад. Отряд оказался большим – человек тридцать – и состоял в основном из семиклассников, впервые попавших на сбор. Командиром был энергичный взрослый парень в желтовато-затемненных очках с черной оправой. О его статусе свидетельствовали двухцветный коммунарский галстук и кокетливая зеленая пилотка, из-под которой ровными тугими валиками выкатывались необычайно густые светлые кудри, похожие на парик. В помощниках у него была пара бойких старшеклассниц с типичными ухватками комсомольских активисток. Еще двое взрослых – нервно улыбающийся бородатый мужчина в толстом свитере и молодая женщина в алом парадном костюме и с чересчур серьезным выражением лица – судя по всему, были просто случайными гостями.
В отряде шло какое-то не очень понятное обсуждение, которое вел командир. Несколько детей, сидевших кружочком поблизости от начальства, слушали его с остекленевшими глазами и, когда к ним снисходительно обращались с вопросами, послушно выдавливали из себя уныло-рассудительные ответы. Остальные в это время оживленно занимались своими мелкими делишками, привычно укрываясь за спинами соседей. Эту выпавшую в осадок «массовку» следовало бы как-то вовлечь в обсуждение, и Фурман посчитал своим долгом помочь братьям-коммунарам. Его хорошо продуманное выступление с места вызвало смех и заставило всех встрепенуться. Однако руководителя отряда эта неожиданная инициатива почему-то чрезвычайно озадачила. Растерявшись, он не смог перехватить внимание публики, и детишки вскоре снова занялись друг другом и загудели. Зато следующая попытка Фурмана встрять и оживить общий разговор сразу получила твердый отпор. Ему с терпеливой улыбкой объяснили, что вся работа на сборе и в каждом отряде ведется строго по плану, который рассчитан буквально по минутам и опирается на выверенный годами опыт многих поколений. Вопросы, поставленные нашим гостем из Москвы, возможно, сами по себе важны и интересны. Но цель, ради которой мы все здесь находимся, заключается не в том, чтобы обсудить какие-то острые проблемы, а в том, чтобы в очень сжатые сроки дать высказаться максимально большому числу детей. Пока же, к сожалению, мы вынуждены попусту тратить драгоценное время. Надеюсь, теперь мы лучше поняли друг друга? Отлично! Тогда мы можем вернуться к тому, на чем прервались…
После этого все старательно принялись делать вид, что Фурмана для них больше не существует. И только сидевшая напротив большеглазая ухоженная девочка с косичками и крупными бантами (она единственная среди детей отвечала на вопросы развернутой правильной речью, и ее было интересно слушать) посмотрела на него с испуганным сочувствием. Он улыбнулся ей: ничего, все нормально.
Девочка с машинальной осторожностью улыбнулась в ответ и тут же смущенно отвела взгляд. Но вся эта ситуация, видимо, встревожила ее, и она стала надолго замирать, уходя в себя и при этом неловко притворяясь, что по-прежнему внимательно слушает других. Фурман с жалостью наблюдал за ее слабыми корчами. А ведь ей, наверное, больше не захочется идти на сбор, подумал он. Она пойдет, конечно, но только чтобы не конфликтовать со всеми и не выделяться… Вот так грубоватые коммунисты всегда и теряют сложно устроенных людей. Интересно, в какой семье растет эта маленькая девочка, слишком чувствительная к чужому унижению. (Все остальные дети проявили высокую жизненную приспособляемость: некоторые просто ничего не заметили, но многие с готовностью включились в знакомую коллективную игру.) Кто-то ведь позволяет ей быть такой? Какая-нибудь чудесная добрая мама? Утонченный папа? Интеллигентная бабушка? Репрессированный дедушка?.. Как бы то ни было, чтобы выжить и не попасть в психушку, этой разумной девочке придется выстраивать защиту, закрываться. И при удаче она уже годам к восемнадцати превратится в обычную мелочную эгоистку. Разве что все еще симпатичную…
В какой-то момент школьный звонок просигналил об окончании отрядного времени, и Фурман печально поплелся в пионерскую узнать о первых впечатлениях остальных участников экспедиции.
Как выяснилось, ничего особо вдохновляющего ни с кем из них пока не происходило: ну, дети… ну, отряд… ну, командиры-коммунары-комиссары… если честно, то все это мало чем отличается от обычного пионерского лагеря. Может, дальше будет поинтересней?
Может, и будет… У самого-то Фурмана ситуация была хуже некуда: в своем отряде он явно успел стать лишним. Это еще мягко говоря. Возможно, его уже записали в опасные вредители. «Подрыв авторитета командира…» (А они еще беспокоились за Машку!) Как все это получилось? И что ему теперь делать? Возвращаться в отряд и молча сидеть там с приклеенной доброжелательной улыбочкой? Попросить перевести его в другой отряд? Мол, не сложилось… Хотя кто он здесь такой, чтобы требовать к себе столько внимания? Он даже не мог никому рассказать о своей проблеме. Просто смех: опытный Фурман, который не раз бывал на сборах и который, собственно, и притащил их всех сюда, – вдруг так опозорился при первой же встрече с пресловутыми коммунарами!.. Но по большому счету эта глупейшая история не имела никакого значения. Ладно, для себя он может и пропустить на этот раз. Потому что он и так знает. Главное, чтобы ослепительное солнце сбора открылось для Сони, Морозова и Машки – именно за этим они все сюда приехали. И если это произойдет, их общее будущее изменится.
Свои вечерние выступления отряды готовили заранее, еще до сбора, и теперь только проводили последнюю репетицию, поэтому гостям в принципе можно было во всем этом не участвовать. Наппу считал подобные «практические» соображения неприемлемыми. На сборе каждый должен стремиться использовать любую возможность быть полезным для других, даже если это касается мелочей, заявил он и гордо отправился в свой отряд. Однако маленькая компания, угнездившаяся в пионерской комнате, не вняла огненным аргументам учителя и решила посвятить свободное время общению с группой выпускников школы. Троица московских челябинцев на сборе быстро обросла бывшими одноклассниками, таинственными школьными любовями и друзьями детства. Некоторые из этих людей жаждали не только поболтать друг с другом, но и поближе познакомиться с диковинными посланцами столицы, о которых Ирина им кое-что уже рассказывала в своих письмах. Встреча с ироничными и все на лету понимающими ровесниками позволила москвичам ощутить человеческую атмосферу челябинской коммуны ярче и полнее, чем участие в любом отрядном «капустнике». Конечно, Наппу был прав, с укором заметив, что это приятное общение «работает» не на сбор, а исключительно на них самих. Но их отсутствия в отрядах, скорее всего, даже не заметили. Зато они успели наладить хороший контакт с местными «стариками» и собрали массу полезной информации.
Между прочим, в разговоре случайно всплыло, что их московский знакомец Игорь тоже пишет. Более того, его «высокохудожественные сочинения» еще со школьных времен пользуются популярностью «в здешних кругах», и почти все присутствующие их читали. «Что ж ты раньше молчал?!» – дружно удивились москвичи и потребовали, чтобы Игорь, не откладывая на потом, притащил им сюда из дома почитать что-нибудь свое. Он слегка покраснел от всеобщего внимания и постарался свести все это к шуткам. Но, видимо, во время ужина он действительно съездил (или сбегал) к себе домой и оставил обитателям пионерской тонкую папку с каким-то своим недавно написанным произведением. За ночь они его прочли, передавая друг другу. Это была небольшая пьеса – «современная сказка для взрослых», мутный коктейль из «Маленького принца» Экзюпери и чеховской «Чайки». Огромный равнодушный Город-пустыня, его мерцающие огни, проносящиеся мимо машины. Действия почти нет. Главный герой – странноватый Молодой человек, произносящий мечтательные монологи. Требовательная прагматичная девушка, с которой у него вяло развиваются (подходят к концу?) какие-то запутанные отношения. Типизированные персонажи второго плана – в основном взрослые-неудачники, мешающие Молодому человеку исполнить какую-то свою заветную мечту или, наоборот, мужественно благословляющие его двигаться своим путем…
Морозову и Фурману вся эта «густопсовая романтика» не понравилась. Соня неопределенно покачала головой и поморщилась. Но Машке вдруг пришло в голову, что из ладушинской «сказки» (фамилия Игоря была Ладушин, в школе все, как водится, только так его и называли, и москвичи теперь тоже это подхватили) можно сделать музыкальный спектакль и поставить его на сцене своими силами. В качестве сценария этот текст вполне годится. Нужно только выбрать подходящие песни из их, так сказать, совместного репертуара – не зря же они потели в поезде! – и проложить ими слегка занудные монологи героев. Если всем дружно навалиться, то за пару дней можно было бы все это сделать, причем на достаточно приличном уровне… Подожди, а как же сбор? Ты что, забыла, где мы?.. Да ничего я не забыла! Вы просто не поняли, что я предлагаю. Наша коллективная постановка могла бы стать прекрасным подарком сбору. Чем участвовать во всей этой жалкой и бессмысленной детской самодеятельности… ну хорошо-хорошо, не бессмысленной… Короче, лучше мы выложимся на полную катушку и попытаемся создать некую качественную вещь, за которую – если она у нас получится, конечно, – все наверняка будут нам только благодарны, чем еще трое суток будем бесполезно просиживать штаны в своих отрядах, где мы, откровенно говоря, никому не нужны. Определенный риск тут, ясное дело, имеется. Но кто не рискует, тот, как известно, не пьет… Хочу заметить, что пока обстоятельства складываются для нас, я бы сказала, крайне благоприятно. У нас уже есть почти готовый сценарий с музыкальной частью, работоспособная команда и даже отдельное помещение для репетиций, где нам никто не будет мешать… Вот разве что Наппу захочет нам помешать и настучит на нас коммунарам? Может, имеет смысл по-тихому придушить его сегодня ночью всем вместе? А что? Трупак закатаем в знамена – вон их здесь сколько, и поставим стоймя в угол к остальным. Сюда же никто из посторонних не заходит? Судя по пыли, здесь даже не убираются. Так что пару дней он, наверное, простоит, пока не… Хотя нет, его могут хватиться. Он ведь старается быть всем полезным – а значит, все время на виду. Ладно, пусть живет. Хотя идея была неплохая…
В общем, Машка не то чтобы всех убедила, но некую заманчивую мысль перед коротким сном в головы заронила. А когда Наппу вернулся с ночного заседания совета командиров (на которое он был допущен, видимо, как коммунар) и ворчливо стал укладываться спать, все, ехидно ухмыляясь, вспомнили ее «криминальное» предложение.
Появившиеся утром челябинцы идею «параллельной» театральной постановки приняли на ура (оказалось, что торчать в отрядах и развлекать незнакомых детишек им тоже не слишком интересно; как с усмешкой пояснил Игорь, они здесь сами находились в неофициальном статусе любимых детей, которые просто ненадолго заехали домой на каникулы, и не считали себя обязанными вкалывать). Но Фурман настоял на том, чтобы московская четверка провела последнее закрытое совещание перед принятием такого серьезного решения, и потребовал еще раз тщательно взвесить все «за» и «против». Главным в его списке «против» было окончательное замыкание их компании в пионерской (где они, на его взгляд, и без того чересчур обжились) и полное выпадение из сбора как общего дела. Хотя именно ради участия в этом общем деле они сюда и приехали. Устроив очередной приятный «междусобойчик», они не выполнят свою задачу и ничему новому не научатся. Соня погрустнела и задумалась. Но тут слово взял Морозов, который заявил, что с точки зрения методики организации коллективных творческих дел он, если честно, пока не увидел здесь ничего нового или необычного. Больше того, уже понятно, что в рутинной отрядной работе этого и нельзя увидеть, потому что все используемые в ней творческие приемы давным-давно стали общим местом и просто тупо повторяются из года в год. Так зачем тратить драгоценное время на то, чтобы в очередной раз их «изучить»? Да, надо откровенно признать, что даже просто сидеть и ничего не делать в этой маленькой компании нам всем намного интереснее, чем в любых так называемых «разновозрастных детских коллективах». Я просто констатирую это как факт, сказал Морозов. В этой ситуации у нас остается только два варианта действий. Или немедленно бросить все это к чертовой матери и ехать в Москву, или попытаться собственным героическим и уже без всяких оговорок творческим усилием создать здесь некую «другую реальность». Которая в случае удачи – и в этом Машка права – могла бы стать нашим ответным даром если и не всей этой огромной, ничего не понимающей толпе, то хотя бы тем нескольким действительно замечательным людям, с которыми мы здесь успели вчера познакомиться. Не исключено, что именно для этой цели абсолютно беспомощная в литературном отношении ладушинская сказка как раз и сгодится. Особенно если проложить ее несколькими хорошими песнями в нашем исполнении.
– Ну, Морозов, ты меня приятно удивил своим выступлением, – призналась Машка. – Лучших аргументов я бы не нашла. Даже если бы очень долго старалась.
– Всегда пожалуйста.
Фурман понял, что этих двоих ему уже не переспорить, а поскольку на Сонину поддержку рассчитывать не приходится, обсуждение можно считать законченным. Заждавшимся челябинцам объявили: будем ставить.
Игорь, видимо, был настолько поражен самим фактом своего писательского признания со стороны высоко ценимых им москвичей, что почти безропотно (лишь мучительно краснея и молча качая головой) принял жесткие редакторские замечания Морозова, который посоветовал безжалостно выбросить из текста огромные куски – ради придания ему большей театральной динамичности и сценичности. В результате произведенных сокращений сказка уменьшилась примерно на треть, а несколько персонажей бесследно исчезли. Фурману было жалко Игоря, но его произведению критика явно пошла на пользу. К обеду литературная часть работы была завершена, и одна из местных выпускниц, горячо присоединившаяся к их творческому коллективу, унесла исправленную рукопись к себе на работу, чтобы до вечера успеть перепечатать ее на машинке (двух закладок по четыре копии должно было хватить на всех).
Вторая половина дня ушла на обсуждение песенной программы, продумывание режиссуры и распределение ролей. Почему-то все стали дружно настаивать на том, чтобы роль Молодого человека исполнял Фурман. В глубине души эта перспектива его ужаснула, но отвертеться ему не удалось. Ирина охотно взяла на себя роль его девушки, Володе-Номиналу поручили роль немногословного отца, Морозов с большим скрипом согласился сыграть друга главного героя, к которому уходит его девушка, а Игорь Ладушин, ухмыльнувшись, выбрал себе роль нехорошего мужика. Машка играть на сцене отказалась, так как на ней держалась вся музыка, да и пение в значительной мере, а Соня сказала, что она лучше подумает над художественным оформлением и сделает какие-нибудь минималистские декорации из подручных средств. Еще одной выпускнице, пожелавшей принять участие в постановке, досталась маленькая роль злобной тетки-бюрократки, а всех прочих персонажей, включая банально-сентиментальный образ матери главного героя, пришлось просто выбросить из уже сокращенного текста за неимением актеров.
Когда Игорь наконец смог дозвониться девушке, которая занималась распечаткой, и сообщил ей о последних изменениях в сценарии, выяснилось, что ее рабочий день уже подходит к концу, но сделать она почти ничего не успела. Дома у нее машинки не было, поэтому закончить она сможет только завтра к обеду. Это было очень плохо, ведь времени на заучивание текста и репетиции оставалось в обрез – фактически только полдня завтра и ночь…
– Ладно, если следующую ночь придется провести без сна, то сегодня стоит лечь пораньше и выспаться, – деловито сказала Машка.
– А что будет, если мы не успеем все сделать? – с легким испугом поинтересовалась Соня.
– Друскина! Не задавай глупых вопросов! Просто мы должны постараться все успеть.
Утром Фурман, мучимый мыслью, что из-за этой дурацкой постановки они совершенно выпали из сбора, отправился в свой отряд. Оказалось, там тоже готовили какие-то веселые сценки к завтрашнему итоговому общему представлению. Встретили Фурмана вполне приветливо, удивились, куда он пропал, и с ходу поручили ему малюсенькую роль с единственной фразой. В нужный момент он должен был выйти на сцену (действие происходило в условной сельской местности), громко произнести: «Федот, уже падают листья!» (в том смысле, что, друг, прошло уже очень много времени), демонстративно загоготать: «Бу-а-а-гы-гы!» и удалиться за кулисы. Его пробным исполнением командир остался недоволен: слишком тихо и не смешно. Второй раз получилось уже получше, но над интонацией придется еще немного поработать. Ничего, он наверняка с этим справится!.. Внимание, переходим к следующему эпизоду!
И сюжеты, и юмор в сценках были не просто очень примитивными, но еще и вторичными, позаимствованными «из телевизора». Фурман не утерпел и мягко предложил улучшить пару деталей, но его со спокойной готовностью поставили на место: мол, у нас здесь своя жизнь, всё под контролем, и менять ничего не надо. Высидев для виду пять минут, он потихоньку ушел.
Встречаться ему сейчас ни с кем не хотелось, и он решил в одиночестве побродить по школе. Ну почему, почему все складывается так неправильно?! Мимо.
В пустом гулком коридоре он постоял перед знаменем. И еле сдержал вдруг накатившие слезы…
Он должен собраться с духом. Еще не все потеряно.
И ведь он отвечает за то, чтобы по крайней мере для двоих – Сони и Морозова – их первая поездка на сбор и встреча с коммунарством не прошли так бессмысленно и бездарно. Какая дикая нелепость: оказаться здесь и ничего не увидеть, ничего не почувствовать! Наппу прав, они сами себя наглухо заперли в пионерской, отгородившись от сборовской жизни. Конечно, нырять в нее пришлось бы каждому поодиночке, а это всегда очень страшно в первый момент в окружении незнакомых людей… С другой стороны, разве то, как здесь организована работа в отрядах, соответствует коммунарским идеалам и принципам коллективного творчества? Как можно требовать от кого-то погрузиться в эту детсадовскую скуку? Ради чего? Что же делать?
Вскоре на него наткнулся возбужденный Морозов: Саня, где ты ходишь, распечатку уже давно принесли, все ждут только тебя! По дороге в пионерскую он сообщил Фурману две важных новости. Во-первых, Ладушину удалось договориться с начальством, и сегодня после восьми вечера москвичам разрешено на полтора часа занять школьный актовый зал для, так сказать, генеральной репетиции. Почему сразу «генеральная»? Вопрос поставлен правильно, и ответ на него содержится во второй важной новости. Она касается общего плана сбора. Завтра утром сбор в полном составе отправляется в традиционный большой поход к какому-то местному мемориалу.
Место это находится довольно далеко от города: дорога в один конец, как говорят, занимает больше трех часов. Если выход, допустим, в десять, плюс шесть часов в дороге, плюс час там, – значит, обратно все вернутся не раньше пяти. А поскольку это последний день, на вечер запланирован итоговый концерт или как там это у них называется, на котором мы, собственно, и должны будем выступить, а также прочие церемонии, связанные с торжественным закрытием сбора. Ясно, что завтра у нас уже не будет никакой репетиции, поэтому всю подготовительную работу нужно закончить именно сегодня.
Пока челябинцы, весело переругиваясь, налаживали свет и подключали микрофон, Фурман в ужасе прогуливался по сцене, пытаясь представить, как через несколько минут он будет принуждать свое одеревеневшее тело изображать какого-то другого, условного человека, с другой походкой и жестами, а его голос будет ненатурально громко произносить нелепые, вычурные, совершенно не вдохновляющие его самого монологи «от чужого лица», которое он должен нацепить на себя, как маску… Вот кошмар! У Фурмана аж зубы застучали… Никак не унять эту дрожь. Господи, какое мерзкое притворство. И как это люди могут по доброй воле становиться актерами?
– Что, Фур, уже начал потихоньку примериваться к роли? – сочувственно спросила Ирина. – Я просто смотрю, ты бродишь по сцене, как лунатик, и губами шевелишь.
– Н-да… Но пока что-то с трудом получается, – ответил он прерывающимся голосом. – С детства, можно сказать, на сцену не выходил. Довольно пугающее ощущение.
– А, ну это дело привычки. Я вот, помню, тоже однажды… – Ирина начала рассказывать какую-то историю, но тут ее грозно призвали что-то доделать, и она, извинившись, убежала.
Фурман стал еще раз перечитывать свой первый монолог… Неужели кто-то думает, что набитый школьниками зал будет сидеть и внимательно вслушиваться в эти слюнявые романтические бредни про город, одиночество, машины и огни? После трех бессонных ночей? Черт! Да этот текст вообще никуда не годится! Почему он сразу не заметил, насколько все здесь надуманно и вымученно? Уважение к Игорю помешало? Ведь Фурман и в самом деле был приятно поражен, когда выяснилось, что «настоящий» коммунар – по совместительству еще и брат-писатель… Но это же какой-то чудовищный литературный провинциализм. И что теперь с этим делать? Ясно, что «сыграть» у него не получится: он просто не сможет произнести со сцены эти чужие слова. Он и не хочет их произносить. У него язык не повернется. Все его тело противится… Нужно отказаться от роли. Конечно, это будет воспринято всеми как предательство. Их мало – кто будет играть? Получается, что из-за каких-то его эгоистических «переживаний» вся постановка оказывается под угрозой и все их двухдневные усилия могут пропасть даром. Может, взять другую роль, попросить поменяться с кем-нибудь? Нет. Нет. НЕТ! Затея со спектаклем с самого начала была ошибкой. Они поддались на Машкино давление, а в результате просто спрятались от всех, забились в какую-то щель… Ладно, это сейчас не важно. Как он объяснит остальным свой отказ? «Вдруг невыносимо разболелась голова»? Ну-ну. Ведь эту ложь тоже придется как-то «играть» – и в чем тогда разница?.. Не надо ничего объяснять. Объяснить невозможно. И эти жалкие объяснения никому не нужны. В любом случае его отказ станет для всех ударом. Они огорчатся, обидятся, посчитают его предателем «общего дела». Легко представить, какими глазами они все теперь будут смотреть на него. А ведь им еще предстоит возвращение. Готов ли он вынести это?.. Наверное, после того как он им скажет, ему лучше сразу уйти. А там будет видно. Но если они решат продолжить без него, то время для них по-прежнему дорого, и будет глупо тратить его на бессмысленные разговоры.
Фурман попросил минутку внимания и негромко объявил со сцены, что не сможет играть в спектакле. Но ему пришлось с кривой усмешкой повторить это еще раз для тех, кто не понял или не поверил своим ушам. Общей реакцией была тихая растерянность. «Ты случайно не заболел? – заботливо спросили они. – Как ты себя чувствуешь вообще? Температуры нет? Ничего не болит? А то тут в городе, говорят, бродит какая-то особо вредоносная инфекция… Или, может, голова? Фур, поискать тебе таблеточку?» Нет, твердо ответил он, у меня ничего не болит, и я не болен. Просто я не-мо-гу. Не могу. Правда не могу. Всё.
– Ну, что будем делать? – с грустной надеждой спросила Соня у Машки.
Та мрачно хмыкнула:
– А чего ты у меня-то об этом спрашиваешь?
– Ну как же, ведь ты у нас вроде как за главного…
– Я?! Знаешь что, Друскина… Спасибо тебе, конечно, за такую высокую оценку моих скромных творческих способностей, но для меня это, пожалуй, слишком большая честь… Ладно, лучше будем считать, что мы это уже проехали. Короче, ты задала мне вопрос? Отвечаю на него с присущей мне прямотой: лично я думаю, что пора закрывать эту лавочку.
– Подождите, – вмешался Фурман, – почему так сразу все закрывать? Время же еще есть. И ничего катастрофичного пока не произошло. Мою роль вполне может взять на себя Морозов. Если он на это согласится, то его роль, скорее всего, придется сократить. Но в целом это мало на что повлияет. Игорь, как ты считаешь, можем мы так сделать?
– Да конечно, валяйте, сокращайте еще! Чего мелочиться? И вообще, чего меня спрашивать? От меня там и так уже ничего не осталось. Кстати, мою роль тоже легко можно вырезать, если надо. В целом-то никакой разницы уже нет…
– Так, минуточку! – встрепенулся Морозов. – Прежде чем мы начнем принимать какие-то важные для нас всех решения, я хотел бы еще кое-что уточнить у Фура. Наедине, если никто не против.
Усмехнувшись, Фурман пожал плечами.
– Тогда мы с Сашей, с общего разрешения, берем двухминутный тайм-аут.
– Нам всем выйти? Чтобы вы могли побыть наедине, – обиженно спросила Соня.
– Нет, вы можете остаться здесь, – хладнокровно ответил Морозов. – Мы просто отойдем немного в сторонку…
…Саня, я буду говорить с тобой прямо, как с другом. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в том, что твой совершенно неожиданный выход из игры довольно сильно осложняет наше и без того непростое положение. Я не собираюсь упрекать тебя или уговаривать пересмотреть свое решение. Ты имеешь полное право так поступить, как и каждый из нас. Но мне все же хотелось бы лучше понимать, что происходит. Потому что еще днем ты, на мой взгляд, был настроен вполне позитивно. Ты можешь мне ответить откровенно в двух-трех словах, что заставило тебя так резко изменить свою позицию? Поверь, это останется строго между нами.
Фурман покивал, пытаясь справиться с волнением.
– Если объяснять совсем коротко, то, когда я вышел на сцену и представил, что произношу на публику эти пошлые напыщенные монологи, меня чуть не вырвало.
– И что, это все?..
– Как на духу.
– Да… Ситуация, оказывается, куда проще, чем я думал. А с другой стороны, если все обстоит именно так, как ты говоришь, то в целом дело намного хуже… Ты же знаешь, я полностью доверяю твоему литературному чутью. Правильно ли я тебя понял: ты утверждаешь, что ладушинский текст – это полное и абсолютное говно?
– Ну нет, не абсолютное, конечно. Как известно, нет пределов совершенству… Там есть и какие-то более или менее удачные куски. Но на мой, так сказать, личный вкус все это очень слабо.
– А как же так получилось, что мы все дружно согласились это ставить?
– Даже и не знаю. Видно, помрачение какое-то на всех нашло. Кроме того, мы ведь попытались кое-что там улучшить, порезали сильно… Но, если честно, у меня просто язык не поворачивается произносить эту муть вслух перед людьми.
– Спасибо, я тебя понял, – задумчиво сказал Морозов. – Тогда последний короткий вопрос: как, на твой взгляд, нам теперь следует поступить со всем этим?
С учетом того, естественно, что твой отказ уже является неотменимым фактом.
– Ситуация, с одной стороны, очень деликатная. Как бы там ни обстояло дело с чисто литературной точки зрения, но будет совершенно неправильно, если в результате мы рассоримся с Игорем, и он на нас смертельно обидится. А такой исход вполне возможен… Мне теперь, естественно, неудобно давать вам какие-то советы. Но, по-моему, эту постановку еще можно попробовать довести до ума. Я уже предлагал такой вариант: если бы ты взял мою роль… ну, и так далее.
– Ладно, я приму этот вариант к сведению. Но я бы очень просил тебя в любом случае остаться с нами до конца и помогать хотя бы своими советами. Могу я на это рассчитывать?..
Когда они вернулись к остальным, Морозов бодро объявил, что как старший по званию явочным порядком принимает на себя руководство всей операцией.
– А можно узнать, какое у тебя звание? – с недоверчивой улыбочкой спросил Номинал. – Если это не секрет, конечно.
– Морозов у нас числится генералом морской кавалерии! – отрапортовала Друскина.
– Ну, так бы сразу и сказали! А то мы ж были не в курсе. Теперь все с ним стало понятно.
– Так, перерыв закончен! Разговорчики в строю прекращаем и дружно беремся за работу, – скомандовал Морозов. – Саня, давай-ка сюда листочки с твоим текстом.
Все поднялись на сцену, а Фурман, чтобы не мозолить им глаза своим присутствием, виновато присел в шестом ряду с краю. Но Машка велела ему сесть поближе: «От пения тебя никто не освобождал, поэтому нечего увиливать от своих обязанностей! И подпевай мне в полный голос, так чтобы я тебя отсюда слышала».
Некоторое время на сцене происходила суета: Морозов, проглядывая на ходу полученные от Фурмана листки, уверенно раздавал довольно разумные режиссерские указания; Ирина деловито интересовалась тем, как все будут располагаться и двигаться, чтобы не сталкиваться друг с другом; Соня назойливо упрашивала Володю срочно подвесить к кулисам какие-то изготовленные ею бумажные декорации; Машка с мрачным вдохновением мычала какую-то мелодию, подбирая ее на гитаре; Ладушин, держа в руке полный авторский экземпляр пьесы, посматривал на всех с грустным видом… Потом Морозов приказал очистить площадку от лишних людей и начать прогон отдельных эпизодов. Сам он пока читал свой текст невыразительной скороговоркой по бумажке, объяснив, что выучит его за ночь. Главное сейчас, по его словам, было увидеть все в целом от начала и до конца, а мелкие детали позднее легко притрутся.
На взгляд Фурмана, действие, в принципе, было выстроено. Конечно, это была корявая самодеятельность с нелепой претензией на глубокомысленность… Но получилось все же лучше, чем можно было ожидать в данных обстоятельствах. А с песнями так вообще хорошо! Если всем немножко сбавить ложный актерский пафос и как следует подогнать все эпизоды…
Ладно, с усталым раздражением сказал Морозов, поехали еще раз.
Действие начало прокручиваться по новому кругу.
В середине третьего монолога Молодого человека Морозов внезапно остановился:
– Да, Фур был абсолютно прав. Язык просто физически отказывается произносить эту мутную чушь…
Фурман испуганно взглянул на Игоря, но тот как раз отвлекся и вроде бы ничего не услышал.
– Всё, хватит! Ничего не получится! – объявил Морозов. – У нас остается слишком мало времени. Сейчас уже понятно, что мы элементарно не успеваем довести все это до такого уровня, с которым было бы не стыдно выйти на люди.
На минуту все онемели.
– Ну что ж, этого следовало ожидать, – сказала Машка и стала убирать свою гитару в чехол. – Вот видишь, Друскина, я опять оказалась права. Ты ведь помнишь, что я еще час назад предлагала закрыть эту лавочку?
Соня как-то злобно скривилась, а со стороны челябинцев раздался слабый ропот: нет, как это? почему? давайте хотя бы попробуем, а там будет видно…
– Вы хотите продолжать? – удивился Морозов. – Ладно! Но лично я складываю с себя все полномочия и ухожу.
– Что значит «ухожу»? – хмыкнул Номинал.
– А то и значит. Вот, передаю вам все бумажки, иду к двери, открываю ее и ухожу.
И Морозов действительно ушел.
Это было смело и даже красиво.
«Я бы так не смог», – с завистью подумал Фурман.
Ну что, тогда сворачиваемся, с горечью сказали челя-бинцы. Жаль, конечно, бросать на полпути такую хорошую идею, но ничего не попишешь…
Соня надулась и не хотела ни с кем разговаривать.
Вообще-то нужно было привести в порядок сцену и расставить по местам столы и стулья, которые они использовали в качестве условных декораций. Когда Соню попросили помочь, она молча собрала свои вещи и ушла вслед за Морозовым, напоследок демонстративно хлопнув дверью. В другое время Фурман «по долгу службы» побежал бы за ней, чтобы привычно «привести ее в чувство», но сейчас решил плюнуть.
Оставшиеся в зале стыдливо улыбнулись друг другу и занялись уборкой со странным чувством неполной реальности происходящего.
В том, что совершил Морозов, была какая-то загадка. Почему все вопреки своему желанию так легко подчинились его разрушительной воле? Настроение у Морозова изменилось в одну секунду. «Мы не сможем!» – уверенно сказал он. Казалось бы, ну сказал и сказал. Такое у него сложилось мнение. Но всех вдруг это пронзило: да, мы не сможем… Еще за минуту до этого они верили, что у них все получится. Почему же после его слов поняли, что не получится? Неужели только потому, что Морозов вышел из игры? А что в нем такого? Откуда у него такая власть выносить окончательный и бесповоротный приговор?.. Вообще-то Фурман уже сталкивался с чем-то похожим, когда они вдвоем ходили искать место для осеннего Большого слета. Тогда Фурман очень устал, у него болела голова и не было сил сопротивляться. Теперь он тоже проявил определенную слабость и тем самым невольно спровоцировал дальнейший катастрофический ход событий. Но понять механизм воздействия Морозова на всех остальных он пока не мог. Разве нельзя было продолжить репетицию – с ним или без него? Ведь когда Фурман отказался от роли, это в принципе ничего не изменило. Кое-что поменяли на ходу и поехали дальше. А отказ Морозова сразу обернулся концом общего дела – словно у всех выключили ток. Почему, например, Игорь не предложил взять на себя эту дурацкую роль, которую он сам сочинил и о которую другие споткнулись? Успели бы они или нет, это открытый вопрос. Время еще оставалось. Всю ночь можно было репетировать – раз уж взялись и столько поставили на кон… Да, загадка.
А главное, что им делать дальше? Разойтись по отрядам? Не поздно ли? Как же неправильно все сложилось в этой поездке… Они ведь теперь и в глаза друг другу не смогут смотреть… И как быть с бедным Игорем, которого они «поманили и бросили», высокомерно поиздевавшись над его злосчастным «произведением». Заслужил ли он такое обращение, даже если и в самом деле написал что-то не слишком удачное? А остальные челябинцы?.. Надо ли говорить Наппу о том, что произошло? Он наверняка будет торжествовать: «Я вас предупреждал!..» Пророк чертов. Нет уж, пусть пока наслаждается жизнью. Потом еще и Мариничевой придется все объяснять… Но до этого им почти двое суток придется провести вместе. Смешно, но, выходит, завтрашний поход для них – это просто спасение.
Правда, московские челябинцы решили остаться в городе: они уже не раз бывали в таких походах, а им еще нужно было успеть навестить кучу друзей и родственников…
От школы до железнодорожного вокзала сбор шел праздничной колонной по краю проезжей части – с красным знаменем впереди, революционными песнями и приветственными гудками машин. На перекрестках движение четко регулировалось курсантами Челябинского военного автодорожного училища, в которое традиционно поступали выпускники первой школы. Потом вся толпа плотно набилась в обычную загородную электричку. Прочим пассажирам пришлось сильно потесниться, и поначалу они с недовольным видом косились на шумных беспокойных соседей. Через какое-то время Машка не выдержала и предложила развлечь народ песнями в исполнении, так сказать, «московского квартета» – не зря же они, в конце концов, столько упражнялись! Убедить ее, что лучше бы им сидеть тихо и не доставать и без того нервно настроенную публику, не удалось. С бесцеремонной Машкой во главе их четверка с извинениями протолкалась в начало прохода и выстроилась там маленьким полукругом, как какой-то нелепый «цыганский ансамбль поездных попрошаек». Конечно, они все очень старались, самоотверженно надрывали глотки и струны. Но песен этих почти никто из коммунаров не знал, а в другом конце вагона их голосов, похоже, вообще не было слышно. Однако во время этого «концертного выступления» между ними снова пробежала какая-то искра, и благодаря этому они, уже выйдя из вагона на свежий воздух, с легкой печалью почувствовали, что никуда им друг от друга не деться.
За городом снег лежал почти нетронутым. Утоптанные лесные дорожки иногда сужались, так что идти приходилось по одному, ступая след в след. Городская обувь, да и одежда, в которой москвичи приехали на сбор, для таких испытаний, конечно, не были предназначены. Вообще эта основная часть пути, проходившая по пересеченной местности и занявшая больше двух часов, была достаточно тяжелой.
Конечной целью похода оказалась вершина одного из многочисленных пологих холмов. Оттуда неожиданно открылся замечательный вид: вокруг до самого горизонта лежали древние плоские горы, покрытые глухими заснеженными лесами, а между ними расстилалось огромное замерзшее озеро.
Наверху было несколько деревянных строений, которые принадлежали какой-то полувоенной технической службе, и маленькая турбаза. Во время войны здесь, в этих пустынных местах, вроде бы очень далеких от линии фронта, произошли какие-то героические события, но что именно, Фурман толком так и не разобрался: на коротком общем митинге было плохо слышно, о чем говорили выступавшие.
Обед всем выдали сухим пайком, зато горячего чаю было вдоволь. Кроме того, неожиданно появилось солнышко и вскоре так пригрело, что многие поснимали с себя куртки.
Возле дымящегося котла с чаем на Фурмана случайно наткнулся кудлатый командир его отряда, который и в походе, несмотря на холод, щеголял в своей высокой пилотке. Он с приветливой улыбкой спросил, готов ли Саша к вечернему выступлению и не забыл ли слова.
Фурман вдруг понял, что предстоящее неприятное испытание совершенно вылетело у него из головы, но заверил командира, что все в порядке.
Обратный путь дался большинству участников похода намного труднее, чем дорога туда. В электричке всех мгновенно сморило, а от вокзала до школы они уже еле доплелись. Хорошо еще, что никаких общих дел, кроме ужина и последней отрядной репетиции, до начала большого вечернего концерта не было запланировано, и можно было потихоньку прийти в себя.
Настроение у Фурмана, да и у всей их четверки, было мрачное: сбор приближается к завершению, из общей жизни они странным образом совершенно выпали, время ими потрачено поразительно бездарно, и ничего уже не исправить. Сами виноваты. Морозов тем не менее старательно бодрился: мол, все не так уж плохо, могло быть и хуже. Но его оптимизма никто не захотел разделить. Да и проявленная им вчера решительность выглядела слишком двусмысленно… Ну ладно, сказал Морозов, вы тогда сидите здесь и тоскуйте, а я пойду посмотрю, что там у других происходит.
Фурман тоже недолго высидел в затхлой, опостылевшей атмосфере пионерской и отправился в свой отряд на последнюю репетицию. Отметившись в эпизоде, он, чтобы не возвращаться к Соне и Машке, решил немного побродить по школе и от нечего делать стал на ходу придумывать, как ему украсить свою нелепую роль второго плана.
И именно в этот час между ужином и началом концерта, когда все разбрелись, Машка с совершенно непонятной целью (не иначе как по дьявольскому наущению) оказалась в том коридоре, где стояло знамя, и устроила там какую-то «публичную провокацию». Фурман узнал о случившемся от взволнованной и опечаленной Ирины. По ее словам, скандал уже дошел до Караковского, и чем теперь все это обернется, неизвестно. Что ж, не хватало только, чтобы их в довершение ко всему с позором выгнали со сбора… С самой этой идиотки Машки взять было, конечно, нечего, тем более что Фурман, можно считать, лично поручился за нее перед Владимиром Абрамовичем вместе с Мариничевой. И значит, с него теперь весь спрос. Наппу они решили пока ничего не говорить – оставалась слабая надежда, что в общей суматохе начальству будет просто не до них и все как-нибудь рассосется без особых последствий.
Машка в одиночестве настраивала гитару в пионерской и очень удивилась изложенной Фурманом «интерпретации событий». Да там вообще ничего такого не было! Никакого скандала и никакой провокации она не устраивала! Это полный бред! И эти лживые обвинения в свой адрес она воспринимает как прямое личное оскорбление.
Эти коммунары просто зарвались! И кому-то придется за это ответить!.. Хорошо-хорошо, успокойся. Но что-то там все-таки произошло? В любом случае важно понять, что именно… Выяснилось, что Машка зачем-то решила провести «небольшой опрос» среди тех, кто в тот момент проходил мимо знамени, и узнать, какие чувства они при этом испытывают – если испытывают. Опросить она успела человек шесть или восемь. Ответы были разные и по большей части вполне нормальные. Но, видно, нашлась одна какая-то сволочь, которая, как это и принято у преданных своей идее коммунистов, тут же решила на нее донести. Что, собственно, и требовалось доказать!
Спорить с ней сейчас было абсолютно бессмысленно. В отчаянии Фурман попросил ее хотя бы какое-то время не выходить из пионерской (да, в туалет – можно) и больше не заводить разговоры ни с кем из местных. Машка, примирительно посмеиваясь, обещала. И даже предложила, чтобы они вообще заперли ее здесь до самого отъезда. А жратву они, как настоящие верные друзья, могут потихоньку подсовывать ей под дверь…
До начала концерта больше ничего не произошло.
Когда настал черед выступления фурмановского отряда, он вместе с остальными исполнителями поднялся на сцену и укрылся за кулисами. Где-то совсем рядом, в огромной полутемной пещере, непрерывно жужжа на низкой ноте и мелко шелестя чешуйчатыми крыльями, с безмозглым сарказмом притаилась гигантская черная муха переполненного зала. Фурмана била дрожь.
О своей «актерской» придумке, своем маленьком «фокусе» он никому не сказал, потому что ему наверняка запретили бы эту «самодеятельность». Изначально выбор вариантов у него был очень ограниченный. Изменить тупую реплику, которую ему поручили произнести, было невозможно: это непременно обнаружилось бы во время последней репетиции, а на сцене от неожиданности могло выбить из колеи его партнера. Кроме того, это ничего бы не решило, так как весь сценарий был строго выдержан именно в таком пошлом стиле. Хотя по сюжету дело происходило осенью в сельской местности, никаких, даже минималистских, декораций, вроде прикрепленных к кулисам желтых листиков из бумаги, режиссер не предусмотрел – в его постановке царила абсолютная условность. Поэтому Фурман, как верный последователь реалистической театральной школы Станиславского, решил действовать, во-первых, исходя из «предлагаемых обстоятельств», во-вторых, исключительно в рамках своей роли, чтобы никому не мешать, и в-третьих, только в тот момент, когда его уже никто не сможет остановить.
Итак, деревня, ясный осенний день; с деревьев медленно опадают листья; урожай, видимо, уже собран; два соседа-мужика встречаются на меже… Что ж, отлично!
Отрядное действо шло ни шатко ни валко, и вот одна из помощниц командира-режиссера пробралась за кулисами к Фурману и предупредила: «Через минуту будет ваш выход!»
Всё, поехали! Она еще не успела отойти, а он уже сбросил ботинки, аккуратно отставил их в уголок и стянул носки. Пол был жутко грязный и какой-то просто ледяной. Но ведь искусство требует жертв? Кстати, придется потом где-то мыть ноги… Так, свитер, рубашка… Прийти сюда перед самым выступлением в поддевочных спортивных штанах – это он хорошо придумал: не пришлось переодеваться, а они так колоритно пузырятся на коленках, и свободно болтающиеся штрипки сзади очень уместно подволакиваются…
– Что вы делаете?! – испугалась девчонка. – Зачем вы раздеваетесь?! Так нельзя! – Бедняга наверняка решила, что странный московский гость внезапно сошел с ума и собирается выйти на сцену голышом.
Стоявшие рядом мальчишки поглядывали на Фурмана с веселым удивлением.
– Да все в порядке, тише, не надо так громко орать! – зашипел он. – Это я для своей роли, понятно? Я должен выглядеть по-деревенски!
Девчонка растерянно пробормотала, что она должна доложить командиру, и убежала. Но, ха-ха, было уже поздно!
Так, майку лучше выпустить наружу. Как бы там не окочуриться от холода, на открытом-то пространстве…
Ярко освещенная сцена показалась Фурману намного больше, чем когда они репетировали свою неудавшуюся постановку. В равнодушно гудящем зале были отчетливо видны только несколько первых рядов. Большинство сидевших там зрителей следили за происходящим на сцене одним глазом и в основном живо общались между собой. Появление из-за кулис очередного персонажа поначалу не вызвало никакого интереса.
Партнер Фурмана стоял метрах в восьми от него и с тревожным видом ожидал его короткой реплики, чтобы продолжить свою волынку. Но Фурман нагло решил еще немного потянуть паузу – ничего не случится, а ему нужно, чтобы эти самодовольные гады хоть что-нибудь заметили, иначе все его усилия теряют смысл. В любом случае партнер находится слишком далеко от него, и следует подойти к нему поближе. Выходя «на свой участок», Фурман для пущей реалистичности представил себе, что перед этим занимался во дворе какими-то мужскими хозяйственными делами – например, рубил дрова, – и сейчас его правую руку как бы оттягивал книзу увесистый топор. Ощущая натруженной ладонью теплое шероховатое топорище и (с несколько надуманным удовольствием) осязая привычными босыми ногами холод родной землицы, он поневоле громко зашлепал босыми ногами в сторону «соседа Федота». Тот первым подметил что-то неладное, и глаза его нервно забегали. Как бы он не сбежал, однако! Между тем за кулисами уже возник командир в темных очках, который с осторожной улыбочкой присматривался к своему чрезвычайно непослушному гостю. На всякий случай Фурман приветственно помахал Федоту свободной рукой и покивал: мол, привет, это я, сосед твой! Узнаёшь?.. Необычный звук его шагов наконец привлек и внимание публики. «Ой, смотрите-ка, он идет босиком! Кто? Где? И правда!..» – заговорили и захихикали в зале. Все лица в первых рядах теперь повернулись к сцене.
Фурман остановился, помолчал и, с печальным сожалением глядя на соседа-неудачника (по сценарию-то тот был просто дебил и никакой жалости не заслуживал), произнес положенную «коронную» фразу, которая, как он понял, была цитатой из какого-то всем известного фильма: «Федот, уже падают листья!» (В смысле: друг, посмотри, уже осень кончается, а ты еще продолжаешь заниматься всякой хренью!) В угоду низкопробным вкусам публики, на которые ориентировался режиссер, Фурману пришлось-таки напоследок изобразить брутальный «мужской смех»: «Бу-у-а-а-а!»
Зал радостно зашумел и проводил уходящего актера благодарными аплодисментами. Уф!
– Неплохо ты придумал, – нехотя признал командир. – А мы тут не сразу поняли, что происходит, и уже стали гадать, все ли у тебя в порядке со здоровьем… Надо было тебе все-таки меня предупредить.
– Да у меня просто времени уже не было! Мне это только в самый последний момент перед выходом на сцену вдруг пришло в голову, – миролюбиво соврал Фурман.
– Ну, будем считать, хорошо все, что хорошо кончается, – сказал командир и немного неуверенно протянул ему руку: – Мне пора идти…
А ведь что ни говори, у него все получилось!
Правда, вскоре выяснилось, что в тот момент в зале по разным причинам не было никого из их четверки, поэтому среди «своих» маленький триумф Фурмана остался неоцененным.
Театрализованные выступления отрядов и отдельных творческих групп продолжались еще довольно долго и потом плавно перешли в церемонию официального закрытия сбора. Но это был еще не конец.
После короткого перерыва все стеклись в какой-то небольшой пустой зал, где в темноте на полу горело множество свечей. Здесь челябинцы образовали сразу два песенных круга – внешний и внутренний. Фурман, видевший такое впервые, поначалу решил, что это объясняется теснотой и нехваткой места, но оказалось, что во внутренний круг встают только коммунары (Наппу, естественно, тоже к ним затесался). Всего их набралось человек тридцать, и их круг был как бы вывернут наружу – то есть их лица были обращены не друг к другу, а ко всем остальным. Символический смысл такого построения читался ясно. И хотя из разговоров с Игорем Ладушиным Фурман знал, что отношения между этими людьми были отнюдь не идиллические, все равно это производило мощное впечатление. Фурману так хотелось быть одним из них, принадлежать их истории! В том, как они обменивались взглядами, крепко обнимали друг друга за плечи, устало улыбались и смотрели на «детишек» во внешнем круге, он завистливо улавливал проявления другой, наполненной жизни – с ее упрямой самоотверженностью и молчаливым ощущением братства…
Слаженное ночное пение двух кругов подвело сбор к его традиционной вершине – приему в коммунары. От суровой простоты этого ритуала мурашки бежали по коже. В тишине, которую удерживали сотни затаивших дыхание людей, чьи-то голоса строго и негромко называли имена тех, кого избрал Совет коммунаров. Несколько секунд спустя из погруженного во тьму большого круга в мерцающий коридор выныривали шатающиеся тени обладателей этих имен и слепо спешили навстречу протянутым к ним рукам, которые втягивали их в расступающийся и еще плотнее смыкающийся внутренний круг. Первый, второй, третий…
Фурман с Соней стояли рядом и, вдруг услышав знакомое имя, радостно встрепенулись: вот это да, а он им ничего не сказал! Неподалеку от них из темноты на свет послушно выступил Володя-Номинал и, кажется, сам не веря своему счастью, зашагал по невидимой тропке, протоптанной перед ним другими. Почти одновременно с ним светлый коридор пересек кто-то еще. Это было странно, так как следующее имя названо не было. Возможно, из-за этого в «точке входа» произошла какая-то заминка: внутрь коммунарского круга обоих новичков пока почему-то не впускали, и они сиротливыми просителями остались стоять снаружи. Судя по всему, им сказали подождать. Девушки-коммунарки решили подбодрить загрустившую парочку какими-то пряными шутками, те старательно отвечали… Но возникшая проблема, видимо, потребовала вмешательства высокого начальства: вскоре к «месту поломки механизма», как остроумно заметил кто-то в темноте, с разных сторон торопливо направились трое старших. Несколько голов таинственно склонились друг к другу и начали обмен информацией. Минуты шли, и потихоньку народ в темноте расслабленно загудел о чем-то своем. А безбожно затянувшееся совещание, похоже, переросло в ожесточенный спор – по крайней мере, интонация одного из женских голосов стала довольно резкой… Что там у них происходит-то? Кто ж их знает! Авось чего-нибудь да надумают своими мудрыми головами… Наконец обсуждение вроде бы закончилось, решение было принято. Девушки-спорщицы отвернулись с недовольным и разочарованным видом. Один из старших сразу ушел, на ходу делая публике успокаивающие знаки, а двое других стали энергично объяснять что-то Володе. Вот он понимающе покивал, они дружески потрепали его по плечу, пожали ему руку… и он вдруг отправился в обратный путь, смущенно улыбаясь и недоуменно покачивая головой. Что это значит? Его не приняли?! А того, кто пришел одновременно с ним, впустили в круг! Какой кошмар… Как это могло случиться? Зачем же его тогда вызывали? И что с ним теперь будет?! Прерванное действие продолжилось своим чередом, но Фурман с Соней были настолько потрясены, что уже не могли полностью в него включиться. Да и продлилось оно недолго.
Когда все начали расходиться, в школьных коридорах их нашла Ирина и пересказала то, что она успела разузнать «по своим каналам». Действительно, произошла накладка, которую вряд ли можно было предвидеть и в которой трудно кого-то винить: просто на сборе оказались два человека с полностью совпадающими фамилиями и именами. На Совете был избран девятиклассник, причем, судя по отзывам, очень приличный и активный парень. А о том, что сюда из Москвы приедет его полный тезка, мало кто знал, и как-то связать их вместе, естественно, никому и в голову не могло прийти. Кстати, вот почему Вовка, который, по правде говоря, ничем не заслужил чести быть принятым в коммунары, выглядел таким озадаченным, услышав свое имя. Сам он наверняка сразу почувствовал, что что-то тут не так, и поэтому даже не слишком расстроился, когда все объяснилось. Понятно, что ему было очень неприятно, но в основном из-за того, что этот конфуз случился у всех на глазах. Ну, ничего, переживет, с психикой у него, слава богу, все в порядке, так что можно за него особо не беспокоиться. Нет, в школе его сейчас нет, он куда-то ушел, но это нормально, учитывая обстоятельства: они все тут уже еле стоят на ногах, три ночи без сна, не считая сегодняшней, – так пусть он, бедняга, хоть немного отоспится где-нибудь в домашних условиях перед возвращением в Москву.
Но принятое коммунарами решение все равно казалось Фурману и Соне слишком жестким. Раз уж так случилось, что они вызвали человека и он пришел к ним, то можно было бы и не прогонять его обратно сквозь строй с неминуемым и совершенно незаслуженным позором. Они бы ничего не потеряли, если бы взяли на себя ответственность за эту «накладку» и все же приняли его в свой круг. А человека это, вполне возможно, заставило бы как-то подтянуться, напрячься, чтобы «соответствовать» оказанной ему высокой чести. Но восторжествовал какой-то совершенно бесчеловечный бюрократизм: в списке есть только один с таким именем, поэтому неучтенного «двойника» положено вышвырнуть вон, для него нет места. Хотя вообще-то какое у коммунаров может быть «место»? И зачем им это надо – место в списке вместо живого человека?!
Поздно ночью, когда большинство участников сбора уже срубились и заснули, самые стойкие и ответственные собрались в полупустом актовом зале на что-то вроде открытой конференции, на которой должны были обсуждаться итоги проделанной работы. Фурман весь вечер стоически ждал, получит ли свое продолжение скандал с Машкой, – и вот, дождался. Выглядевший удивительно бодрым Владимир Абрамович Караковский в своем отчетном докладе уделил пару минут неким неназванным людям, которые объявляют себя нашими друзьями и на этом основании грубо вмешиваются в нашу жизнь и критикуют наши традиции и обычаи. В лучшем случае эти люди, сталкиваясь со сложно устроенными вещами и ничего в них не понимая, могут испортить их просто по глупости, а в худшем – злонамеренно пытаются подорвать в наших детях веру в святые для нас ценности. Так или иначе, ничего у них, конечно, не получится. Но если будет надо, мы сможем дать им достойный и сокрушительный отпор. Извините, что задержался на этом вопросе, но мне он представляется очень важным. Теперь о другом…
Из всей московской делегации в зале присутствовали только Фурман и Машка: все остальные уже дрыхли, и даже Наппу, к счастью, не досидел до этого «момента истины». Караковский еще не закончил свой выпад, а Машка уже начала бухтеть что-то возмущенно-насмешливое. Фурман яростным шепотом велел ей заткнуться или уйти – в конце концов, именно за ее бездумную болтовню им и приходится сейчас отдуваться. Это прозвучало непривычно резко (хотя так оно все и было) – Машка даже растерялась. Тут же пожалев ее, Фурман пробормотал какие-то дружеские извинения и оправдания. Она с суровым видом приняла их, но, поборовшись с собой еще несколько минут, сказала, что идет спать. Для Фурмана так было даже легче, потому что он уже принял волнующее решение выступить от имени московской делегации и в дипломатичной форме ответить на прозвучавшие обвинения. Пропустить их означало бы согласиться с этим, откровенно говоря, бредом. Подумаешь, какая-то заезжая девица сдуру кому-то что-то брякнула в коридоре – а на них тут уже целое «дело» завели: «провокация! покушение на наши ценности! дадим сокрушительный отпор!..» Что это такое? Где мы все вообще находимся? И не хватало им еще из-за этой ерунды навсегда рассориться с челябинскими коммунарами! Нет, этот бессмысленный скандал нужно загасить на корню. В конце концов, он только компрометирует коммунаров. Кстати, а ведь Владимир Абрамович наверняка не сам дошел до такой точки кипения… Хотя Наппу и предупреждал, что он ортодокс. Но сначала кто-то должен был рассказать ему об «инциденте» – и, видимо, этот человек так все подал, так расставил акценты, что у многократно битого Караковского возникло ощущение реальной опасности… Кто же это мог быть? И зачем ему понадобилось раздувать из мухи слона? Впрочем, строить догадки было уже бессмысленно – завтра они все равно уезжают в Москву. Важно только то, что такой человек – или такие люди – есть. И именно поэтому теперь следует обращаться не к сидящим в зале, а как бы поверх них – напрямую к Владимиру Абрамовичу, как к высшей и конечной инстанции. Он в школе хозяин, его слово здесь – закон, именно из его уст во всеуслышание прозвучали эти ужасные обвинения, и только он сам может их дезавуировать. Для этого необходимо убедить его, что никаких врагов и провокаторов здесь нет, никто не собирался на него «нападать», – ему это просто почудилось, а на самом деле здесь вообще не о чем говорить. Главное, чтобы он понял, что его реакция была преувеличенной, неадекватной, и чтобы в итоге он в той или иной форме, но публично, при всех подтвердил: вопрос снят, мир с москвичами восстановлен. Для тех, кто его подзуживал, это должно стать ясным и недвусмысленным сигналом.
«Неужели я это смогу? – вдруг удивился Фурман. – С чего это я так расхрабрился? Нагло решаю тут за всех… Ну и ну… А вот смогу! Потому что так надо. И потому что сейчас больше некому это сделать, кроме меня…»
Выбрать подходящий момент оказалось непросто, и он чуть ли не до самого конца заседания продолжал шлифовать в уме свою короткую речь. Когда представителю москвичей наконец дали слово, в зале оставалось всего человек двадцать. Но и это было Фурману на руку – меньше вероятность, что какие-нибудь бессонные ярые защитники местных традиций вдруг решат затеять с ним опасную дискуссию. А его задача – всего лишь благородно поставить точку.
Конечно, все уже плохо соображали, да и о конкретном эпизоде, который послужил причиной грозной отповеди директора, почти никто не знал. Поэтому это очередное выступление с места было воспринято как традиционное гостевое выражение благодарности. И действительно, вначале Фурман высказал твердые и вполне искренние заверения в том, что все члены московской делегации испытывают самое глубокое уважение к легендарной школе № 1, к челябинским коммунарам разных поколений, их давним традициям и уникальному педагогическому опыту. Мы для того сюда и приехали, сказал он, чтобы поучиться у вас, в том числе и вашему отношению к святым для всех нас символам и незыблемым ценностям…
Владимир Абрамович выслушал все эти заверения в лояльности и преданности идеалам с привычной маской расслабленной благосклонности ко всему, что движется. Но никаких проявлений недовольства или недоверия Фурман не заметил. Поэтому, следуя своему плану, он позволил себе продвинуться немного дальше.
– Я вижу, что в этот поздний час в зале остались в основном взрослые люди. Поэтому вряд ли я раскрою для кого-то большой секрет, если скажу, что никто из присутствующих здесь не родился коммунистом.
Это был неожиданный ход, и публика слегка оживилась.
– Впрочем, это относится ко всем людям вообще. Потому что коммунистами не рождаются, коммунистами становятся. И это совсем не просто. Чтобы стать настоящим коммунистом и действительно начать руководствоваться в своей жизни этими великими ценностями, которые требуют от человека предельной самоотверженности, мало вступить в комсомол и даже в партию. До этого нужно внутренне дорасти. И мы, как взрослые люди – тем более работающие с детьми, – хорошо знаем, что это по силам далеко не всем. Поэтому мы считаем, что дети – и не только дети, а просто каждый отдельный человек – должны приходить к этим великим ценностям своим собственным путем, пусть даже в чем-то ошибаясь, а не просто послушно заучивая наизусть и повторяя, когда нужно, «правильные» фразы. Иначе вера в эти правильные ценности ничего не будет стоить, окажется внешней, формальной. А ведь это и есть то, от чего мы все хотели бы уйти в своей педагогической работе. И кому как не нам знать, что юношеские заблуждения, непонимание, даже искреннее неверие – в общем-то естественны и не так страшны, как холодное и расчетливое притворство.
Вот почему для коммунаров всегда был так важен общий круг. Стоя в кругу, каждый видит открытые лица других людей и понимает, что его место среди них не случайно, что они нужны друг другу, несмотря на то что они очень разные.
Спасибо за внимание.
Публика похлопала с неожиданным воодушевлением. Владимир Абрамович одобрительно покивал, но потом бросил на оратора короткий острый взгляд. Возможно, этот взгляд говорил: ну ладно уж, мир, но не забывайте, что вы у меня в гостях…
А никто и не собирался это забывать.
Что ж, атака, кажется, была отбита, и уцелевший боец последнего рубежа с чувством хорошо исполненного – не перед публикой, а просто под небесами – тяжкого долга устало поплелся в свою маленькую смешную казарму, набитую нервно спящими новобранцами…
Наступило серенькое утро. Все еле ползали, посмеиваясь над опухшими лицами друг друга. Да, ощущение – как после Нового года… Праздник закончился.
Дети уже разошлись по домам, и в школе оставались только те, кто должен был заниматься уборкой. Случайные встречные в коридорах понимающе улыбались, как старые знакомые.
Обратно все москвичи решили лететь вместе. Но самолет отправлялся только в девять вечера, и впереди был еще целый день, который нужно было чем-то занять. После полудня явились такие же помятые, но бодрящиеся московские челябинцы и предложили совершить экскурсию по местным достопримечательностям, а потом просто погулять по городу. Уж конечно, это было лучше, чем бессмысленно торчать в опостылевшей всем пионерской…
В школу они вернулись за двадцать минут до отхода автобуса в аэропорт. Остановка была где-то неподалеку, но время уже поджимало, пришлось бежать.
Рядом с автобусом стояла небольшая толпа. Но оказалось, что это свои: коммунары специально пришли проводить гостей. Это было очень приятно, хотя сердитый водитель не дал им допеть в кругу даже одну песню. Что ж, до свиданья, до свиданья! Приезжайте еще! Прощайте!..
Дверь уже закрылась, москвичи с разом погрустневшими лицами стояли в проходе под недовольными взглядами солидных пассажиров – как вдруг коммунары, словно по команде, кинулись с разных сторон к автобусу и прижали к стеклам распахнутые ладони. Внутри все испуганно отшатнулись от окон и на мгновение замерли. Это было маленькое «фирменное» чудо челябинских коммунаров. Не ответить им было невозможно. Все барьеры исчезли… Через секунду водитель дал гудок, автобус медленно тронулся, ладошки отлепились, все прощально замахали…
А Соня внезапно разрыдалась.
Поражение света