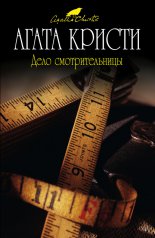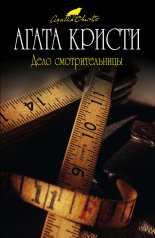Собака, которая спустилась с холма. Незабываемая история Лу, лучшего друга и героя Дьюно Стив
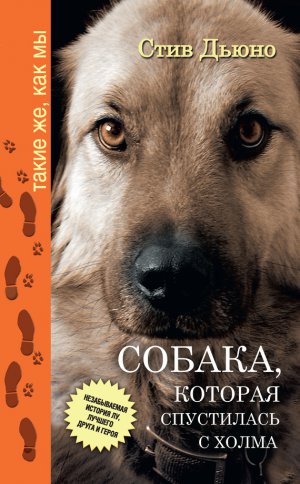
Через тропинку метнулась белка. Лу глухо гавкнул и натянул поддержку.
— Старые привычки – самые живучие. — Я потрепал его по голове и сделал знак «хорошо».
На краю нашей поляны я жестом подал команду «паста» и указал место, где он мог помочиться. Здесь мне надо было полностью принимать на себя вес его тыльной части, зато так он отлично справлялся и не падал.
Потом мы вместе лежали под деревом. Я давал ему печенье и массировал поясницу. Он косился на куст с синичками.
— При каких условиях ты бы мог прикончить лучшего друга? — спросил я его. — Каковы параметры?
Он посмотрел на меня.
— Р-р.
— Ты мой лучший друг.
Он пытался понять, что я говорю, но это было слишком сложно, у нас не было общей отправной точки.
Это было дорогой в бесконечность. Знать его. Ни конца, ни начала. Как ребенок, который залает вопросы: «Что было раньше?», или «Что будет потом?», или «Куда уходят собаки?»
— Ты заслуживаешь того, чтобы жить. Это твое право. Это не обсуждается. Когда ты сам будешь готов, дай мне знать или просто уйди во сне. Так это будет. Так это у людей. В любом случае, тебе решать. Если станет слишком тяжело, я сделаю то, что должен, но то, что ты не можешь танцевать тарантеллу, — еще не повод тебя убивать.
Он любил смотреть на меня, когда я с ним говорил, даже когда слух ему отказал. Он улыбнулся и вздохнул.
Когда мы стареем и дряхлеем, нам не хочется есть. Это очень сложная штука. Очень достойная и неуловимая.
Мой дед умер от лейкемии и болезни сердца. Он приехал из Италии совсем молодым, и у него всегда был отменный аппетит. Он тяжело работал и строил свою жизнь с нуля.
Итальянская культура определяется едой. Пища – это тот клей, что держит нас вместе. Но в последний год жизни дед к этому остыл. Завтраки и обеды, которые были когда-то так важны для него, утратили смысл. Он перестал есть, молиться, надеяться. Мой дед, родившийся в прошлом столетии, переживший землетрясение, оползень, Муссолини, мировую войну, путешествие через океан, превратился в призрак и умер в своей постели, в Нью-Йорке, забыв все те вкусные блюда, что он когда-то любил.
Мясо – это очень важная, очень давняя вещь. Мы были мясом для хищников раньше, чем их приручили. Для собаки еда – это святое. Еда – это сила и жизнь. Я никогда не встречал пса, который бы постился, и если я такого увижу, то не стану ему доверять.
Мы молимся о спасении души, они охотятся. Это одно и то же. Но когда мы мочимся под себя на смертном одре и молим о спасении грехов, они мочатся во сне, потому что им снятся белки. Для собаки еда – это вечность.
И теперь для Лу еда стала основной страстью. Что ему еще оставалось? Он был глух и не мог ходить без посторонней помощи. Зато пища по-прежнему была волшебством.
За час до обеда он оживлялся, пофыркивал и ворочался в своем убежище рядом с кухней, где проводил теперь почти все время. Но, несмотря на отличный аппетит, он продолжал худеть. Зад стал совсем костлявым, и даже мощная грудь как-то съежилась. Он ел, как не в себя, но не мог это переварить.
Мы давали ему все самое лучшее – свежую ягнятину, говядину, куриные шеи, яйца, требуху. Его никогда не тошнило, и я мог менять его меню каждый день. Он никогда не знал заранее, чего ожидать, и это подогревало интерес.
Для Флавио еда никогда не значила так много. Он любил сначала понюхать, потом отойти, попривыкнуть к новому запаху, и только тогда вернуться. К тому времени Лу давно успевал справиться со своим обедом и был готов преподать Флавио основной урок собачьего этикета: «Ешь быстро!»
— У него брови растут, — заметила Никки.
— На колдуна стал похож.
— Шерсть опять грязная. Ты давно его купал?
— Недавно, но искупаю, конечно. У него сальные железы стали плохо работать, и сам умываться он уже не может. Раньше он чистился, совсем как кошка.
— А еще он пукает. Часто.
— Ты тоже.
— Кто бы говорил. Вы с ним можете соревноваться.
Мы немного повозились, потом устроились на полу рядом с Лу. Я даже поиграл в ним в «чокнутого пса». Он был счастлив.
— Вот. Он опять пукнул!
— Ужас какой. — Я принялся махать рукой над Лу. Он ухмыльнулся нам и фыркнул.
— Ты видел? Он нарочно это делает и улыбается, точно как Джек, когда пукнет.
— Может, научить его пукать по команде? Лотерейщики это оценят.
Я всегда любил старые научно-фантастические фильмы. Чем хуже, тем лучше – мне нравилось смотреть их и бояться.
Как-то вечером мы с Лу смотрели «Мозг, который не хотел умирать». Он лежал рядом со мной, тяжело дышал и смотрел на экран, пытаясь понять, что там делает женская голова на большом железном подносе.
— Она лишилась тела, но мозг остался при ней, — сказал я, толкая его ногой. Он поднял на меня взгляд и вздохнул.
В фильме знаменитый хирург сходит с ума после того, как его невеста попадает в автокатастрофу, и ей отрывает голову. Он оживляет эту голову, после чего она несет с подноса всякую чушь.
Он собирается убить другую женщину и пересалить на ее тело голову своей любимой, та возражает и начинает телепатически общаться с каким-то жутким мутантом, которого добрый доктор держит у себя в шкафу. Она приказывает мутанту прикончить садиста, чтобы она могла наконец спокойно умереть. Мутант поджигает дом, и в финале мы видим, как среди языков пламени голова кричит: «Я же тебя просила: дай мне умереть спокойно!»
— Отличное кино, — объявил я, допивая пиво. Лу поставил лапу мне на колено. Я положил руку поверх. Он вытащил свою лапу и снова водрузил сверху. Мы играли так какое-то время, и я оставил победу за ним.
— Ар-ру-а.
— Может, отрезать голову Флавио, а на место пришить твою? У тебя будет еще десять лет жизни. У нас будет еще десять лет.
Он посмотрел на меня.
— Я шучу. Почти.
Не знаю, ощущал ли он себя головой на подносе.
— Ему все хуже, — сказал я.
— Я вижу, он уже не может стоять, — подтвердил доктор Филлипс. Я поддерживал Лу, пока врач слушал его сердце и легкие.
— У него проявляется недержание, и он худеет.
Он размял плечи Лу, тот попытался отстраниться. Ему явно это не понравилось.
— Весь вес приходится на передние лапы, и это сказывается. — Теперь он стал ощупывать голову. — Ему больно.
— Увеличить дозу обезболивающего?
— Можно, но это плохо для печени. Как он ест?
— Лучше некуда.
— Но все равно теряет в весе.
— Да.
Доктор Филлипс не пытался меня уговаривать. Он знал меня и знал Лу. Он понимал, что Лу особенный и что любая победа будет важной под конец.
— Я могу сделать анализ крови, но и без того очевидно, что он стремительно угасает. Дыхание затрудненное, шерсть клочьями, и он слишком худой.
— Я не могу. Еще рано. Мы не готовы.
— Понимаю. Сколько ему? Пятнадцать?
— Будет шестнадцать через три недели. Шестого июня – так мы записали в свое время и условились считать.
— День «Д».
— Точно.
— Для собаки его размеров и происхождения прожить так долго… это действительно чудо.
— Вся его жизнь – сплошные чудеса.
— Тогда еще немного подождем.
Люди любят цитировать учителей дзен-буддизма: отринь самопознание, поднимись надо всем, отпусти свое «я». Мне всегда казалось, это полная чушь. Суть дзена в том, чтобы не говорить об этом. Если ты болтаешь – ты несешь чушь, вот и все.
Я не хотел об этом говорить. Вот и весь дзен.
Львы убивают, потому что хотят есть и не хотят умирать. В этом нет ничего благородного и возвышенного. Если я применяю свою этику к действиям льва, я дурак.
Вы можете решить спасти своего ребенка, а не меня. Это нормально. Я вам разрешаю. Личные интересы превыше всего – это старый закон.
Это эгоизм – не отпускать собаку, которая изменила всю твою жизнь, которая сделала столько добра, тысячи раз рисковала собою ради других. Эгоизм. Но мне было наплевать.
Мой отец страдает из-за болей в спине каждый день своей жизни, но в свои восемьдесят пять он встает и идет на работу, потому что не может иначе, и работа – это его жизнь. Он терпит боль, спит ночью по два часа, выпивает двадцать чашек кофе в день и рассказывает каждый раз одни и те же истории, потому что это отличные истории, — про то, как погиб его брат на войне, или как он четыре раза разбивался на военных самолетах, или учился в десантной школе, или как он встречался с Кастро. Он их рассказывает, потом их пересказываю я, а потом об этом говорят все. Так устроен мир. У него болит спина, ну и что? Кто должен решать, когда его истории прекратятся?
Лу был собакой. Он не мог решить сам. Я не был идиотом. Я был эгоистом. И я знал, что он не такой, как все. Как Да Винчи, как ДиМаджио. Другого такого не будет. Общие правила к нему не применяются, ни раньше, ни сейчас.
Мне было сорок восемь. Лу – без малого шестнадцать. Я знал его треть своей жизни. Когда он встал на вершине холма и посмотрел на меня, мне было тридцать четыре, я мог выбрать любую из десяти дорог, у меня не было ни руля, ни ветрил, ни наставника. Лу изменил это все. Он дал мне эти слова. Он написал эту историю.
Следующие недели дались нам нелегко. Лу больше не мог ходить без помощи. Я отказывался считать это поводом. Он страдал недержанием. Но я и это поводом не считал.
У него болели передние лапы. Он стонал. Он смотрел на меня грустными глазами.
Заку было девятнадцать, он жил отдельно.
— Тебе стоит побыть с ним немного.
— Я заеду завтра.
— Хорошо.
Джек был как я. Он терпел, пока сил хватало.
Никки была мамой.
Прогулки в парк и обратно, в полмили длиной, для нас закончились. Он по ним скучал.
По пути рос каштан, раскидистый и искривленный, с одной голой веткой, свисавшей почти до земли. Лу мог пройти под ней ровнехонько, не пригибаясь, и с удовольствием играл в эту игру сам с собой: пройти, не задев эту ветку. Даже если мы подходили не с той стороны дороги, он все равно старался оказаться под ней. Иногда он ее обнюхивал, а порой нарочно задирал голову, чтобы она его задела. Ему нравились традиции. Он скучал по нашим прогулкам.
Я довел его до начала подъема на холм. Он задыхался и смотрел на меня устало. У него не было сил.
Я отнес его в парк на руках, а там он опять пошел по дорожке сам. Сейчас он весил меньше, чем когда мы поднимались на Красный пик. Легче воздуха.
Зелень повсюду. В густой листве сновали синицы. Неподалеку от нас на дорожку спрыгнула сойка. Лу улыбнулся и приветственно фыркнул. Он ничего не слышал, но видел по-прежнему хорошо.
Птица смотрела на нас. Мы встречали множество таких за время наших путешествий, в лесу и в горах. Она была знаком, что это хорошее место, как те холмы, где мы с Лу встретились впервые. Знак вечности в каком-то смысле.
Лу любил смотреть на птиц. Он понимал их язык. Завидовал, что они могут летать. Такие легкие и свободные.
Мы дошли до нашей поляны. Я уложил его под деревом, как усталого ребенка. У меня с собой была видеокамера. Я сожалел, что не снимал его чаще, все эти годы. У нас не осталось записей, когда он был еще совсем юным, носился, как ветер, и скакал, как блоха.
Мы немного поговорили. Я снял его на видео. Он смотрел на меня, и я видел его силу, желание сражаться до последнего. Он не мог уйти сам. Теперь я ясно это понимал. Перестать есть, мечтать и любить, как мой дед, — на это он был неспособен. Лу не сдавался. Он не умел. Лу был готов идти до последнего, пока не истает, как призрак, как туман, пока жизнь сама не оставит его.
Каждое утро я просыпался, и он был здесь, и ждал, пока я выведу его во двор. Чаще всего он просыпался в луже мочи или того хуже.
Но он не мог уйти во сне. Сны держали его, он бежал в своих снах. Никакой койот не мог его там догнать. Мог только я.
— Я не могу.
— Он сам не уйдет, — сказала она.
— Не могу представить мир без него.
— Я понимаю.
— Это просто собака, черт побери.
— Нет, не просто, и ты это знаешь.
— Я не знаю, кто он такой. Не могу понять.
— Это Лу. Твой лучший друг. Он спас тебе жизнь, а теперь ты должен ему помочь.
— Он – вся моя жизнь.
— Да, тебе очень повезло.
Каждую ночь мы засыпали, и Лу тоже; у него был тяжелый сон, он просыпался среди ночи и начинал звать меня, заранее страшась позора недержания. Если я успевал вовремя, все было в порядке, но если я опаздывал, он смотрел на меня виновато, как проигравший. Я поднимал его, убирал, потом проводил с ним еще какое-то время во дворе, поддерживая, пока он смотрел на луну и следил за опоссумом, поселившимся в гараже у соседей. Слышать его Лу не мог, зато запах чуял отлично. Он смотрел на меня, улыбался и всем своим видом говорил: «Эх, давно надо было изловить этого пакостника!» После этого мы возвращались в дом, он устраивался на своем матрасе, я садился рядом, клал голову ему на грудь и слушал, как бьется сердце. Он всю жизнь жил с легкими шумами, но это ни на чем не сказалось, его сердце билось до последнего, как часы.
Его грудь поднималась и опускалась. Поднимала и опускала меня. Наконец, я чмокал его в нос или шлепал по заднице и шел спать.
Он занимал очень важное место. Я ощущал это. Без него там будет пустота. Я не знал, смогу ли ее заполнить.
До него никто не мог этого сделать. Ни женщина, ни работа, ни какая-то высшая цель. Только эта собака. Он был псом, о котором я мечтал с детства. Псом, который нужен каждому мальчишке, — преданный защитник с чистым сердцем, супергерой. Он был моим краеугольным камнем.
Я видел фильм про пса, который сражался с кабанами, волками, быками. Он был лучшим, и хозяин души в нем не чаял. Но было ясно, чем все закончится задолго до того, как на экране появился бешеный волк. Я смотрел, и у меня наворачивались на глаза слезы.
Пес не мог помочь себе сам. Это должен был сделать человек.
На следующее утро я позвонил в клинику и сказал, что привезу Лу после обеда. Никто больше не мог этого сделать. Только я сам. Но час спустя я не выдержал и все отменил.
Доктор Филлипс сказал, что подождет, пока я не решу, что время пришло.
— Он не сдается, — сказал я с гордостью, но под этой гордостью скрывался страх.
— Он пережил котов, болонок, всех больших собак, кого я знаю, и даже некоторых лошадей. Но теперь его время пришло, и он это знает, и вы тоже.
— Я почувствовал это вчера ночью.
— Хорошо. Тогда дадите знать, как будете готовы. Мы ведь тоже его любим, поймите. Я тысячу раз делал эти уколы, но сейчас… В каком-то смысле это будет как в первый.
— Спасибо, доктор.
Шестого июня Лу исполнилось шестнадцать лет. Ходить он уже не мог, но с каким аппетитом он съел свой мясной торт. Он наслаждался каждым кусочком, не подпустил Флавио и близко. Даже сейчас он был готов отстаивать свои права до конца.
Ночь прошла плохо. Он скулил, я пришел к нему, вынес во двор помочиться, потом занес обратно. Я лежал с ним и слушал его натужное, прерывистое дыхание. Я думал, что он умрет прямо сейчас, но он жил. Он заснул, а я остался рядом. Я хотел, чтобы он умер сейчас, в моих объятиях, но он отказывался уходить. Этот пес не сдавался. Я пробыл с ним до утра, глядя, как он перебирает лапами, гоняясь за белкой во сне.
Еще одна плохая ночь. Ему вновь было трудно дышать. Отказывали внутренние органы. Он был похож на мальчишку, который набирает воздуха, чтобы нырнуть. Я любил его. Я слишком с этим затянул. Я пытался понять, как чувствует себя родитель, на глазах у которого умирает ребенок, как может он после этого жить… работать, есть, шутить, холить в кино. Было ли это похоже на то, что я ощущал сейчас?
Я позвонил и записался на девятое число.
Последняя ночь Лу. Ему не хватало дыхания. Все остальные уже легли. Мы хотели остаться вдвоем.
Я кормил его печеньем, он грыз его, когда удавалось вздохнуть. Я думал о том, сколько вдохов мы делаем за свою жизнь, как мало ценим каждый из них. Я лежал рядом с ним и считал. Теперь каждый его вдох и выдох я пытался запомнить.
Он прижался ко мне. Я положил ладонь ему на грудную клетку и чувствовал напряжение там, внутри. Потом я заснул, и мне снилось, что мы снова в горах, Лу скачет на фоне бездонного неба, и пахнет морем, полынью и пылью, и чем-то горелым. Я ощущал этот вкус во рту и бежал по тропинке, чтобы спрятаться за раскидистым дубом, я был уверен, что Лу меня все равно найдет. Я прислушивался и ждал.
Я проснулся внезапно, оттого, что он лизал мне руку. Медленно, сухим, шершавым языком.
— Я задремал.
— Ру-у.
— Мне снилось, как ты встретил змею. Помнишь змею?
— Рур-ру.
— Я так тебя люблю, Лу.
— Р-р-р.
— Прости, что я так затянул. Я думал, ты сам мне скажешь, когда будет пора.
Он посмотрел на меня, его глаза на исхудавшей морде казались огромными. Это был его особый, пронизывающий взгляд, как будто он пытался проникнуть в самую суть, скрытую под трехмерной картинкой.
Я чесал ему живот, считал вдохи и вспоминал отца Флинна, священника из церкви Святой Троицы, куда я ходил в детстве по воскресеньям. Для детей там в девять утра служили мессу. На скамьях было полно ребятишек, они смеялись, надували пузыри из жвачки, сестра Игнашес патрулировала проход и следила за порядком, суровая, как дракон.
В конце службы отец Флинн разрешал нам поднимать руки и задавать вопросы про Бога, или по Библии, или о чем угодно еще. Для нас это был повод привлечь к себе внимание, посмешить друзей. Но он относился к нам с добротой, не то что злобный бульдог в проходе.
Пару раз она дергала меня за уши, когда я спрашивал что-то вроде: «А какой был размер обуви у Иисуса?» или «Состоял ли он в профсоюзе плотников?» Я был тот еще шутник, но как-то раз я посмотрел фильм про собаку, тот самый, где она погибает в конце, и захотел задать вопрос всерьез.
— Святой отец, а собаки попадают в рай?
Сестра Игнашес устремилась к моему уху, но отец Флинн ей не позволил:
— Не надо. По-моему, он не смеется.
Она уселась рядом, чтобы понаблюдать за мной, но я и впрямь не шутил. Я хотел знать, почему пес, который тысячу раз рисковал жизнью, защищал тебя, смешил, никогда не бросал в беле, — почему такой пес не может оказаться в раю? Я хотел знать, что это будет за место, если там не будет никого, кроме людей: ни собак, ни лошадей, ни кошек, ни деревьев, ни орлов, ни рыб в океане… и даже самих океанов не будет тоже. Всего этого я не спросил, но я думал об этом, и, по-моему, он это знал.
— В Библии говорится, что в рай попадут только те, у кого есть душа. Ты веришь, что у собак есть душа, Стивен?
— Конечно. А вы?
Он улыбнулся. Сестра Игнашес вцепилась мне в ухо.
— Моя собака в этом не сомневается. И у Исайи сказано, что волк возляжет с ягненком, а леопард с козленком, и телец, лев и орел будут вместе, и всех их поведет за собой ребенок, и они не причинят зла никому на священной горе, потому что вся земля будет полна знанием о Господе, как море полно водой. Я думаю, это звучит многообещающе.
— Так собаки попадают в рай?
— Я не могу себе представить рай без них, Стивен.
Девятое июня, понедельник, утро. Он провел остаток ночи без приключений. Молодчина, Лу.
Никки взяла выходной. Мы какое-то время побыли с Лу, вынесли его во двор, чтобы он мог там обнюхать все, что захочет. Стоять он уже не мог, артрит причинял ему невыносимую боль. Он как следует помочился, потом сделал все остальное – крепко, одной «порцией» – и с гордостью посмотрел на меня.
— Хороший мальчик. Пойдем домой. Есть хочешь? — Я вздохнул.
Это слово он знал хорошо. Для него оно было как пицца или конфета для ребенка, или Диснейленд.
Уши встали торчком, он облизнулся, в глазах вспыхнул огонек. Еда – это святое. Ешь даже через боль, таков собачий закон.
Я вытащил из холодильника стейк и бросил на разогретую сковородку, чтобы мясо дало сок. Лу в своей комнатке-убежище изо всех сил пытался встать, но не мог. Облизываясь и подергивая ушами, он наблюдал, как я готовлю его последний обед.
Запах жареного мяса наполнил дом. Зашла Никки.
— Чеснок?
— Конечно. Он любит чеснок.
Мы добавили зубчик, я перевернул стейк другой стороной. Лу царапал свой настил и ворчал от нетерпения. Еда – это священное право. Он хотел есть.
Одна минута с каждой стороны, чтобы мясо прогрелось, но внутри оставалось сочным, сырым.
— Смотри, — сказал я.
Запах поднял его на ноги. Пища, чудо, объединявшее собак и людей в незапамятные времена. Волки подкрадывались к человеческим поселениям, чтобы красть объедки, а мальчик взирал в темноту, греясь у костра, и видел, как в ночи вспыхивают глаза, придвигаясь все ближе, как светлячки на огонь, отчаянно стремясь к чему-то недостижимому, готовые на любой пакт, любой договор, если это будет означать сытость. Готов за еду на все, навсегда.
Мальчик направился в ночь, с куском мяса в руке, в ту сторону, где светились огоньки. Для волка аромат пищи оказался сильнее страха, самая лучшая приманка, обещавшая лучшее будущее. Самый тощий из волков отважился первым и вышел на запах. Мальчик швырнул ему мясо, и волк съел его, и, забыв обо всем и не слушая, что там кричит мать от костра, эти двое впервые увидели друг друга по-настоящему. Это был священный союз.
Я снял мясо со сковородки, дал соку стечь и принес Лу его обед. Он сидел, облизываясь, лапы подрагивали, он был готов ко всему, готов.
— Держи, приятель. — Я дал ему стейк. Никки смотрела и плакала. Лу открыл пасть, аккуратно взял мясо и просто держал его так несколько секунд, наслаждаясь моментом, ощущениями, предвкушением пищи. Затем улегся со своей добычей на пол и уничтожил ее.
— Это очень стыдно, но мне тоже захотелось, — призналась Никки.
— Ужас.
— Но он с таким аппетитом ест.
Покончив со стейком, Лу вылизал пол. Никки дала ему остывший мясной сок со сковороды, и его он тоже слизал без остатка. Сейчас для Лу не было ничего важнее.
— У меня такое ощущение, что это не его там уколют, а меня, — сказал я. — Не знаю что делать и что говорить.
— Мне кажется, я падаю, как в страшном сне, — сказала она.
— Но сейчас мы должны это сделать.
— Да. Не могу поверить, что все заканчивается вот так.
— Мы держались весь год. Теперь пора его отпустить.
Мы сели на пол и гладили его. Он лизал меня в лицо, от него пахло мясом и чесноком. Он попытался обнять меня передними лапами, как делал это раньше, но не смог, и я сам обнял его, вдыхая запах его шерсти и дыхания. Я смотрел ему в глаза, затуманенные мясной сытостью, и видел, что сейчас в них нет боли.
— Пора ехать, — сказала она.
— Подожди немного.
Я достал ножницы и срезал немного шерсти – черной, рыжей и мягкого подшерстка. Он покосился на меня, намекая, что когти стричь не позволит. Я поместил шерсть в пакетик.
— Все. Теперь пойдем.
Я уложил его на заднее сиденье машины, на одеяло. Он немного поворчал, ему было неудобно, но тут же успокоился: ездить он всегда любил.
— Погоди, — сказал я и вернулся в дом, потом вышел обратно.
— Что ты забыл?
— Он должен сам войти в эту дверь, я взял поддержку.
Мы выехали на улицу. Лу обернулся посмотреть на наш дом.
Иногда в самые трагические моменты случаются самые странные вещи. Что-то, что заставляет нас улыбнуться.
Я смотрел на него в зеркало заднего вида, взъерошенного, настороженного, но мне надо было вести машину, и я перевел взгляд вперед. Я подумал, что немного музыки нам не помешает, и включил радио.
— С ума сойти, — сказала Никки.
— Не верю своим ушам.
Десять секунд проигрыша, которые любой гитарист рано или поздно пытался сыграть в своей жизни, — а потом заиграла «Лестница в небо». Клянусь, все было именно так.
Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. Лу потянулся к нам.
— Ар-ру.
Мы слушали эту песню всю дорогу до клиники, восемь минут.
Я вытащил его из машины и поставил на асфальт, продев под брюхо «чемоданную» поддержку. Он выровнялся, пошатавшись немного, и тогда я отпустил рукоятку и прицепил ему к ошейнику поводок.
— Пойдем, Лу.
Мы двинулись вперед. Он практически не чувствовал задних лап, они были как деревяшки, но он шел все равно. Он слышал меня. Для него тоже это было важно.
Дважды мне пришлось поддерживать его. Но когда мы добрались до входа, Никки открыла нам дверь, и мы вошли внутрь, Лу выровнялся вновь.
— Рядом, — жестом скомандовал я.
По левую сторону от меня, как он ходил всегда. Поводок не натянут. Лу шел вперед. Он переступил порог кабинета и только там покачнулся, опираясь о мою ногу. Я подхватил его. Доктор Филлипс с помощником уже ждали нас, оба держали в руке печенье, то самое, которое Лу так любил.
— Это поможет ему расслабиться. Так, Стив, теперь кладите его на стол.
— Я люблю тебя, Лу.
— Я рад, что был знаком с таким псом, — сказал он.
— Лу, ты мой герой.
Я обнял его.
— Все, Стив. Я делаю укол.
— Я очень тебя люблю. Будь молодцом. Хороший мальчик, Лу. Да? Ты мой герой. Я люблю тебя, Лу. Я тебя люблю.
Жизнь оставила его. Я ощутил этот момент. Безволие, ускользание, то, как ухолит душа. В моих руках осталась только тяжесть. Он спасал других, он дарил им надежду, а теперь жизнь покинула его, как птица, он улетел прочь, от меня, и скрылся где-то среди деревьев на высоком холме.