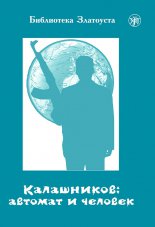Капут Малапарте Курцио

— А разве во времена Гомера[462] уже существовали турки? — спросила Колетт Константиниди.
— Некоторые турецкие ковры, — ответил Ага Аксель, — значительно древнее, чем Илиада.
(Несколькими днями раньше мы все были у Дину Кантемира, который жил в Бруннспаркене, напротив английского посольства, в прекрасном доме Линдеров, и восхищались его коллекциями фарфора и восточных ковров. В то время, как Дину рисовал мне рукой в воздухе генеалогическое древо своих лучших «саксов», а Бенгт фон Тьёрн, стоя под портретом одной из Линдер, знаменитой своей красотой, говорил Мирна Бериндею и Титусу Михайлеско о живописи Галлеи Каллела, посол Турции и посол Румынии, стоя на коленях посреди комнаты, спорили по поводу двух маленьких молитвенных ковриков XVI века, которые Кантемир расстелил на полу. На одном из них были вытканы два ромба, чередующихся с двумя прямоугольниками, — розовых, сиреневых и зеленых, на другом — четыре прямоугольника — розовые, синие и золотистые, обнаруживавшие ярко выраженное персидское влияние. Посол Турции превозносил нежную гармонию красок первого — самую трудную цветовую гамму, какую он когда-либо, по его словам, видел, а посол Румынии, расхваливал изящество, почти женственное, второго ковра, напоминавшего своими тонами старинную персидскую миниатюру. — «Но это же вовсе не так, мой дорогой!» — говорил Константиниди, повышая голос. — «Я заверяю вас своим честным словом, что вы ошибаетесь!» — отвечал Ага Аксель нетерпеливо. Оба стояли на коленях и, разговаривая, жестикулировали, как будто совершали турецкую молитву. Не прекращая спора, они кончили тем, что уселись друг против друга на обоих ковриках, по-турецки поджав ноги. Ага Аксель говорил: «Ведь к туркам всегда были несправедливы»).
— От великой турецкой цивилизации, — говорил Ага Аксель, — не останется в конце концов ничего, кроме нескольких древних ковров. Мы — народ героический и неудачливый, все наши несчастья происходят от нашей вековой терпимости. Если бы мы были менее терпимыми, мы, быть может, покорили бы весь христианский мир.
Я спросил его, что означает в турецком понимании слово: «терпимость».
— Мы всегда были терпимыми с покоренными народами, — ответил Ага Аксель.
— Я не понимаю, — сказал де Фокса, — отчего турки не присоединились к христианству. Это в значительной мере все бы упростило.
— Вы правы, — сказал Ага Аксель, — если бы мы стали христианами, то сегодня мы были бы в Будапеште, а может быть и в Вене.
— Сегодня нацисты находятся в Вене, — заметил Константиниди.
— Если бы они были христианами, они там бы и остались, — ответил Ага Аксель.
— Самой трудной проблемой современности по-прежнему остается религиозная проблема, — сказал Бенгт фон Тьёрн. «Нельзя убить Бога». И он рассказал эпизод, происшедший за некоторое время до того в Турку[463] — финском городе, на берегу Ботнического залива. Советский парашютист, опустившийся в окрестностях города, был захвачен в плен и заключен в тюрьму. Пленный имел, примерно, тридцать лет от роду, и до войны был механиком на металлургическом заводе в Харькове. Он был также убежденным коммунистом. Одаренный созерцательным умом, он казался не только любопытным, но и хорошо информированным о многих проблемах и, в частности, о проблемах моральных. Его культурный уровень заметно превосходил уровень, свойственный обычно ударнику, стахановцу, члену этих «штурмовых бригад», которые на советских заводах носят имя в честь своего создателя и организатора — инженера Стаханова[464]. Он много читал в своей камере, предпочтительно книги по вопросам религии, которые директор тюрьмы, заинтересованный этим по-своему столь завершенным и любопытным человеческим экземпляром, позволял ему выбирать из своей личной библиотеки. Разумеется, военнопленный был материалистом и атеистом.
Спустя некоторое время его послали работать механиком в тюремную мастерскую. Однажды военнопленный заявил, что он хотел бы поговорить со священником. Молодой лютеранский пастор, очень уважаемый в Турку за свои познания и благочестие, выдающийся проповедник, прибыл в тюрьму и его проводили в камеру советского парашютиста. Они провели вдвоем в этой запертой камере около двух часов. Когда пастор в конце долгой беседы поднялся, чтобы уйти, заключенный положил руки на его плечи и после минутного колебания поцеловал его. Эти подробности были опубликованы в газетах Турку. Спустя несколько недель заключенный, который уже в течение нескольких дней казался погруженным в тревожные и мучительные раздумья, пожелал снова увидеться с пастором. Пастор снова явился в тюрьму, и их заперли, как и в первый раз, в камере коммуниста. Прошел примерно час, когда тюремщик, прохаживавшийся по коридору, услышал крик, призыв о помощи. Он открыл камеру и обнаружил в ней заключенного стоящим у стенки, а перед ним пастора, лежащего в луже крови. Перед смертью пастор рассказал, что в ходе их беседы военнопленный обнял его и одновременно ударил в спину острым стальным напильником. На допросе убийца заявил, что он убил пастора потому, что тот силой своих аргументов нарушил его мировоззрение коммуниста и атеиста. «Он был присужден к смерти и расстрелян. Он, — заключил Бенгт фон Тьёрн, — покушался убить Бога в лице этого пастора».
История этого преступления, рассказанная финскими газетами, произвела глубокое впечатление на общественное мнение. Лейтенант Гуммерус, сын бывшего посла Финляндии в Риме, рассказал мне, что его друг, командир отряда, приводившего в исполнение приговор, рассказывал, что на него произвела большое впечатление безмятежная ясность убийцы.
— Он снова обрел мир в своем сознании, — сказал де Фокса.
— Но это ужасно! — воскликнула графиня Маннергейм. — Как это можно питать мысль о том, чтобы убить Бога?
— Все современное человечество пытается убить Бога, — сказал Ага Аксель. — В современном сознании жизнь Бога находится всегда в опасности.
— Даже в мусульманском сознании? — спросил Константиниди.
— Даже в мусульманском сознании, к сожалению, — ответил Ага Аксель. — И не по причине соседства с коммунистической Россией и ее влияния, но в силу того факта, что убийство Бога носится в воздухе, что оно является составным элементом современной цивилизации.
— Современное государство, — сказал Константиниди, — питает иллюзию, что оно в состоянии защитить жизнь Бога простыми полицейскими мерами.
— Оно питает иллюзию защитить не только жизнь Бога, но и свое собственное существование. Возьмите, например, Испанию. Единственный способ опрокинуть Франко — это убить Бога, и отныне покушения на жизнь Бога на улицах Мадрида и Барселоны неисчислимы. Не проходит дня, чтобы кто-нибудь не стрелял из револьвера. И он рассказал, что накануне, в издательстве Штокмана, он нашел испанскую книгу, выпущенную совсем недавно, где первая строка на первой странице, прочтенная им, заключала фразу: «Бог, этот гениальный безумец..».
— Что важно отметить в преступлении, происшедшем в Турку, — сказал Бенгт фон Тьёрн, — так это не столько факт, что русский коммунист убил пастора, но что это Карл Маркс покушался убить Бога. Это типично марксистское преступление.
— Мы должны иметь смелость признать, что современное человечество легче принимает «Капитал», чем Евангелие, — сказал Константиниди.
— Это верно также и в отношении Корана, — сказал Ага Аксель. — Легкость, с которой молодые магометане принимают коммунизм, просто изумительна. В восточных республиках СССР Магомета без колебаний покидают ради Маркса. Что останется от Ислама без Корана?
— Католическая церковь, — сказал де Фокса, — показала, что она умеет обходиться без Евангелия.
— И наступит день, когда мы увидим коммуниста без Маркса[465], — добавил Кантемир. — По крайней мере, это является идеалом для многих англичан.
— Идеал множества англичан, — пояснил Константиниди, — это «Капитал» Маркса в издании «Блю бук»[466].
— Англичанам, — сказал Ага Аксель — не приходится бояться коммунизма. Для них проблема коммунизма — это остаться победителями в борьбе классов на поле, на котором они одержали победу под Ватерлоо, на футбольном поле в Итоне[467].
Графиня Маннергейм рассказала, что за несколько дней до этого посол Германии фон Блюхер в беседе с несколькими своими коллегами казался очень встревоженным коммунистической опасностью в Англии. «Don’t worry[468], — сказал ему граф Адам Мольтке-Хиндфельдт, секретарь датского посольства, — Britain never will be slaves[469]».
— Англичане, — возразил де Фокса, — обладают большой добродетелью совлекать с вопросов все излишние затемняющие их элементы. Таким образом они умеют обнажать самые сложные и запутанные проблемы. Мы еще увидим коммунизм, — добавил он, — прогуливающимся по улицам Британии, как леди Годива[470] на улицах Ковентри.
Было, вероятно, два часа ночи. Стало холодно, и от металлического света, проникавшего через широко открытое окно, лица собеседников выглядели до такой степени бледными, что я попросил де Фокса распорядиться, чтобы закрыли окна и зажгли свет. Все мы имели вид трупов, потому что ничто в такой мере не наводит на мысль о смерти, как человек в вечернем туалете при свете дня, или молодая женщина, с подкрашенным лицом и обнаженными плечами, украшенная безделушками, блестящими в солнечных лучах. Мы сидели кругом роскошного стола, как мертвецы, справляющие в Гадесе[471] некий траурный банкет. Металлический свет ночного дня придавал нашей коже мертвенно-бледный, погребальный отблеск. Лакеи закрыли окна и зажгли свет. И тогда нечто мягкое, интимное, личное, проникло в комнату, вино загорелось в бокалах, наши лица вновь зарозовели, глаза приобрели веселый блеск, и наши голоса снова стали теплыми и глубокими, как голоса живых людей.
Внезапно послышалась долгая жалоба сирен воздушной тревоги. Тотчас же начался заградительный огонь противозенитных батарей. С моря донесся мягкий, словно пчелиное жужжанье, рокот советских моторов.
— Это, быть может, смешно, — сказал Константиниди, — но мне страшно!
— Я тоже боюсь, — сказал де Фокса — и в этом нет ничего смешного.
Мы все не шевелились. Удары взрывов были тревожными и глухими, стены дрожали. Перед Колетт Константиниди бокал треснул с легким звоном. По знаку, поданному де Фокса, один из лакеев раскрыл окно. Нам стали видны советские самолеты; их было, наверное, не менее сотни. Они летели низко над крышами города, как огромные насекомые с прозрачными крыльями.
— Самое странное в этих светлых северных ночах, — сказал Мирсеа Бериндей, со своим странным румынским акцентом, — это возможность видеть при полном свете ночные жесты, мысли, чувства, вещи, которые рождаются только в таинственном мраке, которые ночь ревниво охраняет, укрывая в своей тьме. И, повернувшись к г-же Слёрн, он добавил: — Посмотрите! Вот ночное лицо!
Бледная, с губами слегка трепещущими и дрожащими, светлыми веками, госпожа Слёрн улыбалась, склоняя свой лоб. Госпожа Слёрн — гречанка. У нее прозрачное лицо, черные глаза, высокий и чистый лоб, античная нежность в улыбке и движениях. У нее совиные глаза — глаза Афины, с белыми, нежными и встревоженными веками.
— Я люблю, когда мне страшно, — произнесла госпожа Слёрн.
Время от времени глубокая тишина сменяла треск орудий артиллерии, разрывы бомб, рокот моторов. В эти короткие мгновения затишья становилось слышно пение птиц.
— Вокзал охвачен пламенем! — сказал Ага Аксель, сидевший напротив окна.
Даже магазины Эланто горели. Было холодно. Женщины кутались в свои шали. Ледяное солнце ночи проглядывало сквозь деревья парка. Где-то вдали, в стороне Суоменлинна[472], лаяла собака.
И тогда я стал рассказывать историю Спина, пса, принадлежавшего итальянскому послу Мамели, в дни бомбардировки Белграда.
XI. СУМАСШЕДШЕЕ РУЖЬЕ
Когда началась бомбардировка Белграда, посол Италии Мамели стал звать свою собаку Спина, очень красивого ирландского сеттера, трехлетка: «Идем, Спин, быстро!» Спин сидел в углу кабинета посола, как раз под портретами папы, короля и Муссолини, как будто испрашивая у них защиты. Он не осмеливался подойти к своему хозяину, который звал его, стоя на пороге. — Идем, Спин, быстро! Надо опускаться в убежище! Тогда, по необычности тона хозяина, Спин понял, что действительно есть основания для боязни. Он стал стонать, мочиться на ковер и осматриваться кругом, с видом, совершенно сбитым с толку.
Это был прекрасный английский пес — Спин, благородной и чистой породы, и у него была только одна страсть — охота. Мамели часто брал его с собой охотиться среди холмов и лесов окрестностей Белграда, на берегах Дуная или на островах, находящихся посреди реки перед Белградом, между Панчевым и Земуном. Он снимал с гвоздя ружье, вешал его себе за спину и говорил: «Идем, Спин!» Пес лаял и прыгал от радости, а когда они проходили по коридору, где висели ружья, патронташи и отличные ягдташи из английской кожи, принадлежавшие Мамели, Спин поднимал вверх глаза и вилял хвостом.
Но в это утро, едва лишь только началась бомбардировка Белграда, Спину стало страшно. Разрывы бомб были пугающими. Здание итальянского посольства, находившееся на небольшом расстоянии от бывшего королевского дворца, сотрясалось до самого основания ужасающими взрывами; куски штукатурки отрывались от стен, длинные трещины появлялись в перегородках и потолках. — «Идем, Спин! Быстро!» Спин спустился по лестнице в убежище, с хвостом, зажатым между задними ногами, повизгивая и мочась на ступеньках. Убежище было простым погребом на уровне земли. Не нашлось времени даже на то, чтобы укрепить его несколькими балками, чтобы усилить свод и поставить столбы из дерева или бетона; через отверстие, открывавшееся на уровне улицы, в него проникал свет, угрюмый и пыльный. Вдоль стен, в деревенской безыскусственности, светились ряды бутылей кьянти[473], бутылки французских вин, виски, коньяка и джина. С потолка свешивались копченые окорока[474] из Сен-Даниэля и ломбардские[475] салями. Этот погреб был настоящей мышеловкой. Достаточно было маленькой бомбы, чтобы все работники посольства оказались здесь погребенными, и собака Спин с ними вместе.
Это произошло утром, в воскресенье, 6 апреля 1941 года, в семь часов двадцать минут. Спин спускался по лестнице убежища и стонал от страха. Проходя по коридору, он поднял глаза: все ружья были на своих местах. Значит, эти невероятные взрывы не были ружейными выстрелами, но чем-то анормальным, совершенно бесчеловечным и противным природе. Земля дрожала, словно встряхиваемая землетрясением, дома сталкивались друг с другом, слышался страшный треск рушащихся стен, звон витрин, разбивающихся о тротуары, крики ужаса, плач, призывы на помощь, проклятия, мычание обезумевших людей, обращенных в бегство. Бомбы падали на Террасию, на площадь Споменик, на старый королевский дворец. По улицам на большой скорости проносились колонны автомобилей, увозя генералов, министров, сановников двора, высших служащих. Ужас охватил гражданские и военные власти, и они бросились в бегство, покидая столицу. Около десяти часов утра город оказался предоставленным самому себе. Начался грабеж. Городские подонки, к которым присоединились цыгане, набежавшие с Земуна и из Панчева, срывали защитные занавесы из листов волнистого железа над окнами и входами в магазины и даже пробирались в дома, чтобы грабить. Горожане и грабители сражались на улицах, на лестницах дворца, на лестничных площадках и внутри квартир. На площади Споменик горел королевский театр. Кондитерская, расположенная напротив театра на другой стороне площади, обрушилась. Это была турецкая кондитерская, знаменитая на всех Балканах своими возбуждающими афродизийными пирожными[476]. Толпа, горланя, рылась среди мусора и люди яростно дрались из-за драгоценных лакомств: всклокоченные женщины с пылающими лицами оглушительно выкрикивали непристойности, пожирая и пережевывая маленькие пирожные, карамели и драже, возбуждающие похоть. Эти страшные взрывы, этот грохот падающих стен, завывания ужаса, этот смех и потрескивания пожарищ, — Спин слушал все это, поджав хвост между задними ногами, опустив уши и повизгивая. Он прижимался к ногам посла Мамели и мочил его ботинки и брюки. Когда около полудня удары бомб мало-помалу стали удаляться и затем умолкли, Мамели и служащие его посольства поднялись на первый этаж, но Спин отказался покинуть убежище. Пришлось отнести ему еду вниз, в этот темный погреб, полный дыма. До рабочего кабинета посла в минуты затишья доносился жалобный визг Спина. Мир обрушился. Должно быть, произошло нечто невероятное и сверхъестественное, в чем Спин не был в состоянии отдать себе отчет. «Бомбардировка окончилась», — говорил ему Мамели каждый раз, спускаясь к нему в погреб. — Теперь ты можешь подняться наверх, опасности больше нет. Но Спину было страшно, он не хотел покидать погреба. Он не притронулся к пище и смотрел на свою еду с подозрением, глазами недоверчивыми и умоляющими, глазами собаки, которая боится быть преданной даже руками своего собственного хозяина. Никакие законы — человеческие, природные, более не существовали. Мир обрушился.
Около четырех часов после полудня того же дня посол Мамели приготовился еще раз спуститься в погреб, чтобы попытаться убедить Спина, что всякая опасность миновала и что все снова пришло в порядок, порядок обычный и традиционный, когда очень высоко в небе, со стороны Земуна и со стороны Панчева, послышалось жужжание. Первые бомбы упали возле Милос Велитога, большие бомбы, которые бомбардировщики вбивали в крыши совершенно так, как вбивают гвозди — одним ударом молотка, точным и ошеломляющим. И город снова дрожал до самых своих оснований. Толпа, завывая, убегала по улицам. Время от времени между двумя взрывами наступало великое молчание, все кругом было мертво, неподвижно и бездыханно. Это было совсем как будто тем молчанием природы, которое наступит, когда земля станет мертвой; бесконечное последнее молчание, звездное молчание земли, когда она станет холодной и мертвой, когда завершится разрушение мира. Затем, внезапно, новый ужасающий взрыв вырывал с корнями деревья и дома, и небо обрушивалось на город с громовым треском.
Посол Мамели и служащие посольства спустились в убежище и теперь сидели там, немного бледные, на стульях, которые прислуга разместила вокруг стола, посередине погреба. Они молча курили. В промежутках между взрывами слышалось только повизгивание Спина, уткнувшегося в ноги своего хозяина.
— Это конец света! — произнес второй секретарь принц Руффо.
— Это настоящий ад, — сказал посол Мамели, закуривая сигарету.
— Все силы природы сорвались с цепи и обрушились на нас, — заключил первый секретарь Гуидотти. — Сама природа сошла с ума!
— Ничего не поделаешь, — проговорил граф Фабрицио Франко.
— Нам ничего не остается кроме как вести себя подобно румынам, — заметил посол Мамели, — «тю-тюн си рабдаре» — курить и ждать.
Спин слышал эти слова и отлично понимал, что больше ничего не остается: курить и ждать. Но ждать чего? Посол Мамели и служащие его посольства, разумеется, знали, чего они ждут, сидя таким образом, бледные и встревоженные, куря сигарету за сигаретой. Если бы они, по крайней мере, проронили несколько слов, чтобы раскрыть Спину тайну этого мучительного ожидания! Тьма, окружавшая сознание пса в отношении всех происшествий этого ужасного дня и неясность причины этого ожидания, добавляли к страху, возбуждаемому разрывами бомб, тревогу, которая была ужаснее самой мрачной уверенности. Дело вовсе не в том, что Спин был трусливым псом, — он был смелой английской собакой, чистой породы, арийской собакой, в лучшем смысле этого слова: ни одной капли цветной крови в венах; это был смелый английский пес, воспитанный в лучшем собачнике Суссекса[477]. Он не боялся ничего, не боялся даже войны. Спин был охотничьим псом, а война, это знает каждый, разновидность охоты, в которой люди одновременно и охотники, и дичь, игра, в которой люди, вооруженные ружьями, охотятся друг на друга.
Он не боялся ружейный выстрелов, Спин. Он бросился бы с высоко поднятой головой один против целого полка. Услышав выстрелы, он становился радостным. Выстрелы входили в порядок вещей, предусмотренный природой; они были традиционным элементом в мире, окружавшем Спина. Что представляла бы собой жизнь без выстрелов? Что представляла бы жизнь без долгих походов среди кустарников и лесных опушек, среди холмов вдоль берегов Дуная и Савы[478], когда надо идти по линии знакомого запаха, натянутого, словно нить, через леса и поля, нить, по которой приходилось идти, как акробат движется по стальному канату, не отклоняясь, в дни, когда выстрел охотничьего ружья сухо отдается в ясном и чистом утреннем воздухе или, словно сопровождаемый легкой дрожью, доносится сквозь серую паутину осеннего дождя, или радостно грохочет над снежной долиной, — в эти дни выполняется порядок, установленный самой природой. Не хватает только этого выстрела, который придает последний штрих совершенству природы, мира и жизни.
В долгие зимние вечера, когда Мамели сидел в библиотеке у камина, зажав в зубах свою коротенькую трубочку и склонив голову над книгой (пламя весело потрескивало в камине, ветер свистел и дождь лил снаружи), Спин, лежа на ковре у ног хозяина, вспоминал в полусне этот сухой звук выстрела, сопровождаемый стеклянным звоном утреннего воздуха. Время от времени он поднимал глаза на старое турецкое ружье, висевшее на стене напротив двери, и вилял хвостом. Это было турецкое кремневое ружье с ложем, сплошь инкрустированным перламутром (Мамели приобрел его за несколько динаров у одного старьёвщика в Монастире[479]), которое, вероятно, стреляло еще в христианских солдат принца Евгения Савойского[480], в венгерских кавалеристов и кроатов[481], галопирующих в окрестностях Земуна. Старое и верное военное ружье, которое выполнило свой долг, сыграло свою роль, состоявшую в том, чтобы поддерживать древний и традиционный порядок, установленный природой. И оно тоже в своей далекой молодости умело придавать последний штрих совершенству мира в дни, когда его сухой треск разбивал стеклянную неподвижность утра, и юный улан падал с лошади, там, в Земуне[482], в Нови Саде, в Вуковаре. Спин не был, что называется son of а gun[483] но он не мог себе представить мир без ружья: пока голос ружья будет иметь свою власть, ничто не нарушит порядка, гармонии, совершенства природы.
Но ужасный грохот, сопровождавший в это утро обвал всего мира, не мог быть, не был дружественным голосом ружья. Это был никогда не слышанный ранее голос, новый, пугающий голос. Какое-то ужасающее чудовище, какой-то грозный чужеземный бог навсегда опрокинул царство ружья, этого привычного бога, который до сих пор управлял миром в порядке его и гармонии. Голос ружья станет отныне немым и навсегда побежденным этим диким грохотом. И облик самого Мамели, такого, каким он выглядел в эти жестокие минуты в сознании Спина, на фоне рушащегося мира и жизни в развалинах, был образом бедного маленького человека, сгорбленного, седеющего и бледного, который, прихрамывая, ходит среди раздетых полей и испепеленных лесов с пустой охотничьей сумкой на плечевом ремне, с ружьем бесполезным, немым и побежденным.
Между тем, страшная мысль внезапно пришла в голову Спину. Что, если этот ужасный голос… если этот дикий голос был ничем иным, как голосом ружья? Если ружье, охваченное внезапным безумием, стало бегать по всем дорогам — в полях, лесах и на речных берегах, разрушая все вокруг этим голосом, новым, ужасным, бредовым? При одной этой мысли Спин почувствовал, что кровь стынет в его жилах. Угрожающий образ Мамели, вооруженного этим обезумевшим ружьем, возник перед его глазами: вот Мамели вкладывает в ствол патрон, поднимает оружие, прикладывается, нажимает на собачку. Ужасный гром вылетает из дула. Страшный взрыв потрясает весь город до основания, глубокие бездны распахиваются в земле, дома сталкиваются и рушатся с оглушительным треском среди густых облаков пыли.
В погребе все молчали, бледные и покрытые испариной; некоторые молились. Спин закрыл глаза и перепоручил свою душу Богу.
В этот день я находился в Панчево, у въезда в Белград. Огромное черное облако, поднимавшееся над городом, издали казалось крылом огромного ястреба. Это крыло трепетало и прикрывало небо своей обширной тенью. Закатное солнце било в нее наискосок, извлекая из этой тени кровавые и как бы закопченные лучи. Это было крыло ястреба, раненого насмерть, который пытается приподняться и борется, разрывая небо своими жесткими маховыми перьями. Там, отвесно над городом, раскинувшемся на лесистом холме, в глубине широкой равнины, которую бороздили ленивые желтые речки, юнкерсы пикировали без передышки, вытянув шеи, со страшным завыванием, и рвали клювами и когтями белые дома, высокие дворцы, сверкавшие на солнце своими стеклами, дома пригородов и предместий, стоявшие на равнине. Высокие фонтаны земли вздымались вдоль берегов Дуная и Савы. Над самой моей головой слышалось непрестанное ворчание моторов, нескончаемый свист металлических крыльев, сверкавших в последних лучах дня. На горизонте рождались отголоски этих диких тамтамов[484]. Далекие огни пожарищ там и здесь поднимались над равниной. Рассеянные сербские солдаты кучками бродили по деревням. Кое-где виднелись немецкие патрули; они шли, согнувшись, по траншеям, обыскивали заросли камышей и тростников по берегам прудов, окаймлявших Тимис. Вечер был бледный и мягкий. Распухшая луна медленно поднималась над холмами далекого горизонта, рождая светлые отблески в водах Дуная. И в то время, как из комнаты, которую я занимал в одном полуразрушенном здании, я смотрел, как эта луна медленно поднимается в небе (а небо было сверкающе-розовым, как ногти ребенка), вокруг меня слышался жалобный хор собак. Нет такого человеческого голоса, который мог бы сравниться с голосом собак, выражающим всеобщее страдание. Никакая музыка, даже самая ясная, не может выразить человеческое страдание с такой полнотой, как голоса собак. Это были ноты модулирующие, вибрирующие, удерживающиеся на одной нити долгого и равномерного дыхания, которое внезапно прерывалось глубоким и отчетливым рыданием. Это были призывы, растерянные призывы одиночества — среди болот, чащ, зарослей камыша и тростников, в которых ветер пробегал с трепетом и дрожью. На поверхности прудов плавали мертвецы. Позолоченные лунным светом вороны тяжко поднимались, бесшумно взмахивая крыльями с забытой на обочинах дорог лошадиной падали. Банды изголодавшихся собак бродили вокруг селений, в которых еще дымились, словно головешки, отдельные строения. Собаки пробегали галопом, этим тяжелым галопом, укороченным и свойственным испуганным собакам, поворачивая на бегу головы туда и сюда, с раскрытой пастью, покрасневшими и сверкающими глазами, и время от времени останавливались, жалобно завывая на луну. А луна, желтая и тучная, взмокшая от пота, медленно поднималась в небе, розовом и чистом, как ногти ребенка, освещая прозрачным и мягким светом разрушенные селения, опустевшие дороги и поля, усеянные мертвецами, а также белый город, там, посередине, прикрытый крылом черного дыма.
Мне пришлось провести три дня в Панчево. Потом мы продвинулись вперед, переправились через реку Тимис, пересекли полуостров, образуемый Тимисом при его впадении в Дунай, и остановились еще на три дня в городе Рата, на берегу большой реки, как раз напротив Белграда, возле скрученных железных конструкций разбитого моста, который носил имя короля Петра II[485]. Уносимые желтыми стремительными водами Дуная, крутились обожженные бревна зданий, матрасы, мертвые лошади, овцы, быки. Там, перед нами, в тучном запахе весны, на противоположном берегу клубы дыма поднимались над румынским вокзалом и кварталом Дучианово. Наконец наступил день, когда уже перед вечером капитан Клингберг с четырьмя солдатами переправился в лодке через Дунай и оккупировал Белград. Тогда и мы также переправились через полноводную реку, протежируемые торжественным жестом фельдфебеля, гроссдёйчланд дивизиона, который управлял всем речным движением (одинокий, главенствующий, абстрактный, он был похож на дорическую колонну, этот фельдфебель, стоявший на берегу Дуная, единственный арбитр великой переправы людей и машин), и мы вошли в город близ румынского вокзала, посередине проспекта принца Павла.
Зеленый ветер шумел в листве деревьев. Закат был близок, последние дневные лучи падали с серого и грязного, будто покрытого серым пеплом, неба. Я шел мимо такси и трамваев, стоявших на месте и полных трупами. Большие коты, сидевшие на подушках, рядом с телами, мертвенно-бледными и уже раздувшимися, пристально смотрели на меня своими уклончивыми и фосфоресцирующими взорами. Один желтый кот, мяуча, долго следовал за мной по тротуару. Я шел по ковру из битого стекла. Оно страшно трещало под моими ботинками. Время от времени мне навстречу попадался какой-нибудь прохожий, неуверенными шагами пробиравшийся по стенкам, поминутно осматриваясь вокруг. Никто не отвечал на мои вопросы, все смотрели на меня странными белыми глазами и исчезали, не оборачиваясь. На их перепачканных лицах застыл отпечаток не ужаса, но оцепенения.
Через полчаса должно было наступить время затемнения. Террасия была пустынной. Перед отелем «Балкан», на краю воронки от бомбы, стоял автобус, полный трупов, площадь Споменик и Королевский театр еще горели. Вечер был будто из непрозрачного стекла молочный свет озарял обрушенные дома и пустынные улицы, брошенные автомашины и трамваи, остановившиеся на путях. Там и здесь, среди мертвого города, слышались ружейные выстрелы, сухие и злобные. Когда я, наконец, добрался до итальянского посольства, уже наступила ночь. Здание на первый взгляд казалось нетронутым, потом взор начинал понемногу различать разбитые стекла, сорванные решетчатые ставни, исковерканные стены, крышу, приподнятую дыханием страшного взрыва. Я вошел и поднялся по лестнице. Внутри дом освещали маленькие масляные лампы, стоявшие на столах там и здесь, словно лампады, зажигаемые перед иконами. На стенах колебались тени. Итальянский посол Мамели сидел в кабинете, склонив над бумагами свое бледное исхудавшее лицо, окруженное желтым ореолом пламени двух свечей. Он пристально посмотрел на меня, подняв голову, как будто не веря своим глазам. — «Откуда ты? — спросил он. — Из Бухареста? Из Тимишоары[486]? Переправился через Дунай? Как это тебе удалось?» Он рассказал мне о страшной бомбардировке, ужасном избиении. — «Нам есть, чего стыдиться, — сказал он, — нам, являющимся союзниками немцев. В посольстве все переживали дни тревоги, готовясь к обороне здания и ожидая пока немецкие войска займут город, покинутый на произвол грабителей. Одна бомба, в тонну весом, упала как раз позади стены, ограждающей сад. Но слава Богу! — заключил посол, — все мы целы и живы. Нет даже ни одного раненого». — Я смотрел на него, пока он говорил: у него было два бледных круга вокруг глаз, лицо поджатое, веки красные от бессонницы. Мамели — маленький, худощавый, немного сгорбленный, уже много лет он ходил, опираясь на палку, потому что рана, полученная им на войне, заставляет его прихрамывать, а теперь он стал еще и приволакивать ногу. Сколько лет я его знаю? О! Больше двадцати! Это порядочный и добрый человек, Мамели, и я его очень люблю. Война обижает его как оскорбление, наносимое его достоинству, его христианским чувствам.
Внезапно он умолк, провел рукой по лицу.
— Идем обедать! — сказал он после долгой паузы.
Вокруг стола виднелись бледные лица, плохо побритые и влажные от пота. В течение ряда дней Мамели и служащие посольства жили, как в осажденной крепости. Теперь осада была снята, но не хватало воды, не было электричества и газа. Однако, лакеи в ливреях были безукоризненны, хотя я и замечал на их заспанных лицах что-то испуганное. Отблески свечей отражались в хрустальных бокалах, в серебре, на белой скатерти. Мы поели суп, немного сыра и апельсины. После обеда Мамели проводил меня в свой кабинет, и мы принялись беседовать.
— А где же Спин? — спросил я. Мамели грустно посмотрел на меня. Стыдливая тень промелькнула в его глазах.
— Он болен.
— О! Бедный Спин! Что с ним?
Мамели покраснел и ответил мне с озабоченным видом, не глядя мне в глаза.
— Я не знаю, что у него, он болен.
— Но это, быть может, не слишком серьезно?
— Да, конечно, это не серьезно, — поторопился ответить Мамели, — это, должно быть, не опасно.
— Хочешь, я пойду посмотрю на него?
— Мерси, но, право, не стоит, — ответил Мамели, краснея, — лучше оставить его в покое.
— Спин и я — мы старые друзья, ему доставит удовольствие меня видеть!
— Да, конечно, ему будет приятно тебя видеть, — сказал Мамели, поднося к губам свою рюмку виски, — но, может быть, все же лучше оставить его в покое.
— Но ему будет приятно встретиться со старым другом! — И, говоря это, я встал: «Где он? Пойдем, пожелаем ему доброй ночи!»
— Ты же знаешь характер Спина, — объяснил Мамели, не покидая своего кресла. — Он не любит, чтобы за ним ухаживали, когда он нездоров. Он не хочет ни докторов, ни сиделок. Он предпочитает поправляться сам, один! — И с этими словами он поднял бутылку «Джонни Валькера» и спросил, улыбаясь: — «Еще немного виски?»
— Спин не болен, — настаивал я. — Он настроен против тебя за то, что ты не берешь его на охоту. Ты стал ленив последнее время. Ты любишь спокойствие и никогда не выходишь из дома. Это дурной признак. Отвечай: это правда, что ты стал лентяем?
— Это неправда, — сказал Мамели, краснея. — Нет, это неправда! Я хожу с ним на охоту раз в неделю. Мы с ним чудесно гуляли все последнее время, мы ходили даже на Фруску Гору; мы провели три дня на природе, как раз месяц назад, перед отъездом моей жены. Он не сердится на меня, Спин. Я говорю тебе, что он болен.
— Идем навестим его, если так! — направился я к двери. — Где он?
— Он в погребе, — ответил Мамели, опуская глаза.
— В погребе?
— Да, в погребе, в убежище я хотел сказать.
— В убежище? — переспросил я, пристально глядя на Мамели.
— Я все испробовал, но он не хочет подняться, — произнес Мамели, не поднимая глаз. — Вот уже почти десять дней, как он внизу, в убежище.
— Он не хочет подняться? Так, значит это мы к нему спустимся.
Мы сошли по лестнице, освещая себе путь керосиновой лампой. В самом темном углу погреба, в самом укромном углу, на диванных подушках лежал Спин. Я заметил сперва блеск, мягкий и испуганный блеск его светлых глаз, потом я услышал постукивание его хвоста по подушке и, остановившись на последней ступени, я вполголоса спросил у Мамели:
— Но какого чёрта, что с ним произошло?
— Он болен, — отвечал Мамели.
— Ну да, но что с ним такое?
— Он боится! — сказал Мамели, понизив голос и краснея.
Спин действительно имел вид собаки, подавленной страхом, невероятным ужасом. Кроме того, к его страху присоединялось чувство стыда; едва только он меня увидел и узнал по моему запаху и моему голосу, он опустил уши и спрятался, уткнув голову в передние лапы и глядя на меня снизу вверх, тихонько шевеля хвостом, как делает собака, которая стыдится самое себя. Он похудел. Его ребра обтянулись кожей, у него были впалые бока и заплаканные глаза.
— О! Спин! — воскликнул я с жалостью и упреком. Спин умоляюще смотрел на меня, взглянул с разочарованным выражением на Мамели и тогда я понял, что он полон самых запутанных чувств: страх, разочарование, сожаление, а также немного жалости, да, легкого сострадания.
— Это не только страх, — понял я, — тут есть и нечто другое!
— Нечто другое? — спросил Мамели с живостью, как будто даже обрадованно.
— Это не только страх, — продолжал я, — в нем живет чувство более таинственное и более глубокое. Я подозреваю и надеюсь, что это не только страх. Страх — чувство низкое. Нет, — добавил я, — это не один только страх.
Спин слушал меня, насторожив уши.
— Мне это больше по душе, — сказал Мамели. — Ты снимаешь большой камень с моего сердца. У нас никогда еще не было низких. Это был бы первый случай низости в нашей семье. Мы все — Мамели — мы всегда были смелыми. Для меня было бы большим горем, если бы Спин оказался недостойным того имени, которое он носит — имени Мамели!
О! Я убежден, что Спин — достойный носитель традиций твоей семьи. Не так ли, Спин? You are a brave dog, aren’t you?[487] — сказал я ему на его родном языке, лаская его лоб. Спин смотрел на меня, шевеля хвостом. Потом он посмотрел на Мамели своими глазами, полными разочарования, жалости, сожаления, взглядом, полным почтительных упреков.
— Спокойной ночи, Спин! — сказал я ему.
Мы с Мамели снова поднялись в его рабочий кабинет и сели в кресла перед угасшим огнем. Мы долго сидели молча, куря и выпивая. Время от времени Мамели вздыхал, поглядывая на меня. — «Завтра утром, — заговорил я, — вот увидишь, Спин будет здоров. У меня есть чудесное лекарство!» С этими словами я встал, и Мамели проводил меня до постели. Печальным голосом он сказал мне: «Спокойной ночи!» И я услышал, как он удаляется своими легкими, немного неуверенными шагами; у меня осталось впечатление, что он прихрамывал сильнее обычного.
Мне постелили на диване в гостиной, находившейся рядом со столовой. Я снял ботинки и бросился на подушку. Но мне не удавалось уснуть. Через большую стеклянную дверь, отделявшую гостиную от столовой, я видел во тьме мягкий блеск хрустальных стаканов и рюмок, фарфор и серебряные блюда. Диван мой стоял в углу, под большой картиной, изображавшей библейский эпизод с женой Потифара[488]. Плащ целомудренного Иосифа[489] был прекрасным плащом из красной шерсти, теплым и мягким. У меня же не было ничего, кроме моего непромокаемого, промокшего насквозь под дождями и покрытого грязью. В движении похотливой супруги Потифара мне виделся лишь жест милосердия, как если бы грешницей владело не порочное желание, а доброе и благородное стремление взять у Иосифа его плащ, чтобы набросить этот плащ на мои плечи. Шаги немецких дозоров тяжело отдавались на пустынной улице. Около часа ночи кто-то стал стучаться в двери болгарского посольства, расположенного как раз напротив итальянского. — «Тихо! Не шумите! — сказал я в полусне. — Не будите бедного Спина. Спин в это время спит, you are a brave dog, aren’t you?» И вдруг усталость сделала свое дело, и я головой вперед упал в сон.
Утром я сказал Мамели: — Возьми свое охотничье ружье!
Мамели пошел в коридор, снял со стены ружье, открыл его и продул стволы.
— А теперь, — сказал я, — идем за Спином.
Мы спустились по лестнице и остановились на пороге погреба. Едва только Спин увидел Мамели с ружьем в руке, он опустил глаза, спрятал нос в передние лапы и стал тихо скулить голосом ребенка.
— Идем, Спин! — сказал я.
Спин смотрел на ружье расширенными глазами и дрожал.
— Вставай, Спин! Идем! — повторил я тоном вежливой укоризны. Но Спин не двигался; он смотрел на ружье расширенными глазами и дрожал от страха.
Тогда я поднял его на руки. Он дрожал, как напуганный ребенок, и жмурился, чтобы не видеть ружья за плечами у Мамели. Мы медленно поднялись по лестнице и вышли в вестибюль. Там нас ожидал папский нунций в Белграде монсиньор Фелици и посол США мистер Блисс-Лэн. Узнав о моем прибытии и о том, что я в этот же день уезжаю в Будапешт, они поспешили в посольство, чтобы просить меня отвезти туда некоторые бумаги. Блисс-Лэн держал в руках большой желтый конверт, который он просил меня передать в посольство Соединенных Штатов в Будапеште. Кроме того, он дал мне текст телеграммы, которую я должен был послать из венгерской столицы мистрисс Блисс-Лэн, которая в эти дни находилась у своей приятельницы во Флоренции. Монсиньор Фелици также просил меня передать его пакет в папскую нунциатуру Будапешта.
— Прежде всего, — сказал я, — мне нужно позаботиться о Спине, который очень болен. Мы поговорим о ваших пакетах позже.
— О, конечно! — согласился монсиньор Фелици. — Прежде всего надо позаботиться о Спине!
— Кто такое Спин? — спросил посол Соединенных Штатов, вертя в руках свой большой желтый конверт.
— Кто такое Спин? Вы не знаете Спина? — удивился монсиньор Фелици.
— Спин болен, — сказал я, — его надо вылечить!
— Я надеюсь, вы не собираетесь убить его? — спросил Блисс-Лэн, указывая на ружье, которое Мамели конвульсивно сжимал в руке.
— Нам будет достаточно одного патрона! — сказал я.
— Но это ужасно! — воскликнул Блисс-Лэн с негодованием.
Сначала я пошел в сад и положил Спина на гравий одной из аллей, продолжая держать в руке его поводок. Спин попытался удрать. Он крутился, стараясь освободиться от поводка, и тихо скулил детским голосом. Но когда он увидел, что Мамели открывает ружье и вкладывает в ствол патрон, Спин, дрожа, распластался на земле и закрыл глаза. Монсиньор Фелици повернулся к нам спиной, отошел на несколько шагов в сад, потом остановился и опустил голову на грудь.
— Ты готов? — спросил я у Мамели.
Все отошли от нас: Гуидотти, принц Руффо, граф Фабрицио Франко, Баваи, Коста, Коррадо Софиа. Все молчали и смотрели на ружье, которое Мамели сжимал обоими трясущимися руками.
— Это отвратительно, то, что вы делаете! — сказал Блисс-Лэн сдавленным голосом. — Это отвратительно!
— Стреляй! — приказал я Мамели.
Мамели медленно поднял свое ружье. Все затаили дыхание. Спин, распластавшись на земле, тихонько плакал. Мамели медленно поднял ружье, приложился, прицелился, выстрелил.
Ружейный выстрел раздался короткий и чистый среди деревьев сада. Мамели целился в дерево. Стайка воробьев поднялась с испуганным писком, несколько листьев оторвалось от веток и тихо крутилось в пасмурном небе. Спин приподнял уши, открыл глаза и осмотрелся кругом. Это был знакомый голос, дружественный голос ружья, который спокойно отдался в его ушах. Все снова пришло в порядок, существовавший ранее, вернулось к гармонии прошлого. Природа не была опрокинута ужасным, грозным, безумным голосом обезумевшего ружья: она снова безмятежно улыбалась. Когда Мамели заложил в ствол патрон, Спин почувствовал, как кровь застыла в его жилах от ожидания, что из дула вырвется этот громовой удар, который опрокидывает всю природу, разрушает мир, населяет землю развалинами и скорбью. Он закрыл глаза и весь дрожал в тоске. Но вот ружье, наконец, выздоровевшее от своего чудовищного безумия, испустило свой старинный, знакомый клич среди этой успокоенной природы. Спин поднялся и, виляя хвостом, посмотрел вокруг с удивлением и еще не рассеявшимся недоверием, потом он фыркнул и стал бегать по саду с радостным лаем, подбежал и положил передние лапы на грудь Мамели и весело тявкнул в сторону ружья.
Мамели был немного бледен.
— Идем, Спин! — сказал он. И они вместе со Спином пошли вешать ружье на стену в коридоре.
Часть IV ПТИЦЫ
XII. СТЕКЛЯННЫЙ ГЛАЗ
Принцесса Луиза Прусская, внучка кайзера Вильгельма II (ее отец, принц Иоахим Гогенцоллерн, умерший за несколько лет до того, был младшим братом кронпринца), должна была в этот вечер прибыть, вместе с Ильзой, чтобы встретиться со мной на Потсдамском вокзале.
— Мы приедем в Литцензее на велосипедах, — телефонировала мне Ильза.
Стоял весенний вечер, влажный и теплый. Когда я сошел с берлинского поезда, шел небольшой дождь, наполнявший зеленеющий воздух серебряной пылью. Дома в глубине площади казались сделанными из алюминия. Группы офицеров и солдат стояли перед вокзалом. Пока я рассматривал пропагандистский плакат «Лейбстандарта» Адольфа Гитлера, висевший в здании вокзала (на плакате два эсэсовца, вооруженные автоматами, с готическими лицами, гладкими и острыми, с лбами, прикрытыми большими стальными шлемами, с холодным и жестоким блеском в их серых глазах, резко вырисовывались на фоне домов, охваченных пламенем, скелетов деревьев и орудий, утопавших до самых осей в грязи), я почувствовал чью-то руку, опершуюся на мой локоть.
— Добрый вечер, — сказала Ильза. Ее щеки покраснели от езды на велосипеде, и белокурые волосы были взлохмачены ветром. — Луиза ждет нас на улице. — Она улыбнулась и добавила: — She’s very sad, poor child, be nice to her.[490]
Луиза прислонила оба велосипеда к газовому фонарю и ждала нас, положив руку на руль одного из них.
— Как вы поживаете? — спросила она по-французски, на этом французском, обычном в Потсдаме[491], — жестком и застенчивом. Она смотрела на меня снизу вверх, улыбаясь, слегка склонив голову на плечо. Она спросила, нет ли у меня булавки? Увы! У меня тоже не было булавки. «Во всей Германии невозможно найти булавку», — сказала она, смеясь. (Она едва заметно разорвала свою юбку и казалась очень озабоченной этим событием). На ней была маленькая тирольская шапочка из зеленого фетра, сдвинутая на затылок, твидовая юбка табачного цвета, кожаная курточка мужицкого покроя, которая сжимала ее грудь, подчеркивая тонкую талию и узкие бедра, на босых ногах были сандалеты на деревянной подошве. Она была рада видеть меня снова. — Почему бы мне ни поехать с ней вместе в Литцензее? Ей, вероятно, удалось бы раздобыть для меня на время велосипед, и я провел бы ночь в замке. Но я не мог; я должен был следующим утром уехать в Ригу и в Хельсинки.
— Разве вы не можете немного задержать ваш отъезд? Там очень красиво — в Литцензее; собственно говоря, это не дворец, а старинный дом в усадьбе, окруженной великолепным лесом. Там, в лесах Литцензее, лани и олени бродят целыми семьями; природа там очень хорошая, совсем нетронутая…
Мы направились к центру города. Я шел рядом с Луизой, опиравшейся на свой велосипед. Дождь прекратился. Вечер был мягкий и ясный, хотя и безлунный. У меня было впечатление, что я иду рядом с молоденькой девушкой в предместьях моего родного города, что я снова стал юношей в Прато[492], и вечером, в час, когда работницы покидают фабрики, хожу, дожидаясь Бианку, на тротуаре Фаббрицоне за Порта дель Серраглио, и потом, провожая ее, иду с ней рядом, опираясь на свой велосипед. Местами на тротуаре было грязно, но Луиза шла, не обращая внимания на грязь; с беззаботностью девушки из народа, она ставила ноги в лужицы, так, как это делала Бьянка. Бледные и далекие звезды уже появлялись в небе, еще слегка затянутом облаками, птицы в ветвях деревьев щебетали нежно и весело, и в глубине долины слышался голос реки, словно шум занавеса, колеблемого ветром. Мы остановились на мосту и наклонились над парапетом, чтобы посмотреть на воду. Лодка, уносимая течением, вплывала под арку моста, в ней сидели два солдата. Луиза, опираясь на мраморный парапет, смотрела, как вода тихо струится между травянистыми берегами. Она наклонялась над парапетом, привстав на цыпочки, совсем так, как это делала Бьянка, на мосту Меркатале, чтобы посмотреть на воды Бисенцио, текущие вдоль высокой красной стены, окружающей город. Я покупал для Бьянки пакетик волчьих бобов — люпина, или тыквенных семечек, и она забавлялась, выплевывая шелуху в реку.
— Если бы мы были в Италии, — сказал я Луизе, — я купил бы вам два пакетика волчьих бобов или тыквенных семечек. Но в Германии не найдешь ни одного тыквенного семечка. Луиза, вы любите волчьи бобы и соленые семечки?
— Когда я была во Флоренции, я каждый день покупала пакетик семечек на углу улицы Торнабуони. Но все это теперь кажется сказкой.
— Почему бы вам ни поехать провести ваш медовый месяц в Италии, Луиза?
— А! Вы уже знаете, что я выхожу замуж? Кто вам сказал?
— Это Агата Ратибор сказала мне на днях. Поезжайте на Капри, ко мне, Луиза. Я буду далеко, в Финляндии. Вы будете хозяйкой дома. Воздух на Капри действительно сладок, как мед.
— Я не могу, у меня отобрали мой паспорт. Мы не можем выехать из Германии; в Литцензее мы живем, точно в изгнании… Жизнь принцев императорской крови была не слишком легкой. Они не могли покидать свою резиденцию и удаляться от нее больше, чем на несколько километров. Луиза смеялась, склоняя голову на свое плечо. Чтобы поехать в Берлин, ей приходилось испрашивать особое разрешение.
Деревья отражались в реке. Воздух был мягким, его освещала легкая вуаль серебристого тумана. Мы уже далеко отошли от моста, когда один молодой офицер остановился и приветствовал нас. Это был высокий белокурый молодой человек с открытым и улыбающимся лицом.
— О! Ганс! — сказала Луиза, краснея. Это был Ганс Рейнгольд. Стоя в положении «смирно» перед Луизой, с жестко вытянутыми вдоль бедер руками, он, улыбаясь, смотрел на девушку; мало-помалу его лицо медленно повернулось, как бы притягиваемое внешней силой, не зависящей от его воли, к взводу солдат, который приближался строевым шагом, сильно отбивая каблуками по асфальту. Это были его солдаты, возвращавшиеся с ученья в казарму.
— Почему ты не идешь с нами, Ганс? — спрашивала его Луиза.
— Я еще не кончил играть в солдатики. И я сегодня вечером занят по службе, — сказал Ганс. Теперь его взор скользил и не останавливался больше на Луизе; он следил за солдатами, которые удалялись, сильно отбивая шаг по асфальту улицы.
— До свидания, Ганс, — сказала Луиза.
— До свидания, Луиза! — ответил Ганс. Он поднял руку к козырьку своей фуражки, отдавая приветствие Луизе в деревянной манере Потсдама, затем повернулся в сторону Ильзы и мою, сказал «До свидания, Ильза!», приветствовал меня легким наклоном верхней части туловища, догнал рысью свое подразделение и исчез в глубине улицы.
Луиза шла молча. Слышалось только шуршание велосипедных шин на влажном асфальте, урчанье автомобиля на отдаленной улице, шаги прохожих на тротуаре. Ильза тоже молчала, время от времени встряхивая своей маленькой светло-русой головкой. Но порой, то здесь то там человеческий голос прерывал тишину (эти постоянные аккорды приглушенных звуков, фрагменты звуков, которые и составляют вечернюю тишину провинциального городка). Это был правда человеческий голос, находившийся в гармонии с этими аккордами звуков, именно человеческий голос, и ни что иное, как человеческий голос, простой и одинокий.
— Ганс должен ехать на фронт в будущем месяце, — сказала Луиза. — У нас как раз остается время на то, чтобы сыграть свадьбу. И после минутного колебания она добавила: «Эта война..». Потом умолкла.
— Эта война вас пугает, — сказал я.
— Нет, не в том дело. Это неправда — то, что вы говорите. Но есть в этой войне что-то…
— Что? — спросил я у нее.
— Ничего. Я хотела сказать… Но это бесполезно.
Мы подошли к ресторану, тому, что возле моста. Мы вошли. Зала была полна. Мы прошли и заняли место в глубине отдельного маленького зала, где несколько солдат сидели молча кругом столика, и две девушки, еще почти девочки, обедали в компании со старой дамой, быть может своей гувернанткой. У них были длинные светлые волосы, заплетенные в косы, лежавшие на спине, и накрахмаленные белые воротнички, опущенные на серые платья пансионерок.
Луиза казалась смущенной. Она осматривалась вокруг, как будто кого-то разыскивая, и время от времени с печальной улыбкой поднимала на меня глаза. Внезапно она заявила: — «Я не могу больше!» В ее простой грации была тень холодной суровости, той суровости, которая всегда присутствует в потсдамском характере, в барочной архитектуре Потсдама, в светлой штукатурке его храмов, дворцов, казарм и учебных заведений, его домов, одновременно царственных и буржуазных, подпирающих влажную и плотную зелень деревьев.
С Луизой я чувствовал себя свободно и просто, как с девушкой из народа, с работницей. Вся грация Луизы заключалась в ее простоте девушки из народа, в ее печали, немного застенчивой, печали, рожденной жизнью, лишенной радостей, вечной усталостью, усталостью многих дней, сумраком существования жесткого и бесцветного. В ней ничего не было от этой оскорбленной гордыни, печального самоотречения, ничего от ложного смирения, этой горделивой стыдливости, этой внезапной обидчивости, в которых люди среднего сословия охотно видят признаки падшего величия, но печальная простота, нечто вроде деликатного бессознательного терпения, блеск, слегка завуалированный, благородная невинность прошлого, темная скрытая сила того постоянства, что всегда таится в глубине гордости. Я чувствовал себя с ней просто и свободно, как с одной из этих работниц, которых по вечерам встречаешь в вагонах метро или на туманных улицах предместий Берлина, у ворот заводов, в час, когда немецкие работницы выходят группами и идут униженные и печальные, а на некотором расстоянии, вслед за ними, движется безрадостная и молчаливая толпа полуобнаженных и босоногих растрепанных девушек, которых немцы депортировали в качестве пленниц, после грабительского захвата белых рабынь в Польше, на Украине, в России.
Руки Луизы были мягкими и нежными, с ногтями бледными и прозрачными. У нее были тонкие запястья: на них виднелось это переплетение голубых вен, которые сходятся к запястью от линий кисти. Одну руку она положила на скатерть и смотрела на гравюры, развешанные по стенам зала. Это были самые знаменитые из высокородных представителей «хохшуле»[493] Вены, изображенные Верне[494] или Адамом[495], одни — в положении парадного испанского шага, другие — галопирующими среди пейзажа из голубых деревьев и зеленых вод. Я смотрел на руку Луизы. Это была рука одной из представительниц рода Гогенцоллернов. И я узнавал в ней руки Гогенцоллернов[496]: маленькие, с их провинциальной нежностью, они были пухлыми, с большим пальцем, отогнутым назад, очень коротким мизинцем, и средний палец на них был только чуть длиннее по сравнению с остальными. Но рука Луизы покраснела и была разъедена стиркой. Покрытая тонкими складками и изрезанная трещинами, она напоминала руки польских и украинских работниц, которых я видел сидящими на земле, вдоль стены, окружавшей литейный завод, поедающими небольшие куски черного хлеба, в день, когда я побывал в предместьях Рюлебена[497]. Они напоминали мне руки «белых рабынь» с востока, работниц русских металлургических заводов, которые под вечер заполняли тротуары заводских кварталов Панкова[498] и Шпандау[499].
— Не сможете ли вы привезти мне из Италии, или из Швеции, немного мыла? — спросила меня Луиза, пряча свою руку. — Я должна сама заниматься стиркой, стирать мои чулки и белье. Немного простого кухонного мыла. — И она добавила после смущенного молчания: — Я предпочла бы лучше работать на фабрике, простой работницей. Я не могу больше выносить это существование маленькой буржуазки.
— Ваша очередь быстро наступит, — сказал я ей. — Вас тоже направят работать на завод.
— О! Нет! Они не хотят и слышать об одной из Гогенцоллернов! Мы — парии в этой новой Германии. Они не знают, что им делать с императорскими высочествами, — добавила она с оттенком презрения.
В эту минуту двое солдат, с глазами, закрытыми черными повязками, вошли в залу. Их сопровождала санитарка, которая вела их за руки. Они заняли столик неподалеку от нашего и сидели неподвижные и молчаливые. Время от времени санитарка оборачивалась и смотрела на нас. Потом, понизив голос, она что-то сказала слепым солдатам, которые повернули головы к нам.
— Как они молоды! — сказала Луиза тихо. Можно сказать — двое детей.
— Им повезло: война их не сожрала. Война не пожирает трупов; она пожирает только живых солдат. Она пожирает ноги, руки, глаза живых солдат, и почти всегда в то время, когда они спят. Она поступает точно так же, как поступают крысы. Но люди более цивилизованны: они никогда не едят живых людей. Они, неизвестно почему, предпочитают есть трупы. Быть может оттого, что должно быть, очень трудно есть живого человека, даже и в то время, когда он спит. В Смоленске я видел нескольких русских пленных, которые ели трупы своих товарищей, умерших от голода и холода. Немецкие солдаты смотрели на них молча, с самым милым и почтительным выражением, какое только бывает на свете. Немцы полны человечности, не правда ли? Это не было их виной: им было нечем накормить пленных. Вот, почему они стояли, глядя на них, и качали головами, повторяя: «Арме лёйте![500] Бедняги!» Немцы — народ сентиментальный и самый цивилизованный на свете. Немецкий народ не пожирает трупов. Цивилизованный народ не ест трупов. Он пожирает живых людей…
— Я прошу Вас, не будьте так жестоки, не рассказывайте мне подобных ужасов, — сказала Луиза, беря меня за руку. Я почувствовал, как она дрожит, и на мгновение испытал ощущения ярости и жалости.
— Голод был жестоким, — продолжал я, — и меня стало рвать. Мне было стыдно перед немцами за свою слабость. Немецкие солдаты и офицеры смотрели на меня с презрением, как смотрели бы на какую-нибудь бабенку. А я краснел, я хотел извиниться за это мгновение слабости, но моя рвота мешала мне извиниться перед немцами.
Луиза молчала. Я чувствовал, как дрожит ее рука, опиравшаяся на мою. Она закрыла глаза; казалось, она перестала дышать. Наконец, продолжая дрожать и все еще не раскрывая глаз, она сказала:
— Иногда я спрашиваю себя, не несет ли и моя семья ответственность за все, что происходит сегодня. Как вы думаете, мы — Гогенцоллерны, ведь и на нас лежит часть ответственности?
— На ком не лежит ответственность? Я не Гогенцоллерн и, однако, я думаю, что и на мне тоже лежит часть ответственности за то, что происходит сегодня в Европе.
— Иногда я задаю себе вопрос, обязана ли я, будучи немкой, любить немецкий народ? Одна из Гогенцоллернов должна любить немецкий народ, не так ли?
— Вы не обязаны любить его. Но немцы все же очень милы.
— О, да! Они очень милы, — улыбнулась Луиза.
— Хотите, я расскажу вам историю про стеклянный глаз?
— Я не хочу слушать жестоких историй, — сказала Луиза.
— Это не жестокая история. Это немецкая история, сентиментальная история.
— Говорите тихо, — попросила Луиза, — эти двое слепых могут нас услышать.
— Разве вы думаете, что на свете есть что-нибудь милее слепых? Впрочем, да, на свете есть нечто еще более милое — это люди со стеклянным глазом. И все же я видел в Польше прошлой зимой людей еще более милых, чем слепцы, или чем люди со стеклянным глазом. Я был в Варшаве, в кафе «Европейское». Я только что вернулся со Смоленского фронта смертельно усталым: тошноты мешали мне спать. По ночам я просыпался от резких болей в желудке; у меня было ощущение, что я проглотил какое-то животное, и что это животное грызет мои внутренности. Это было так, как если бы я проглотил кусок живого человека. Я проводил долгие часы с устремленными во тьму глазами. Итак, я был в Варшаве, в кафе «Европейское». Оркестр играл старые польские и венские мелодии. За соседним столиком сидели несколько немецких солдат с двумя санитарками. Публика, заполнявшая кафе, была обычной публикой, многочисленной и несчастной, полной достоинства и рыцарственной печали, той, которую встречаешь во всех концах польской столицы в эти годы нищеты и рабства. Мужчины и женщины, с осунувшимися лицами, сидели за столиками, слушая музыку или тихо разговаривая между собой. На всех было поношенное платье, застиранное белье, стоптанная обувь. В их манерах было то благородство, свойственное польской нации, которое самым обычным движениям, словно отраженным в смутном старинном зеркале, придает античную грацию и благородство.
Но женщины были особенно чудесны в их благородстве и простоте, полной величия и гордости, которая вуалировала на их лицах бледность, проистекавшую от голода. У них были усталые улыбки. Но не было ни тени мягкости, покорности, выражения, возбуждающего жалость, абсолютно ничего униженного в этой усталой улыбке их страдальческих губ. У них был взгляд глубокий и ясный, и вместе с тем грозный. Они походили на раненых птиц, на плененных птиц, на этих чаек, подавленных неизбежностью бури, которые летят, белоснежные, в черном небе над морем и чьи крики смешиваются с шумом волн и порывами ветра. За столиком, соседним моему, сидели немецкие солдаты с вытаращенными глазами, и одно и то же выражение на их лицах не изменялось. В их пристальном взоре я видел, как странно расширялись и суживались зрачки, и я заметил, что они не мигают ресницами. А между тем, они не были слепы. Некоторые из них читали газеты, другие внимательно смотрели на музыкантов оркестра, на людей, входивших и выходивших из кафе, на гарсонов, двигавшихся между столиками, и сквозь потускневшие стекла больших окон — на огромную, пустынную под снегом площадь Пилсудского.
Внезапно я с ужасом заметил, что у них нет век. Я уже видел солдат без век несколькими днями ранее, в дебаркадере[501] Минского вокзала, при моем возвращении из Смоленска. Жестокий холод этой зимы приводил к самым странным последствиям. Тысячи и тысячи солдат теряли от морозов уши, носы, пальцы, половые органы. Многие потеряли все свои волосы. Можно было встретить солдат, облысевших за одну ночь, другие теряли волосы целыми прядями, словно зашелудивев. Многие потеряли веки. Сожженные холодом веки отрывались, словно лепестки мертвой кожи. Я с ужасом наблюдал в Варшаве глаза этих несчастных солдат в кафе «Европейское», эти зрачки, которые расширялись и суживались посреди глаза, выпученного и пристального в напрасном усилии избежать яркого света. Я думал о том, как эти бедняги спят, — с широко открытыми глазами, устремленными в мрак, думал о том, что их веками была ночь, что это были глаза, вытаращенные и пристальные, что они переживали дни, стремясь к встрече с ночами, что они сидели на солнце, ожидая, когда ночная тень опустится, словно веки, на их глаза, и что участью этих несчастных было безумие, что только безумие могло дать немного покоя их глазам, лишенным век…
— О! Довольно, — почти воскликнула Луиза. Она смотрела на меня расширенными зрачками странно белых глаз.
— Вы не находите, что все это мило, очень мило? — спросил я, улыбаясь.
— Замолчите! — прошептала Луиза. Она закрыла глаза, и я видел, что она дышала с трудом.
— Позвольте мне рассказать вам историю стеклянного глаза.
— Вы не имеете права делать мне больно, — сказала Луиза.
— Это всего лишь христианская история, Луиза! Разве вы не принцесса Императорского дома Германии, одна из Гогенцоллернов, и разве не, что называется, девушка их хорошей семьи? Почему бы я не должен был рассказать вам христианскую историю?
— Вы не имеете права, — произнесла Луиза резко.
— Позвольте мне, по крайней мере, рассказать вам детскую историю, — продолжал я.
— О! Я прошу Вас: замолчите, — настаивала Луиза. — Вы не видите, что я вся дрожу? Вы меня пугаете.
— Это история о неаполитанском ребенке и английских летчиках, — сказал я, — милая история. Есть известная прелесть даже в войне.
— Что в войне самое ужасное, — сказала Ильза, — это именно то, что в ней мило. Я не люблю смотреть, как улыбаются чудовища.
— В начале войны я находился в Неаполе, когда начались первые воздушные бомбардировки. Однажды вечером я отправился навестить одного из моих друзей, который живет в Вомеро. Вомеро — это высокий откос над городом, где начинается и спускается к морю холм Позилиппо. Это волшебное место. Всего несколько лет назад это было место еще дикое, усеянное отдельными домишками и виллами, тонувшими в зелени. Каждый домик имел свой огород, маленький виноградник, несколько масличных деревьев. На террасах склона произрастали баклажаны, томаты, зеленая капуста, горошек, там благоухали базилик, розы и розмарин. Розы и томаты из Вомеро не уступали ни в своей красоте, ни в славе античным розам Пестума[502] и томатам Помпеи[503]. Сегодня огороды стали садами. Но посреди огромных зданий из железобетона и стекла несколько вилл прошедших времен и смиренных крестьянских домишек существует и поныне, и порой зелень одинокого огорода скромно выделяется на фоне синевы залива, огромного и бледного. Там, как раз напротив, среди моря, в серебристом тумане, поднимается Капри, справа — Ишия, со своим высоким Ипомео, слева, сквозь прозрачное стекло моря и неба виден берег Сорренто[504], а еще левее — Везувий, этот благородный идол, нечто вроде огромного Будды, сидящего на берегу залива. Проходя по улицам Вомеро, там где Вомеро меняет свое имя и становится холмом Позилиппо, можно среди домов и деревьев увидеть сосну, одинокую и античную, осеняющую могилу Виргилия. Именно в этой стороне мой друг имел деревенский домик и маленький огород.
Ожидая, пока будет готов обед, мы сидели в огороде, курили и мирно разговаривали в беседке из виноградных лоз. Солнце уже зашло, и небо мало-помалу угасало. Место, пейзаж, час, время года были как раз такими, какие воспевал Санназар[505], воздух был именно деревенским воздухом Санназара, когда запах моря и аромат деревенских садов смешиваются в нежном восточном ветерке. Когда вечер начинал подниматься с моря, с большими букетами фиалок (море вечером кладет на выступы окон большие букеты фиалок, уже увлажненные ночной росой, которые благоухают всю ночь, наполняя комнаты приятным морским дыханием), мой друг заявил: — «Эта ночь будет ясной. Они непременно прилетят. Мне надо будет разместить в саду подарки английских летчиков». Я не понял и был очень удивлен, глядя на то, как мой приятель зашел в дом и вынес оттуда куклу, маленькую деревянную лошадку, музыкальную трубу и два пакетика с конфетами. Ничего мне не говоря, и, по-видимому, забавляясь моим удивлением, он заботливо расположил все это там и здесь, между кустами роз и латуком[506], на гравии маленькой аллейки и на краю бассейна, где слабо светилось целое семейство золотых рыбок.
— Что это ты собираешься делать? — спросил я.
Он посмотрел на меня серьезно, хотя и улыбался. И затем он рассказал, что его двое детей (в это время они уже спали) были охвачены ужасом при первых бомбардировках, что здоровье младшего тогда серьезно пошатнулось, и тогда он придумал преобразить в детский праздник страшные бомбардировки Неаполя. Как только ночью начинали завывать сирены, мой друг и его жена выскакивали из постелей, брали на руки обоих малышей и радостно кричали: «Как хорошо! Как хорошо! Английские самолеты прилетели, чтобы сбросить для вас подарки!» Они спускались в погреб — несчастное и тщетное убежище — и, прижавшись там друг к другу, коротали эти тревожные смертельные часы, смеясь и повторяя «как хорошо!», пока дети не засыпали, счастливые, чтобы увидеть во сне подарки английских пилотов. Время от времени, когда взрывы бомб и грохот обваливающихся зданий становились более близкими, двое маленьких просыпались, и отец говорил им: «Вот, вот, они уже близко, они готовы сбросить ваши подарки». Оба ребенка хлопали в ладоши и кричали: «Я хочу куклу! Я хочу саблю! Папа, как ты думаешь, а англичане привезут мне маленькую лодку?» Ближе к рассвету, когда шум моторов, понемногу стихая, удалялся, отец и мать брали за руки обоих детей и вели их в сад. «Теперь ищите! — говорили они. — Наверное, это упало в траву». Двое малышей искали среди розовых кустов, грядок латука и посадок томата, и находили там — куколку, там — маленькую деревянную лошадку, дальше — пакетик с конфетами. Отныне дети уже не боялись бомбардировок; они с нетерпением их ожидали и воспринимали с радостью. Иногда, по утрам, обыскивая садик, они находили в траве даже маленький аэроплан с заводной пружинкой, и это, конечно, был бедный английский самолет, который эти противные немцы сбили своими пушками, в то время как он бомбардировал Неаполь, чтобы доставить радость неаполитанским детям.
— О! How lovely![507] — воскликнула Луиза, хлопая в ладоши.
— А теперь, — сказал я, — я расскажу вам историю Зигфрида[508] и кошки. История Зигфрида и кошки не понравилась бы этим двум неаполитанским детям, но вам она очень понравится. Эта немецкая история, а немцы любят немецкие истории.
— Немцы любят всё немецкое, — сказала Луиза, а Зигфрид — это немецкий народ.