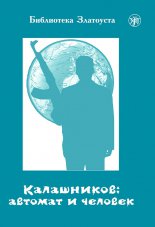Капут Малапарте Курцио

— А вы, либер Малапарте?
— Нет, — ответил я, — я никогда не боролся с трупом, но я присутствовал при борьбе людей мертвых с людьми живыми.
— Возможно ли это? — воскликнул Франк. — И где же?
Все внимательно смотрели на меня.
— В Подуль Илоайей, — ответил я.
— В Подуль Илоайей? А где это, Подуль Илоайей?
Подуль Илоайей находится в Румынии, на границе с Бессарабией. Это городок в двадцати километрах от Ясс, в Молдавии. Я не могу услышать среди бела дня паровозного свистка, чтобы не вспомнить Подуль Илоайей. Это пыльный городок в пыльной долине, раскинувшийся под синим небом, в котором плавают облака белой пыли. Долина узка и ее загораживают светлые невысокие и безлесные холмы, кое-где на них виднеются небольшие купы акаций; там и здесь несколько виноградников и тощие поля хлебов.
Дул горячий ветер, шершавый, точно кошачий язык. Хлеба были уже сжаты; желтое жнитво блестело под вязким и тяжелым небом. Из долины поднимались облака пыли. Это был конец мая 1941 года. Прошло всего несколько дней со времени большого погрома в Яссах. Я ехал в автомобиле в Подуль Илоайей вместе с итальянским консулом в Яссах Сартори, тем, которого все называли маркизом, и с Лино Пеллегрини, смелым малым, «фашистским идиотом», прибывшим из Италии в Яссы со своей молоденькой женой, чтобы провести там медовый месяц, направляя в муссолиниевские газеты статьи, полные восхвалений маршала Антонеску, «красной собаки», маршала Антонеску и всех его кровожадных проходимцев, которые вели к разгрому румынский народ. Это был красивейший парень, какого только можно было встретить под солнцем Молдавии, между Альпами Трансильвании и устьем Дуная. Женщины о нем с ума сходили; они бросались к окнам, выбегали на пороги магазинов, чтобы посмотреть на него, когда он проходил, и говорили, вздыхая: «ah ce frumos! ce frumos!» — ах, как он хорош, как он хорош!
Но это был «фашистский идиот», и потом, вы понимаете, я немного ревновал к нему; я предпочел бы, чтобы он был не так красив и меньше фашист, и я внутренне его презирал. Так было до того дня, когда я увидел его смело выступающим против шефа ясской полиции, крича ему прямо в лицо: грязный убийца! Он прибыл наслаждаться своим медовым месяцем в Яссах под бомбами советских самолетов и проводил ночи вместе с женой в «адапосте» — убежище, созданном среди могил старинного заброшенного кладбища. Сартори — «маркиз» был флегматичным неаполитанцем, человеком благодушным и ленивым, но в ночь большого погрома в Яссах он сотни раз рисковал жизнью, чтобы вырвать из рук жандармов сотню несчастных евреев. Теперь мы ехали все трое в Подуль Илоайей в поисках владельца дома, где находилось итальянское консульство, — адвоката-еврея, прекрасного и порядочного человека, которого жандармы серьезно ранили ударом ружейного приклада в саду консульства, а затем увели полумертвого, вероятно, чтобы прикончить где-нибудь в другом месте и не оставлять здесь на земле в качестве доказательства, что они убили еврея на территории итальянского консульства.
Было жарко. Машина медленно подвигалась по дороге, изрытой глубокими ямами. Тучи мух преследовали нас с яростным жужжанием. Сартори отмахивался от них своим платком. Лицо его было смочено потом и он говорил: «Какая глупость! В этакую жару ехать разыскивать труп среди всех этих тысяч трупов, которыми полна Молдавия, — все равно, что искать иголку в сене».
— Ради Бога, Сартори, не говорите о сене, — отвечал я, чихая. Меня мучил мой сенной насморк, и я все время чихал.
— Ах, Иисусе, Иисусе, — говорил Сартори, — я совершенно позабыл о вашем сенном насморке! — И он смотрел с сожалением на мое лицо, покрасневшее от прилива крови, мой фиолетовый нос, мои веки, красные и распухшие.
— Вы ведь любите отправляться на поиски трупов! — говорил я ему. — Сознайтесь, что вы любите это, мой дорогой Сартори. Вы неаполитанец, а неаполитанцы обожают мертвецов, похороны, оплакивания, траур, кладбища. Вы любите хоронить мертвых. Признайтесь, что вы любите трупы, Сартори?
— Не насмехайтесь надо мной, Малапарте. Я великолепно обошелся бы в такую жару без поисков трупа. Но я обещал жене и дочери этого несчастного, а всякое обещание — это долг. Эти две бедные женщины надеются, что он еще жив. Вы верите этому, Малапарте, что он еще жив?
— Как вы хотите, чтобы он остался жив после того, как вы допустили, чтобы его убивали на ваших глазах, даже не выразив протеста. Я понимаю теперь, почему вы такой толстый, словно мясник. Красивые вещи творятся в итальянском консульстве в Яссах!
— Малапарте, после этой истории, если бы Муссолини был справедлив, он должен был бы назначить меня послом.
— Он сделает вас министром иностранных дел. Я держу пари, что вы спрятали этот труп под своей постелью. Сознавайтесь, Сартори, вам приятно спать с трупом под вашей постелью.
— Ах, Иисусе, Иисусе, — вздыхал Сартори, отирая свое лицо платком.
Уже минуло три дня с тех пор, как мы принялись разыскивать труп этого несчастного. Накануне вечером мы навестили шефа полиции, чтобы узнать, не был ли он в последнюю минуту пощажен своими убийцами и не был ли он брошен в тюрьму. Шеф полиции нас мило принял. У него было желтое и дряблое лицо, черные мохнатые глаза с зелеными отблесками под сенью густых ресниц. Я ошеломленно наблюдал за тем, как волосы у него росли до самой внутренней поверхности век; впрочем, это не были ресницы — это был настоящий пух, густой и тонкий, серого цвета.
— Вы уже побывали в госпитале Святого Спиридона? Быть может, он там, — спросил шеф полиции через минуту, приоткрывая глаза.
— Нет, он не там, — ответил Сартори спокойно.
— Вы уверены, — продолжал шеф полиции, внимательно глядя на Сартори совсем маленькой щелкой глаза, где сверкал черно-зеленый луч в бахроме серого пуха, — вы убеждены, что этот факт произошел в самом консульстве и что это были мои жандармы?
— Хотите ли вы, по крайней мере, помочь мне разыскать труп? — спросил Сартори, улыбаясь.
— Мне кажется, — ответил ему шеф полиции, закуривая сигарету, что из окон итальянского консульства был произведено несколько выстрелов в жандармский патруль, проходивший мимо по улице.
— С вашей помощью мне будет нетрудно отыскать труп, — сказал Сартори, улыбаясь.
— У меня нет времени заниматься трупами, — произнес шеф полиции с любезной улыбкой, — у меня достаточно дел с живыми.
— Счастье, — заметил Сартори, что число живых быстро уменьшается. Таким образом, вы скоро сможете немного отдохнуть.
— Я в этом так нуждаюсь, — сказал шеф полиции, возводя глаза к небу.
— Почему бы нам ни заключить соглашение о разделении труда? — продолжил Сартори жалобным голосом. — Пока вы будете заниматься поисками и арестом убийц, которые, по всей вероятности, еще живы, я займусь отысканием мертвого. Что вы скажете?
— Если вы не предъявите мне труп этого господина и если не докажете мне, что он был убит, как могу я заниматься розыском убийц?
— Я не могу переложить на вас эту заботу, — сказал Сартори, улыбаясь. — Я доставлю вам труп. Я доставлю его сюда, в ваш кабинет, вместе с семью тысячами других трупов, и вы поможете мне отыскать его в общей куче. Мы пришли к соглашению?
Он говорил неторопливо, улыбаясь, с непроницаемой флегмой, но я знаю неаполитанцев, я знаю, как устроены неаполитанцы, и я чувствовал, что Сартори кипит от ярости и негодования.
— Согласен, — ответил шеф полиции.
Тогда Пеллегрини, «фашистский идиот», поднялся со сжатыми кулаками и сказал шефу полиции: «Вы — заурядный убийца и подлый проходимец!» Я смотрел на него с удивлением, впервые я смотрел на него без зависти. Он действительно был прекрасен: высокий, атлетически сложенный, с бледным лицом, трепещущими ноздрями, пылающими глазами. В порыве ярости его черные вьющиеся волосы упали на лоб длинными прядями. Я смотрел на него с глубоким уважением. Это был «фашистский идиот», но в ночь большого погрома в Яссах он много раз рисковал жизнью, чтобы спасти нескольких несчастных евреев. И сейчас (было достаточно одного жеста шефа полиции, чтобы его уничтожили в тот же вечер, на углу улицы) он рисковал своей шкурой из-за трупа одного еврея.
Шеф полиции тоже встал и пристально смотрел на него своими мохнатыми глазами. Он охотно выстрелил бы ему в живот; он охотно выстрелил бы в Сартори, в Пеллегрини и в меня, но он не осмеливался. Мы не были румынами, мы не были тремя бедными ясскими евреями. Он боялся, что Муссолини отомстит за нас! (Ах, ах, ах! Он боялся, что если он нас убьет, то Муссолини отомстит за нас! Он не знал, что если бы он убил нас, то Муссолини даже не протестовал бы. Муссолини не хотел неприятностей. Он не знал, что Муссолини боялся всех и боялся даже его!). Я расхохотался при мысли, что шеф полиции в Яссах боится Муссолини.
— Чему вы смеетесь? — внезапно спросил меня шеф полиции, одним движением поворачиваясь ко мне.
— Чего хочет от меня этот господин? — спросил я у Пеллегрини. — Он хочет знать, над чем я смеюсь?
— Да, — ответил Пеллегрини, — он хочет знать, над чем ты смеешься.
— Я смеюсь над ним. Разве я не имею права над ним смеяться?
— Ты, конечно, имеешь право над ним смеяться, — сказал Пеллегрини, но я полагаю, что это не может доставить ему большого удовольствия.
— Конечно, это не должно доставлять ему большого удовольствия.
— В самом деле, это над ним вы смеетесь? — спросил Сартори своим благодушным голосом. — Простите меня, Малапарте, но мне кажется, что это напрасно. Этот господин — прекрасный, воспитанный человек и заслуживает того, чтобы с ним обращались соответственно.
Мы спокойно поднялись и вышли. Мы еще не вышли из дома, когда Сартори остановился и сказал нам:
— Мы позабыли сказать ему «до свидания». Вернемся?
— Э, нет! — ответил я. — Идемте лучше к командиру жандармов.
Командир жандармов предложил нам сигареты, любезно нас выслушал и затем сказал: «Он должен был быть отправлен в Подуль Илоайей».
— В Подуль Илоайей? — спросил Сартори. — Зачем?
Через два дня после погрома поезд, наполненный евреями, был отправлен в Подуль Илоайей, городок, расположенный примерно в двадцати километрах от Ясс, где шеф полиции решил создать концентрационный лагерь. Прошло три дня с момента отбытия поезда. В настоящее время он должен был уже давно прибыть на место.
— Едем в Подуль Илоайей, — сказал Сартори.
Так мы на следующее утро и отправились в автомашине в Подуль Илоайей. На маленькой станции, затерянной возле пустынной запыленной деревни, мы остановились, чтобы разузнать о поезде. Несколько солдат, сидевших в тени заброшенного вагона на путях, рассказали нам, что состав из десяти вагонов, предназначенных для перевозки скота, прошел здесь двумя днями ранее и что он был задержан на целую ночь на станции. Несчастные, запертые в запломбированных вагонах, кричали и стонали, умоляя солдат охраны снять деревянные щиты, которыми были забиты отверстия. В каждый вагон было погружено до двухсот евреев, а маленькие окна, защищенные металлическими решетками, устроенные в верхней части вагонов для перевозки скота, были забиты досками, так что узники не могли дышать. Поезд ушел на рассвете в Подуль Илоайей.
— Быть может, вы его нагоните прежде, чем он придет в Подуль Илоайей, — говорили нам солдаты.
Железная дорога пролегает в глубине равнины; она идет параллельно дороге. Мы уже были неподалеку от Подуль Илоайей, когда среди пыльной долины послышался долгий паровозный гудок. Мы посмотрели друг на друга, такие бледные, как будто узнали этот гудок.
— Какая жара! — вздохнул Сартори, вытирая лицо своим платком. Но я заметил, что он тотчас же покраснел и раскаялся в том, что сказал «какая жара», подумав об этих несчастных, набитых в скотских вагонах по двести человек в каждом, без воздуха и воды. Этот далекий гудок имел призрачный звук в долине пустынной и пыльной под лучами неподвижного солнца. Спустя немного времени мы заметили поезд. Он стоял перед закрытым семафором и давал гудки. Потом он медленно тронулся, и мы стали сопровождать его по дороге. Мы смотрели на эти вагоны для перевозки скота с забитыми досками маленькими окнами. Поезд затратил три дня, чтобы пройти расстояние каких-нибудь двадцати километров; он мог держать первенство среди всех поездов военного времени. И, кроме всего, ему было незачем торопиться. Если бы даже он прибыл в Подуль Илоайей после трехмесячного путешествия, он все равно не опоздал бы.
Тем временем мы въехали в Подуль Илоайей. Поезд остановился на подъездных путях в некотором отдалении от вокзала. Стояла удушающая жара, был приблизительно полдень. Служащие на вокзале ушли завтракать. Машинист, кондуктор и солдаты охраны сошли с паровоза и растянулись на земле в тени вагонов.
— Откройте немедленно вагоны, — приказал я солдатам.
— Мы не можем, домнуле капитан.
— Открывайте вагоны немедленно! — рычал я.
— Мы не можем, — сказал машинист, — вагоны запломбированы. Надо известить начальника вокзала.
Начальник вокзала сидел за столом. Сначала он не хотел прерывать свой завтрак, но когда он усвоил, что Сартори — итальянский консул и что я — итальянский домнуле капитан, он поднялся из-за стола и рысцой последовал за нами с большими щипцами в руках. Солдаты тотчас же взялись за работу, стараясь открыть дверь первого вагона. Большая дверь из дерева и железа сопротивлялась; можно было подумать, что сотни рук держали ее изнутри, что пленники служили противовесом за ней, мешая ее раздвинуть. Начальник вокзала крикнул: «Эй, вы, там, внутри, толкайте и вы тоже!» Никто ему не ответил из вагона. Тогда мы налегли все вместе. Сартори остался стоять перед вагоном с поднятой головой, вытирая платком лицо. Внезапно дверь уступила и вагон раскрылся.
Вагон раскрылся сразу, и целая толпа заключенных ринулась на Сартори, опрокинула его на землю, сгрудилась над ним. Мертвые падали из вагона. Они падали группами, с глухим стуком, всей своей тяжестью, как бетонные статуи. Погребенный под трупами, придавленный их холодным, их невероятным весом, Сартори боролся и судорожно вырывался, чтобы высвободиться из этой кучи, из этого застывшего в холоде окоченения скопления, но он исчез под этим обвалом трупов, как под каменной лавиной. Мертвецы неистовы, упорны и жестоки. Мертвецы — тупы. Они капризны и заносчивы, как дети и как женщины. Мертвецы безумны! Остерегайтесь, если мертвец ненавидит живого! Остерегайтесь, если он любит его! Остерегайтесь, если живой оскорбляет мертвеца, задевает его самолюбие, наносит рану его чести! Мертвецы ревнивы и мстительны. Они не боятся никого; они не боятся ничего: ни ударов, ни ран, ни решительного количественного перевеса противника. Они не боятся даже смерти. Они борются ногтями и зубами, в молчании, не отступая ни на шаг, не выпуская своей добычи, никогда не обращаясь в бегство. Они борются до конца, с холодной и упорной отвагой, смеясь или зубоскаля, бледные и немые, с вытаращенными глазами, искаженными глазами безумцев. Когда они брошены на землю, когда они уступают при поражении и унижении, они распространяют мягкий и жирный запах и медленно разлагаются.
Некоторые бросались на Сартори тяжестью всего своего веса, пытаясь раздавить его, другие падали на него, холодные, жесткие, инертные, третьи ударяли его головой в грудь, наносили ему удары локтями и коленями. Сартори хватал их за волосы, за одежду, ловил их руки, пытаясь оттолкнуть их, сдавливал их за горло и бил в лицо сжатыми кулаками. Это была ожесточенная и молчаливая борьба. Мы все бросились к нему на помощь и старались высвободить его из-под тяжелого скопления трупов. Наконец, после значительных напрасных усилий, нам удалось выцарапать его и извлечь оттуда. Сартори поднялся; его костюм был изорван, глаза вспухли, одна щека кровоточила. Он был очень бледен, но спокоен. Он сказал только: посмотрите, нет ли там еще живых, меня укусили в лицо.
Солдаты поднялись в вагон и начали выбрасывать трупы наружу, одни за другими. В вагоне было сто семьдесят девять человек умерших от удушения. У всех были вспухшие головы и синие лица. Тем временем прибыла команда немецких солдат, а также известное количество жителей городка и крестьян; они приняли участие в открывании вагонов и выбрасывании трупов наружу. Затем они укладывали трупы в линию вдоль полотна железной дороги. Группа евреев из Подуль Илоайей появилась здесь также, во главе со своим раввином. Они узнали, что здесь присутствует итальянский консул, и это придало им смелости. Они были бледны, но спокойны. Они не плакали и говорили твердыми голосами. У всех в Яссах были родные или друзья; все трепетали за их жизнь. Они были одеты в черное и странные шапочки из жесткого фетра. Раввин и пятеро или шестеро из них, склонившись перед Сартори, заявили, что они являются членами Административного совета Сельскохозяйственного банка в Подуль Илоайей.
— Жарко сегодня, — сказал раввин, утирая пот ладонью.
— Да, очень жарко, — ответил Сартори, прижимая платок к своему лбу.
Мухи неистово гудели. Мертвецов, уложенных на железнодорожном откосе, было, примерно, две тысячи. Две тысячи трупов, лежащих рядом под ярким солнцем, — это много. Это даже слишком много. Был обнаружен живой ребенок, зажатый между коленями своей матери. Он потерял сознание. Одна ручка его была сломана. Его матери удалось сохранять ему жизнь все трое суток, держа младенца таким образом, что узенькая щелка в двери вагона находилась как раз против его губ. Она дико защищалась, чтобы толпа умирающих не оторвала ее от этого места, и умерла, раздавленная в этой жестокой борьбе. Ребенок остался жив, укрытый телом своей мертвой матери, продолжая сосать губами тоненькую струйку воздуха. — Он жив! — говорил Сартори странным голосом. — Он жив! Я с волнением смотрел на этого толстого и благодушного неаполитанца, который, наконец, утратил свойственную ему флегматичность не из-за всех этих мертвецов, но из-за живого ребенка, еще живого ребенка.
Спустя несколько часов, когда уже подступали сумерки, из глубины одного вагона солдаты выбросили труп, голова которого была перевязана окровавленным платком. Это и был домовладелец здания Итальянского консульства в Яссах. Сартори долго, молча, смотрел на него, дотронулся до его лба, потом повернулся к раввину и сказал: «Это был порядочный человек!»
Неожиданно мы услышали шум свалки. Банда, состоявшая из набежавших со всех сторон крестьян и цыган, принялась раздевать трупы. Сартори сделал жест, выражавший его негодование, но раввин дотронулся до его плеча: «Бесполезно, — сказал он, — это обычай». Потом, с печальной улыбкой, он добавил: «Завтра они придут к нам продавать одежду, украденную у мертвых, и нам придется покупать ее — как могли бы мы поступить иначе?» Сартори замолчал и только смотрел, как раздевали несчастных. Можно было на самом деле подумать, что мертвецы изо всех сил сопротивляются этому последнему насилию. Обливаясь потом, рыча и ругаясь, нападающие старались приподнять непокорные руки, распрямить отвердевшие локти, разогнуть жесткие колени, чтобы снять куртки, брюки, нижнее белье. Женщины были особенно упорными в своем безнадежном сопротивлении. Я никогда не представлял себе, чтобы было так трудно снять сорочку с мертвой молоденькой девушки. Быть может, в них еще и после смерти оставалась жить стыдливость, придававшая им сил для самозащиты. Иногда они приподнимались на локтях, приближая свои белые лица к потным и ожесточенным лицам своих осквернителей, и долго смотрели на них своими расширенными глазами. И потом они падали голые обратно на землю, падали с глухим стуком.
— Надо уезжать, уже поздно, — сказал Сартори спокойным голосом. Затем, обратившись к раввину, он попросил его выдать документ о смерти этого «очень порядочного человека». Раввин поклонился, и мы направились пешком к городу.
В кабинете директора Сельскохозяйственного банка жара была поистине удушливой. Раввин послал за синагогальной книгой регистрации смертей, составил акт о смерти несчастного и передал этот документ Сартори, который бережно сложил его и спрятал в своем портфеле.
Вдали послышался гудок поезда. Большая муха с синими крыльями жужжала возле чернильницы.
— Я очень сожалею, что вынужден уезжать, — сказал Сартори, — но мне необходимо вернуться в Яссы до наступления вечера.
— Подождите минутку, прошу Вас, — сказал по-итальянски один из членов администрации Сельскохозяйственного банка. Это был маленький жирный еврей с бородкой а ля Наполеон Третий[346]. Он открыл маленький шкапчик, достал бутылку вермута и наполнил несколько рюмок, добавив, что это подлинный вермут из Турина, настоящее Чинзано, и начал рассказывать нам по-итальянски, что он не раз бывал в Венеции, во Флоренции, в Риме, что двое его сыновей учились медицине в Италии, в Падуанском университете[347].
— Я был бы рад с ними познакомиться, — любезно сказал Сартори.
— Э! Их нет в живых, — ответил еврей. — Оба убиты в Яссах, в тот самый день. Он вздохнул, потом добавил: — Я так хотел бы вернуться в Падую, снова увидеть университет, где учились мои мальчики.
Мы долго молчаливо сидели в комнате, полной мух. Потом Сартори встал и все так же молча мы вышли. Пока мы садились в машину, еврей, с наполеоновской бородкой, взял за локоть Сартори и униженно сказал, понизив голос: «И подумать только, что я знаю наизусть всю „Божественную комедию“». И он стал декламировать:
- Nel mezzo de! cammin di nostra vita…[348]
Машина двинулась, и группа евреев, одетых в черное, исчезла в облаке пыли.
— Румыны — нецивилизованный народ, — сказал презрительно Франк.
— Йа, ес ист айн фольк оне Культур,[349] — добавил, качая головой, Фишер.
— Вы ошибаетесь, — ответил я, — румыны народ благородный и щедрый. Я очень люблю румын. В этой войне из всех латинских народов одни только румыны показали благородные чувства долга и большого великодушия, проливая кровь за своего Христа и своего короля. Это простой народ, народ крестьян, грубоватых и тонких. Не их вина, если у классов, семейств и людей, которые должны были бы служить им примером, гнилые души, гнилые мозги, гнилые кости. Румынский народ не ответствен за избиения евреев. Погромы в Румынии сейчас, как и в прошлом, организованы и разражаются по приказу или при соучастии руководителей государства. Народ не виноват, если трупы евреев со вспоротыми животами, подвешенные на крюках, как мясные туши, висящие на бойнях Бухареста, остаются в таком виде висеть днями и днями среди смеха гвардейцев.
— Я понимаю и разделяю ваше чувство возмущения, — сказал Франк. — В Польше, благодаря Богу и немного благодаря мне, вы не имели и не будете иметь случаев видеть подобные мерзости. Нет, майн либер Малапарте[350], в Польше, в немецкой Польше, у вас не будет ни случая, ни повода растрачивать ваши благородные чувства осуждения и милосердия!
— О! Я, разумеется, не явлюсь к Вам, чтобы высказать то, что Сартори, Пеллегрини и я сказали шефу полиции в Яссах. Это было бы неосторожно. И вы, по меньшей мере, засадили бы меня в концентрационный лагерь.
— И Муссолини даже не протестовал бы.
— Нет. Он не протестовал бы. Он не хочет неприятностей, Муссолини!
— Вы знаете, — сказал Франк напыщенно, — что я справедлив и лоялен и что я не лишен сенс оф юмор[351]. Если вы захотите сказать мне что-либо справедливое и лояльное, вы можете прийти ко мне без всяких опасений. Мы здесь — в Варшаве, а не в Яссах. Разве вы позабыли о нашем пакте? Вы помните то, что я сказал вам, когда вы только прибыли в Польшу?
— Вы меня предупредили, что поручите Гестапо следить за мной самым внимательным образом, но что я имею право думать и действовать как свободный человек. Вы уверили меня, что я могу свободно выражать свои мнения, что и вы будете также поступать по отношению ко мне, что вы с абсолютной лояльностью будете уважать правила игры в крокет.
— Наш пакт все еще действителен, — сказал Франк. — Разве я не уважал всегда правила крокета? Чтобы дать вам новое доказательство моей лояльности, я скажу вам, что Гиммлер не доверяет вам. Я встал на вашу защиту. Я сказал ему, что вы не только лояльный человек, но и свободный человек, что в Италии вам пришлось вынести тюрьму и преследования за ваши книги, за ваше свободомыслие, за вашу неосторожность избалованного ребенка, но все это не оттого, что вы — человек нелояльный. Я сказал ему также, чтобы как можно надежнее обосновать мое мнение о вас, что, проезжая через Швецию, как вы это нередко делаете, чтобы попасть на Финский фронт, вам было бы очень легко — и никто не сумел бы помешать вам в этом — остаться в этой нейтральной стране в качестве политического эмигранта, но что вы не делаете этого, потому что вы носите форму итальянского офицера и, что, следовательно, ваша честь не позволяет вам дезертировать. Я добавил, что ваши книги изданы во Франции, в Англии и в Америке и что, следовательно, вы — писатель, заслуживающий внимания, и что мы должны доказать вам, что немецкая Польша — страна такая же свободная, как и Швеция. Чтобы быть с вами совершенно искренним, я скажу вам, что я на всякий случай дал совет Гиммлеру обыскать вас, когда вы будете покидать польскую территорию. Быть может, мне следовало вас предупредить, что я намерен дать такой совет Гиммлеру, или же просто-напросто не давать ему такого совета? Как бы то ни было, но я ставлю вас об этом в известность сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Это — тоже крокет, нихьт вар!
— Это — почти крокет, — ответил я, улыбаясь, — но вы сделали бы лучше, посоветовав Гиммлеру обыскать меня тогда, когда я въезжал в Польшу. И чтобы со своей стороны дать вам доказательство своей лояльности, я хочу вам рассказать, на что я употребил свое время в период пребывания Гиммлера в Варшаве.
И я рассказал Франку об этих письмах, о пакетах с продуктами и деньгах, которые польские беженцы в Италии просили меня передать их родным и друзьям в Варшаве.
— Ах, зо! Ах, зо! — воскликнул Франк, смеясь. — Под самым носом Гиммлера! Ах, вундербар! Под самым носом Гиммлера!
— Вундербар! Ах, вундербар! — вскричали все гости, шумно смеясь.
— Я надеюсь, что это крокет? — спросил я.
— Да, это настоящий крокет! — кричал Франк. — Браво, Малапарте! — Прозит! — добавил он, поднимая свой стакан.
— Прозит! — повторили остальные. И мы выпили «по-немецки» одним духом.
Наконец, мы встали из-за стола, и фрау Бригитта Франк провела нас в соседнюю комнату (круглую залу, освещенную двумя большими застекленными дверями, выходящими в парк), которая была некогда спальней маршала Пилсудского. Отблески снега (по голым ветвям деревьев перепрыгивали маленькие серые птички; статуи Аполлона и Дианы на пересечениях аллей были одеты снегом, и в парке, там и здесь, часовые маршировали с автоматами, взятыми на руку) мягко таяли на стенах, на мебели, на мягких коврах.
— В этой комнате, — сказал Франк, — как раз в том кресле, где сейчас сидит Шмелинг, умер маршал Пилсудский. Я не позволил трогать здесь ничего. Я хотел, чтобы все оставалось на своих местах и распорядился вынести только постель. И он любезным голосом добавил: «Память маршала Пилсудского заслуживает нашего полного уважения».
Он умер в этом кресле, меж двух застекленных дверей, глядя на деревья парка. Большая ниша, устроенная в стене напротив стеклянных дверей, была занята диваном, на котором сидели фрау Фишер и генерал-губернатор Франк. Раньше постель маршала Пилсудского стояла здесь, в этой нише, на месте дивана. Стоя рядом с креслом, в котором он умер и где сейчас сидел боксер Макс Шмелинг, старый маршал, с бледным лицом, изрезанным синими венами, похожими на шрамы, с большими свисающими усами а ля Собесский, с обширным лбом, над которым ершилась щетка коротких и жестких волос ждал, когда Макс Шмелинг поднимется и уступит ему место. Франк был прав: память маршала Пилсудского заслуживала нашего полного уважения.
Франк громко спорил с Максом Шмелингом о спорте и чемпионах.
Было жарко. Пахло табаком и коньяком. Я чувствовал, что меня мало-помалу охватывает оцепенение: я слышал голоса Франка и фрау Вехтер, видел Шмелинга и губернатора Фишера, подносящих к губам свои рюмки коньяка; фрау Фишер, которая, улыбаясь, поворачивалась к фрау Бригитте, и ощущал, что меня окутывает теплый туман, стирающий отчетливость голосов и лиц. Я устал от этих голосов и этих лиц. Я не мог больше выносить Польшу; через несколько дней я должен был уехать на Смоленский фронт; это был тоже крокет, нихьт вар!
Было мгновение, когда мне показалось, что Франк повернулся ко мне и приглашал меня провести несколько дней в горах — в Татрах, в Закопане, на знаменитой зимней польской спортивной станции. «Ленин, в 1914 году, незадолго до начала войны, тоже провел несколько дней в Закопане», — говорил Франк, смеясь. Я ответил (или только хотел ответить), что не могу, что я должен уезжать на Смоленский фронт; потом я заметил, что готов ответить ему: «Почему бы нет? Я охотно проведу четыре-пять дней в Закопане». Внезапно Франк поднялся, мы тоже все встали, и он предложил совершить прогулку в гетто.
Мы вышли из Бельведера. Я сел в первую машину вместе с фрау Фишер, фрау Вехтер и генерал-губернатором Франком. Во второй машине разместились фрау Бригитта Франк, губернатор Фишер и Макс Шмелинг. Остальные приглашенные следовали за нами в других машинах. Мы проехали по Уяздовской аллее, свернули на Свентозицкую и поехали по Маршалковской, потом остановились и пешком спустились к входу в «Запретный город», входу, устроенному в высокой стене из красного кирпича, которой немцы окружили гетто.
— Взгляните на эту стену, — сказал мне Франк. — Разве вы здесь на самом деле видите эту ужасную бетонную стену, унизанную пулеметами, о которой твердят английские и американские газеты? И, смеясь, он добавил: «Евреи, бедняги, все слабогрудые; эта стена, по крайней мере, защищает их от ветра!»
В надменном голосе Франка было что-то, что показалось мне знакомым, что-то печальное: жестокость, грустная и страдающая.
— Страшная аморальность этой стены, — ответил я, — не только в том, что она препятствует евреям выходить из гетто, но в том, что она не мешает им входить туда.
— И, однако, — сказал Франк, смеясь, — несмотря на то, что нарушение запрещения выходить из гетто карается смертью, евреи входят и выходят из него по своему желанию.
— Перелезая через стену?
— О, нет! — ответил Франк. — Они выходят через маленькие отверстия, похожие на крысиные норы, которые по ночам подкапывают у основания стены, а днем маскируют землей и сухими листьями. Они просачиваются сквозь эти отверстия и отправляются в город, чтобы покупать там продукты и одежду. Черный рынок гетто в своей большой части работает при посредстве этих нор. Время от времени некоторые из таких крыс попадаются в мышеловку: это дети восьми-десяти лет, не больше. Они рискуют жизнью с настоящим спортивным азартом. Это тоже крокет, нихьт вар?
— Они рискуют своей жизнью! — воскликнул я.
— В самом деле, — ответил Франк, — они не рискуют ничем другим.
— И это вы называете крокетом?
— Конечно! Каждая игра имеет свои правила.
— В Кракове, — заметила фрау Вехтер, — мой муж создал вокруг гетто стену в восточном вкусе — с изящными арками и зубцами. Краковские евреи, разумеется, не могут жаловаться. Стена совсем элегантная, в еврейском стиле.
Все смеялись, топая ногами по оледенелому снегу.
— Ruhe! — Тихо! — сказал солдат, целившийся из автомата, сидя на корточках в нескольких шагах от нас. Он был скрыт от нас кучей снега.
Солдат целился в нору, проделанную в стене на уровне земли. Другой солдат, опустившись на колени позади него, смотрел через плечо своего товарища.
Внезапно первый солдат выстрелил. Пуля ударила в стену как раз над отверстием.
— Промах! — весело воскликнул солдат, перезаряжая винтовку.
Франк подошел к солдатам и спросил, в кого они стреляют.
— В крысу! — ответили они, громко хохоча.
— В крысу? Ах, зо! — сказал Франк, опускаясь на колено, чтобы посмотреть поверх плеча солдата. Мы приблизились тоже, мы все, и дамы смеялись и суетились, высоко приподнимая подолы платьев, как это обычно делают женщины, если разговор заходит о крысах.
— Где она? Где крыса? — спрашивала фрау Бригитта Франк.
— Ахтунг![352] — сказал солдат, прицеливаясь. В норе, проделанной у основания стены, показался пучок всклокоченных черных волос, затем две руки, упирающиеся в снег. Это был ребенок.
Раздался выстрел. Голова ребенка исчезла.
— Дай сюда! — нетерпеливо сказал Франк. — Ты даже не умеешь стрелять. Он вырвал у солдата винтовку и прицелился.
В тишине падал снег.
Часть III СОБАКИ
VIII. ЗИМНЯЯ НОЧЬ
В витрине скорняка-татарина среди мехов норки, горностая, белки, лисиц — серебристых, голубых и платиновых, была растянута внушающая ужас и жалость собачья шкура. Это был прекрасный английский сеттер: черно-белый, с длинной и тонкой шерстью; у него были пустые глазницы, сплющенные уши, раздавленная морда. Этикетка, лежавшая на одном из ушей, указывала цену: «Шкура английского сеттера, чистопородного, финских марок 600». Мы стояли перед витриной. Я чувствовал, как меня охватывает легкое омерзение.
— Ты никогда не видел перчаток из собачьей кожи? У полковника Люктандера была пара… у этого финского полковника, которого мы повстречали на Ленинградском фронте, — сказал мне граф Огюстен де Фокса, посол Испании в Хельсинках. — Я хотел бы купить пару, чтобы отвезти их в Мадрид. Я всем рассказывал бы, что это собачья кожа. Перчатки из спаниеля[353] — гладкие и шелковистые, а из легавой — жестче. Для дождливых дней я хотел бы иметь перчатки из руфф-терьера. Даже женщины здесь носят шапки и муфты из собачьего меха. Де Фокса смеялся и смотрел на меня исподлобья. — Собачья шкура добавляет нечто к красоте женщины, — заявил он.
— Собаки великодушны, — отметил я.
Это происходило в последних числах марта 1942 года. Мы шли по улице, пересекающей Эспланаду[354], только что миновали ее возле Савоя и спустились к рыночной площади, расположенной перед портом, той, где рядом, один с другим, возвышаются неоклассический дворец шведского посольства и другой, построенный в стиле Энгелиса, служащий резиденцией президента Финской республики.
Стоял волчий холод; нам казалось, что мы идем по лезвию бритвы. Немного подальше витрины скорняка-татарина на углу улицы мы подошли к магазину гробов. Гробы, покрашенные то белой, то блестящей черной краской (с огромными серебряными бляхами) целиком сделанные из красного дерева, были расставлены в магазине с обольстительным искусством. Одинокий маленький детский гробик, весь посеребренный, стоял на витрине.
— Обожаю эти вещи! — сказал мне по-французски де Фокса, останавливаясь, чтобы посмотреть на гробы.
Де Фокса жесток и мрачен, как всякий порядочный испанец. Он питает уважение только к душе: тело, кровь, страдания бедной человеческой плоти, ее болезни, ее раны оставляют его равнодушным. Он любит говорить о смерти, радуется, точно празднику, если видит гробы в витринах, с удовольствием беседует о язвах, опухолях, уродах. Но он боится призраков, готов говорить о чем угодно, только не о привидениях. Это интеллигентный человек большого ума и культуры, быть может немного слишком «духовный», чтобы быть вполне разумным. Он хорошо знает Италию, знаком с большинством моих друзей во Флоренции и в Риме; у меня есть даже подозрение, что оба мы, сами того не ведая, были влюблены в одно время и в одну и ту же женщину. Он провел несколько лет в Риме в качестве секретаря испанского посольства, расположенного возле Квиринала, но затем был изгнан из Италии за то, что острил на площадке для гольфа в Акуазанте и в своих донесениях Серрано Суинеру по адресу графини Эдды Чиано.
— Подумай только: я три года прожил в Риме, — говорил он мне, — и не знал, что графиня Эдда Чиано — дочь Муссолини! Когда мы спускались по Эспланаде, Огюстен де Фокса рассказал мне, что однажды вечером он с несколькими друзьями пошел посмотреть, как открывали гробницы старого кладбища святого Себастьяна в Мадриде. Был 1933 год — в этом году Испания была Республикой. В связи с принятой новой планировкой Мадрида, Республиканское городское управление вынесло решение о ликвидации старого мадридского кладбища. Когда де Фокса и его друзья, в числе которых находились молодые мадридские писатели — Цезарь Гонсалес Руано, Карлос Мираллес, Агостин Виньола и Луис Эскобар, прибыли на кладбище, уже наступала ночь, и многие могилы были открыты и пусты. Мертвецы лежали в незакрытых гробах: торреро в своих ярких костюмах, генералы в полной форме, священнослужители, юноши, богатые буржуа, молодые девушки, благородные дамы и маленькие дети. Одной молодой покойнице, похороненной с флаконом духов в руке, поэт Луис Эскобар посвятил впоследствии лирическое стихотворение: «Прекрасной даме, которую звали Мария Консепсьон Элола». Агостин Виньола тоже посвятил стихи бедному моряку, неожиданно умершему в Мадриде и погребенному на этом печальном кладбище вдали от моря. Де Фокса и его друзья, до того немного подвыпившие, опустились на колени перед гробом моряка, читая молитвы по усопшим. Карлос Мираллес положил на грудь мертвому листок бумаги, на котором он нарисовал карандашом лодку, рыбу и несколько волн. Потом все перекрестились, говоря: «Во имя севера, юга, запада и востока!». На могиле студента по имени Новилло наполовину стертая временем эпитафия гласила: «Бог прервал его занятия, чтобы наставить его истине». В одном гробу, украшенном большими серебряными звездами, лежал мумифицированный труп молодого французского аристократа — графа Мартиньера, эмигрировавшего в Испанию в 1830 году, после падения Карла X[355], с группой французских легитимистов. Цезарь Гонсалес Руано склонился перед графом Мартиньером и сказал ему: «Я приветствую тебя, благородный француз, преданный и верный своему законному королю, и в твоем присутствии испускаю возглас, который не может больше сорваться с твоих губ, возглас, который заставит затрепетать твои кости: „Да здравствует король!“» Республиканский полицейский, оказавшийся на кладбище, схватил Цезаря Гонсалеса Руано за руку и отвел его в тюрьму.
Де Фокса говорил громко и как обычно жестикулировал.
— Огюстен, — сказал я, — говори тихо: тебя слушают призраки.
— Призраки? — прошептал де Фокса, бледнея и озираясь.
Дома, деревья, статуи и скамейки Эспланады, казалось, сверкали в этом свете, ледяном и призрачном, который снег придает вечерам на севере. Несколько пьяных солдат спорили с девушкой на углу Миконкату. Жандарм ходил вдоль и поперек тротуара у отеля Кемп. Над крышами улицы Маннергейма небо было белым, без единой складки, без всякого трепетания воздуха, как небо на старой выцветшей фотографии. Огромные железные буквы рекламы сигарет Клубби над крышей отеля Уосисуома чернели в небе, точно скелет огромного насекомого. Стеклянная башня дома Штокмана[356] и небоскреб отеля Торни[357] блестели в мертвенно-бледном воздухе.
И вдруг на рекламе, подвешенной к балкону одного из домов, я прочел два слова: «Институт Лингафон».
Ничто, никогда не может так напомнить мне зиму в Финляндии, как пластинки Лингафона. Каждый раз, как только я увижу в газете объявление: «Изучайте иностранные языки по методике Лингафон!», каждый раз, как только я прочту эти два магических слова «Институт Лингафон», я стану думать о финской зиме, о призрачных лесах и ледяных озерах Финляндии.
Всегда, когда я услышу разговор о пластинках Лингафон, я, закрыв глаза, буду видеть моего друга Якко Леппо, коренастого и толстого, затянутого в форму финского капитана, его лицо, круглое и бледное, с выступающими скулами, маленькими подозрительными косыми глазками, полными холодного северного света. Я вижу моего друга Якко Леппо сидящим со стаканом в руке перед граммофоном в библиотеке его дома в Хельсинках, а вокруг него — Лиззи Леппо, госпожу П., министра П., графа Огюстена де Фокса, Титуса Михайлеско, Марио Орано, — каждого с бокалом в руке, слушающего хриплый голос граммофона. Я увижу, как время от времени Якко Леппо поднимет свой бокал, полный коньяка, говоря: «Малианне» (ваше здоровье!) и все поднимают свои бокалы, говоря: «Малианне» (ваше здоровье!) Всякий раз, как только я увижу надпись: «Институт Лингафон», я стану думать о финской зиме и о ночи, которую мы провели с бокалами в руках у Якко Леппо, слушая хриплый голос граммофона и говоря друг другу: «Малианне!»
Было уже два часа ночи. Мы только что закончили ужинать, закончили во второй или в третий раз. Сидя в библиотеке, перед огромным зеркалом окна, вырезанного в призрачном небе, мы смотрели, как Хельсинки медленно тонул в снегу, и из этого белого и молчаливого кораблекрушения всплывали, как корабельные мачты, колоннада Парламента[358], посеребренный и гладкий фасад почтового отеля, затем вдали, на фоне деревьев Эспланады и Бруннспаркена[359] — башня Штокмана, из стекла и бетона, и небоскреб Торни.
Термометр, подвешенный к окну снаружи, показывал сорок пять градусов ниже нуля.
— Сорок пять градусов ниже нуля — вот Парфенон[360] Финляндии! — говорил де Фокса.
Время от времени Якко Леппо поднимал свой бокал, полный коньяка, и говорил: «Малианне!» и все мы поднимали наши бокалы, наполненные коньяком, и говорили: «Малианне!» Я только что вернулся с Ленинградского фронта, и в течение пятнадцати дней ничего другого не делал, как только говорил: «Малианне!» Повсюду — в глубине лесов Карелии, в корсу-землянках, вырубленных во льду, в траншеях, в лоттала, на тропинках Каннаша, — всякий раз, когда мои сани встречались с другими санями, — повсюду, в течение пятнадцати дней я не делал ничего иного, как только поднимал свой стакан и говорил: «Малианне».
В поезде, который вез меня в Виипури[361], я провел ночь, говоря: «Малианне» с директором железных дорог округа Виипури, прибывшем в моем спальном вагоне, чтобы отдать визит Якко Леппо. Это был коренастый человек, невысокий, но геркулесовского сложения, с лицом бледным и опухшим. Сняв свой тяжелый бараний тулуп, он оказался в вечернем костюме. На фоне его галстука, незапятнанной белизны, виднелось горлышко бутылки, укрытой между его крахмальным пластроном[362] и ослепительным жилетом. Он возвращался со свадьбы своего сына. Торжество продолжалось трое суток, и теперь он ехал в Виипури к своим паровозам, своим поездам, своей конторе, сооруженной на развалинах вокзала, разрушенного советскими минометами.
«Это забавно, — сказал он мне. — Сегодня я опять много пил, и я не чувствую себя даже навеселе». У меня же, напротив, было впечатление, что он выпил совсем немного, но был уже не «голубым», а темно-синим. Спустя мгновение он достал со своей груди бутылку, извлек из кармана два маленьких стаканчика, наполнил их до краев коньяком и сказал: «Малианне!» Я ответил: «Малианне!» и мы провели ночь, говоря друг другу: «Малианне» и молчаливо глядя друг на друга. Время от времени он принимался говорить по-латыни (на единственном языке, на котором мы могли понимать один другого). Он указывал мне на черный, мрачный, призрачный, нескончаемый лес, бежавший нам навстречу по обе стороны железнодорожного полотна, и заявлял: «Semper domestica silva»[363], добавляя: «Малианне!» Потом он будил Якко Леппо — «Somno vinoque sepulto»[364] — на его диване, вкладывал ему в руку стакан, говоря: «Малианне». Якко Леппо, отвечая «Малианне», одним духом, не открывая глаз, осушал стакан и снова впадал в сон. Наконец, мы прибыли в Виипури и освободились друг от друга среди руин вокзала, говоря: «Vaie».
В течение пятнадцати дней я не делал ничего иного, кроме как говорил «Малианне» во всех «корсу» и всех «лоттала» Каннаша и восточной Карелии. Я говорил «Малианне» в Виипури с лейтенантом Свёртстремом и другими офицерами из его компании, говорил «Малианна» в Териоках[365], в Александровске, в Райкколе, на берегах Ладожского озера, с офицерами и «сиссит» полковника Мерикальо; я говорил «Малианне» в траншеях под Ленинградом с артиллерийскими офицерами полковника Люктандера. Я говорил «Малианне» в терпидариуме «сауны» — национальной финской бани, после того, как рысью выбежав из кальдариума, где температура достигала шестидесяти градусов выше нуля, я голым катался в снегу на опушке леса при сорока двух градусах ниже нуля; я говорил «Малианне» близ домика художника Репина[366] в предместьях Ленинграда, глядя сквозь деревья сада на дом, где покоится этот художник, и на смутные очертания вдали, на краю дороги, первых строений Ленинграда, видневшихся под огромным облаком дыма, стоявшим над городом.
Время от времени Якко Леппо поднимал свой стакан и говорил: «Малианне!» И министр П. — один из высших функционеров Министерства иностранных дел, говорил: «Малианне». И госпожа П. и Лиззи Леппо говорили: «Малианне!» И де Фокса говорил: «Малианне!», и Титус Михайлеско, и Марио Орано говорили: «Малианне!» Мы сидели в библиотеке и сквозь огромное стекло окна смотрели на город, медленно тонущий в снегу, и на суда, вдали на горизонте, плененные льдами возле острова Суоменлинна[367], силуэты которых постепенно поглощал туман.
Наконец наступал тот хрупкий час, когда финны становятся печальными. Они пристально смотрят друг на друга с вызывающим видом, прикусывая нижнюю губу, и пьют в молчании, не говоря «Малианне», будто делая над собой усилие, чтобы подавить глубокую ярость. Я хотел потихоньку уйти незамеченным, де Фокса тоже хотел уйти, но министр П. схватил его за руку, говоря: «Дорогой посол, ведь вы знакомы с Ивало, не правда ли?» (Ивало был генеральным директором Министерства иностранных дел).
— Это один из лучших моих друзей, — отвечал ему де Фокса примирительным тоном. — Это человек редкого ума, а госпожа Ивало — совершенно очаровательная женщина.
— Я вас не спрашиваю, знакомы ли вы с госпожой Ивало, — говорил министр, глядя на де Фокса своими подозрительными глазками. — Я хотел знать, знаете ли вы господина Ивало.
— Да, я очень хорошо его знаю, — отвечал де Фокса, умоляя меня взглядом, чтобы я не покидал его.
— Знаете ли вы, что он сказал мне по поводу Испании и Финляндии? Я встретил его сегодня вечером в баре Кэмпа. Он был там с министром Хоккарайненом. Вы ведь знаете министра Хоккарайнена, не так ли?
— Он очень обаятельный человек, министр Хоккарайнен, — отвечал де Фокса, разыскивая глазами Титуса Михайлеско.
— Знаете ли вы, — сказал мне месье Ивало, — в чем разница между Испанией и Финляндией?
— Ее показывает термометр, — осторожно ответил де Фокса.
— Почему термометр? Нет, она не обозначена на термометре, — говорил министр П. возбужденным голосом. — Разница в том, что Испания — страна симпатизирующая, но не воюющая, тогда как Финляндия — страна воюющая, но не симпатизирующая.
— А! а! а! Очень забавно! — сказал де Фокса, смеясь.
— Почему вы смеетесь, — подозрительно спросил его министр П.
Якко Леппо, неподвижно седевший на стульчике у рояля, как татарин в седле, смотрел на де Фокса своими маленькими косыми глазками, в которых светилась мрачная зависть из-за того, что министр П. не воззвал и к его участию в том, что он обращал к послу Испании.
Наконец, пробил тот опасный час, когда финны сидят с угрожающим видом, опустив головы, и каждый пьет сам по себе, не говоря «Малианне», как если бы они находились в одиночестве или выпивали тайком; и время от времени они принимаются громко говорит по-фински, как если бы они обращались к самим себе. Марио Орано исчез. Он удалился на цыпочках так, что никто этого не видел. Я сам не заметил этого, хотя ни на мгновение не терял его из вида и следил за каждым его движением. Но Орано жил в Финляндии уже четыре или пять лет; он отлично усвоил нелегкое искусство таинственно скрываться в тот самый миг, когда наступал этот опасный час. Я тоже хотел незаметно уйти, но каждый раз едва я достигал двери, я чувствовал, как что-то холодное проникало мне в спину и, обернувшись, встречал мрачный взгляд Якко Леппо, сидевшего на стульчике у рояля, как татарин в своем седле.
— Идемте! — сказал я де Фокса, беря его за руку. Но как раз в это время министр П., приблизившись к де Фокса, спросил его странным тоном: «Правда ли, дорогой мой посол, что вы сказали мистрисс Мак Клинток, что у нее растут перья, я не знаю точно в каком именно месте?» Де Фокса защищался, уверяя, что это неправда, но министр П. говорил ему: — «Как? Вы отрицаете?» И при этом заметно бледнел. Я говорил де Фокса: «Не отрицайте, ради всего святого, не отрицайте!» Но министр П. настаивал, все больше и больше бледнея: — «Так, значит, вы отрицаете? Признайтесь, что у вас не хватает смелости повторить мне то, что вы сказали мистрисс Мак Клинток?» Я советовал де Фокса: «Ради Бога, повтори ему то, что ты сказал Елене Мак Клинток». Де Фокса принялся рассказывать, что однажды вечером он был у посла США, господина Артура Шенфельда, вместе с Еленой Мак Клинток и Робертом Милльсом Мак Клинток, секретарем посольства США. Позже прибыли посол Франции (Вишийской Франции) месье Губерт Герин и госпожа Герин. Был момент, когда госпожа Герин спросила Елену Мак Клинток, не испанка ли она по происхождению, как это ей показалось по ее лицу и акценту. Забыв о том, что здесь присутствовал испанский посол, Елена Мак Клинток, которая была испанкой из Чили, ответила: «К несчастью, да!»
— А! А! Очень забавно! Не правда ли? — воскликнул министр П., хлопая по плечу де Фокса.
— Подождите, история не кончена, — сказал я нетерпеливо.
И де Фокса продолжал, рассказывая, что он ответил мистрисс Мак Клинток: «Дорогая Елена, когда происходят из южной Америки, то это не испанское происхождение. Ведь там носят перья на голове».
— А! а! а! Очень забавно! — восклицал министр П. и, обращаясь к г-же П., сказал: — Ты поняла, дорогая? Испанцы из Южной Америки носят перья на голове!
А я говорил шепотом де Фокса:
— Уйдем, Бога ради, отсюда!
Но уже наступал тот патетический час, когда растроганные финны начинают глубоко вздыхать над своими пустыми стаканами и смотреть друг на друга глазами, полными слез. В тот миг, когда мы с де Фокса подошли к Лиззи Леппо, сидевшей глубоко в кресле с изнемогающим и грустным видом, чтобы горячо попросить ее отпустить нас, Якко Леппо встал и громко воскликнул:
— Я хочу, чтобы вы прослушали отличные пластинки! — И он гордо добавил: — У меня есть граммофон!
Он подошел к граммофону, выбрал в кожаном футляре пластинку, повертел ручку, поставил на край пластинки иглу и посмотрел вокруг суровым взором. Мы все застыли в ожидании.
— Это китайская пластинка, — сказал он.
Это была пластинка Лингафона: гнусавый голос подарил нам урок китайского произношения, которому мы внимали в религиозном молчании. Потом Якко Леппо переменил пластинку, покрутил завод и объявил: «Пластинка хиндустани!» Это был урок произношения хиндустани, который мы прослушали также в глубокой тишине.
Затем наступил черед нескольких уроков турецкой грамматики, потом серия уроков арабского произношения и, наконец, пять уроков японской грамматики и произношения. Все мы молчали и слушали.
— И напоследок, — заявил Якко Леппо, крутя завод, — я вам поставлю чудеснейшую пластинку!
Это был урок французского произношения. Профессор Института Лингафон гнусаво читал «Озеро» Ламартина[368], «Озеро» Ламартина все целиком. Мы слушали в религиозном трансе. Когда гнусавый голос умолк, Якко Леппо растроганно осмотрелся вокруг и сказал:
— Моя жена заучила наизусть эту пластинку. Не откажи нам, дорогая!
Лиззи Леппо встала, медленно прошла через комнату; остановилась рядом с граммофоном, откинула голову, подняла руки и, глядя в потолок, начала декламировать «Озеро» Ламартина; снова все «Озеро», с тем же произношением, тем же гнусавым голосом, что и профессор Института Лингафон.
— Чудесно, не правда ли? — растроганно спросил Якко Леппо.
Было уже пять часов утра. Я забыл, что происходило после, до тех пор, пока мы с де Фокса не очутились на улице. Стоял волчий холод. Ночь была светлая. Снег тихо сверкал мягким серебряным блеском. Когда мы дошли до моей гостиницы, де Фокса пожал мне руку и сказал: «Малианне!» Я ответил ему: «Малианне!» Шведский посол Вестманн ждал нас в своей библиотеке, сидя у окна. Серебристый отблеск ночного снега таял в полутьме библиотеки, в теплой полутьме цвета кожи, которому книжные переплеты придавали мягкое золотое трепетание. Свет вдруг сразу усилился, освещая высокий и тонкий силуэт посла Вестманна, ясный и отчетливый, как рисунок, гравированный на старом шведском серебре. Его жесты, словно замороженные в этом воздухе тихим усилением света, медленно таяли, слегка смягченные, и его маленькая голова, прямые и сухие плечи, как мне на мгновение показалось, обладали холодной неподвижностью мраморных бюстов шведских королей, выстроенных в линию на высоких дубовых цоколях библиотеки. Посеребренные волосы бросали на его широкий лоб мертвенный мраморный отсвет, и на его благородном и суровом лице блуждала ироническая улыбка, вернее, тень, тревожная тень улыбки.
В теплой столовой мягкий нежный свет двух больших серебряных канделябров, поставленных на столе, умирал в белом отблеске замерзшего моря и покрытой снегом площади, который все резче пробивался сквозь оконные стекла. И хотя розовый свет свечей придавал теплый телесный оттенок ослепительной белизне льняной фламандской скатерти, смягчал холодную обнаженность маринбергского и рёстрандского фарфора, согревал ледяной блеск орефорского хрусталя и сверкающие поверхности старого копенгагенского серебра, в воздухе чувствовалось нечто призрачное и в то же время что-то ироническое, если только в мире призраков и призрачных вещей может существовать ирония.
И как если бы тонкое волшебство северных ночей проникало в комнату с безрадостным отблеском ночного снега и держало нас в плену своего очарования, было нечто призрачное и в бледности наших лиц, в неустойчивой тревожности наших взоров, даже в произносимых нами словах.
На лице де Фокса, сидевшего у окна, отчетливо проступал этот лабиринт голубых вен, который особенно выделяется при освещении, рождаемом белизной ночного снега.
И быть может именно затем, чтобы в самом себе победить это колдовство северных ночей, он говорил о солнце Испании, об испанских красках, запахах, звуках, вкусовых ощущениях, о солнечных днях и звездных ночах Андалузии[369], о сухом ветре высокогорной Кастилии[370], о синем небе, которое, точно камень, придавливает голову умирающего быка. Вестманн слушал его, полузакрыв глаза, как будто среди сверкания снегов он вдыхал ароматы Испании, как будто слушал объемные звуки и чувственные голоса улиц и испанских домов, доносящиеся сюда, пересекая замерзшее море, как будто он созерцал пейзажи, портреты, натюрморты, струящиеся горячими и глубокими красками, сцены уличные и семейные, балы, арены, процессии, идиллии, похороны, триумфальные шествия, которые вновь вызывал перед ним своим звонким голосом де Фокса.
Вестманн в течение нескольких лет был послом Швеции в Мадриде, и прошло всего несколько месяцев, как он стал послом в Хельсинки, как говорили, только лишь затем, чтобы провести важные дипломатические переговоры. Предполагалось, что как только он выполнит эту временную миссию в Финляндии, он вернется в Испанию и снова вступит там на пост шведского посла. Он любил Испанию с тайным неистовством, одновременно чувственным и романтическим, и слушал в этот вечер де Фокса со смешанным чувством стыдливости, зависти и злопамятства, как слушает оставленный любовник счастливого соперника, говорящего о любимой женщине («Я — муж, я не соперник ваш. Испания — моя жена, а вы ее любовник», — говорил ему де Фокса. — «Увы!» — отвечал, вздыхая, Вестманн). Но в его отношении к Испании был этот оттенок нескончаемой чувственной страсти и тайного отвращения, которое у человека севера всегда смешивается с его любовью к средиземноморским странам; того же отталкивающего впечатления, которое отражают лица зрителей на старинных «Триумфах смерти», где сцены погребения сменяются трупами, извлеченными из могил, позеленевшими и вытянувшимися под солнцем, словно издохшие ящерицы, среди мясистых цветов с их резким благоуханием, и внушающих священный ужас, наслаждение одновременно привлекающее и отвратительное.
— Испания, — говорил де Фокса, — страна чувственная и мрачная. Но это не страна призраков. Родина призраков — север. На улицах испанских городов встречаются трупы, но не призраки. И он начал рассказывать об этой атмосфере смерти, которой проникнуты искусство и литература Испании: некоторые трупные пейзажи Гойи, живые мертвецы Эль-Греко, разложившиеся лица королей и грандов Испании, писанные Веласкесом, на фоне горделивой архитектуры, золота, пурпура и бархата королевских резиденций, церквей и монастырей.
— В Испании тоже, — сказал Вестманн — можно нередко повстречаться с призраками. Я очень люблю испанские призраки. Они очень милы и прекрасно воспитаны.
— Это не призраки, — ответил де Фокса. — Это трупы. Это не бестелесные образы — они состоят из плоти и крови. Они едят, пьют, любят, все так же, как если бы они были живыми. Между тем это мертвые тела. Они не появляются по ночам, как призраки, но — среди белого дня, при ярком солнце. Если что делает Испанию такой глубоко жизненной, так это именно ее мертвецы, которые встречаются на улицах, которые сидят в кафе, коленопреклоненно молятся в полутьме церквей, которые продвигаются, молчаливые и медлительные, с блестящими черными глазами на позеленевших лицах, в веселой сутолоке городов и деревень в праздничные и ярмарочные дни, среди живых людей, которые смеются, любят, пьют и поют. Те, кого вы называете призраками, это не испанцы. Это приезжие иностранцы. Они приходят издалека, Бог ведает откуда, и только тогда, когда вы позовете их по имени, если вы вызовете их посредством заклинания.
— Вы верите в заклинания? — спросил Вестманн.
— Каждый добрый испанец верит в заклинания.
— А знаете вы хоть одно из них? — заинтересовался Вестманн.
— Я знаю их много. Но среди них есть одно, которое в большей мере, чем другие, обладает сверхъестественной способностью вызывать призраки.
— Скажите его, я умоляю вас, хотя бы вполголоса.
— Я не смею. Я боюсь, — сказал де Фокса, бледнея. — Это слово — самое страшное и самое опасное из всех слов кастильского языка. Ни один настоящий испанец не смеет его произнести. Это проклятое слово. Призраки, услышав его, выходят из мрака и идут вам навстречу. Это фатальное слово для тех, кто его слышит и того, кто его произносит. Принесите сюда труп и положите его здесь на этом столе — вы не заметите, что бы я изменился в лице. Но не призывайте призрака, не открывайте ему дверей — я умру от ужаса.
— Скажите же нам, по крайней мере, значение этого слова, — попросил Вестманн.
— Это одно из многочисленных названий змей.
— У змей прелестные имена, — заявил Вестманн. — В трагедии Шекспира[371] Антоний нежно называет Клеопатру именем змеи.
— А! — воскликнул де Фокса, мертвенно белея.
— Что с вами? Так может это и есть то самое слово, которого вы не посмели произнести? Однако на устах Антония оно имеет сладость меда. У Клеопатры никогда не было имени более приятного. Погодите, — добавил Вестманн с жестокой радостью, — мне кажется, я точно помню те слова, которые вложил Шекспир в уста Антония.