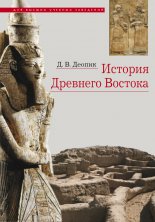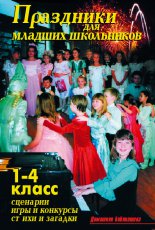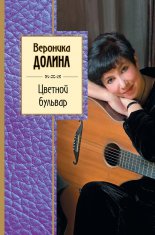Михаил Булгаков. Три женщины Мастера Стронгин Варлен
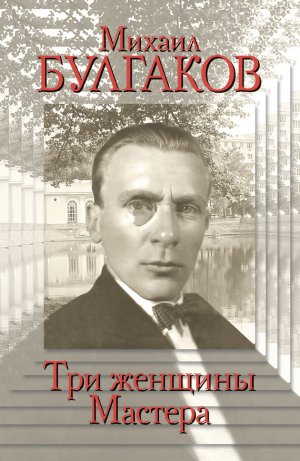
Тася пошатнулась, даже присела на стул, чтобы не упасть.
– Смерть…
– Не обязательно, – неожиданно приободрился местный врач, доброжелательный человек и лучший специалист по тифу во Владикавказе, – смертность от возвратного тифа не превышает в среднем пяти процентов, ваш муж – молодой мужчина, и я думаю, он пересилит болезнь. Но как врач должен вам сообщить все варианты болезни. Способствует ей ослабление иммунитета от сильного переутомления, голода во время безработицы, войны… Одно или два из этих явлений мы сейчас наблюдаем. Мой совет – лечить тяжелобольного дома. Я дам лекарства, скажу, как вести себя и ухаживать за ним…
Начальник военного госпиталя посуровел:
– Болезнь заразная, Татьяна Николаевна. Не забывайте об этом. Довезем мы вашего супруга до кинтошек (Кинто – грузинский весельчак из народа. – В. С.) или нет – это вопрос. Но что тут сделают красные с деникинским офицером?
– Ведь он никого не убивал, он – врач, – возразила Тася.
– Попробуйте это объяснить каждому встречному и поперечному, этим чекистам, – вздохнул начальник госпиталя.
– Постараюсь, – уверенно сказала Тася.
– Вам решать, голубушка, времени действительно осталось немного… – заключил начальник госпиталя и откланялся.
Местный врач не стал спорить с коллегой, но пришел к выводу, что шансов выжить у Миши больше здесь, чем в дороге.
– Если нужно, вызывайте меня в любое время, не стесняйтесь, – сказал местный врач.
Тася осталась рядом с Михаилом, находившимся в бессознательном состоянии. И болезнь Булгакова, и отъезд его части пришлись некстати, все сложилось катастрофически нелепо. Еще на днях начальник Владикавказского отряда полковник Дорофеев сказал сотрудникам газеты «Кавказ», что керенщина, то есть демократия, должна быть забыта. «Твердость воли – залог порядка. Будет порядок – власть наладится». Тася почувствовала, что он говорит общие слова, а ничего конкретного для спасения города предложить не может. «Современная власть должна идти к народу, а не изолироваться от него. Власть должна отрешиться от личных интересов и всю работу подчинить вопросам государственным».
– А спасение Миши? Это личный вопрос или государственный? – сама себе задала вопрос Тася.
Она сменила намоченную холодной водой повязку на его лбу. Под руку попала газета со статьей Николая Покровского «Ветры буйные». «Люди, попавшие в ЧК, часто исчезают, – писал Покровский о положении в Совдепии, – и семьи не могут добиться сведений об их судьбе. Голодают все, но граждане великой страны превращаются в какие-то ветры буйные, у которых нет ни роду, ни племени».
Тася склоняется над Мишей. От болей у него искажено лицо. Но главное – он жив, борется с болезнью. Он не буйный ветер. Он постоянно думает о матери, о сестрах, о судьбах Николки и Вани, пока ему неизвестных. Он уверен, что если они живы, то ушли с белыми, но не знает, как по свету раскидала их жизнь. Его семья, Тася, то, что он пишет, желая улучшить жизнь в стране, – это и есть его родина. Но тут как страшный кошмар возникает в ее сознании Мишин рассказ о расстреле заложников в Пятигорске, куда он выезжал перед самой болезнью. Мысли путаются в голове Таси, но этот рассказ забыть невозможно. И о том, что в Новочеркасске состоялось великое церковное торжество – освящение памятника «Спасение Дона от ига большевизма» на месте, где зверски были замучены донские атаманы Назаров и Волошников.
Михаил ездил в Пятигорск – наверное, для того, чтобы написать статью, посвященную годовщине расстрела. Захворал, не успел, и газета уже закрыта, и сотрудники, видимо, мчат к Тифлису, если уже не добрались до него, и едут в Батуми, откуда уходят пароходы в Турцию и другие страны.
Тася подходит к столу, за которым писал Михаил, и перечитывает его наметки к статье: «Суббота, 19 сентября 1919 г. Год назад в Пятигорске на склоне горы Машук были зарублены 75 заложников, взятых советской властью как представители офицерства и буржуазии. Это происходило в холодную ветреную погоду, под мелким дождем и в густом тумане. Заложников по 10–15 человек подводили к глубоким ямам, заранее вырытым на городском и Холерном кладбищах, приказывали раздеваться, ставили на колени у края могил и рубили шашками по шеям, которые заставляли выставлять вперед. Красноармейцы и матросы получали по 10 рублей с головы казненного. Рубили неумело, по 2–3 раза, пока не добивались своего. Эта ночная работа настолько утомила их, что за ними был выслан автомобиль.
Среди заложников были генералы Рузский и Радко-Дмитриев, чьи имена вошли в русскую историю. Их и других казнили не за то, что они восстали против большевизма или пытались с ним бороться, нет. Они на всякий случай были обезврежены, заключены под стражу, в основном больные и престарелые люди. Их уничтожили как возможных классовых врагов. Это был, кроме того, акт мести, преднамеренный. По постановлению Пятигорской Чрезвычайной комиссии использовался мятеж большевистского главковерха, из фельдшеров, кубанского казака Сорокина. Когда он, «ярый» юдофоб, стремясь к мести и, возможно, к власти, самолично перебил своих коллег по ревкому евреев Рубина, Дунаевского, Рожанского и других, участь заложников была решена. Сам Сорокин сел на лошадь и ускакал к ближайшей деникинской части.
Другие инородцы, руководящие Краевой Чрезвычайной комиссией, – Анджиевский, Атарбеков, Стельмахович и Кравец – объявили, бездоказательно и лживо, Сорокина наймитом буржуазии и от имени трудящихся масс изрубили заложников. Интеллигентное русское дворянство, в том числе офицерство, никогда не было антисемитским, даже боролось за создание евреям прав, равных с русским народом. Надо было судить Сорокина и наказать людей, проглядевших в нем убийцу, выбравших его в ревком. Но при чем здесь заслуженные генералы? И как можно самих себя объявить выразителями дум трудящихся масс?» Тася подумала, что Миша прав. Это был настоящий и зверский самосуд над ни в чем не повинными людьми. При таких порядках можно убить любого человека, показавшегося не очень-то красным, тем более деникинским офицером, хотя и врачом.
Миша застонал и оторвал Тасю от тяжких размышлений. Но она снова и снова думала о его судьбе. Ничто и никто не мог отвлечь ее от этого. Ни протиснутое под дверь объявление о том, что солидное товарищество принимает на себя охрану квартир, движимого и недвижимого имущества, делает это с гарантией. Спросить в доме 22 на Воздвиженской. Ни врученная ей на улице листовка, призывающая людей выполнить долг справедливости перед своими братьями, жертвующими своими жизнями за нашу свободу, покой и мир. Объявлялся сбор теплой одежды. «Разве можно допустить мысль, – писалось в листовке, – чтобы не дрогнуло ваше сердце при воспоминании о том, что где-то на околице занесенной снегом деревеньки стоит верный часовой в легкой летней шинелишке, мерзнет, да так, что начинает застывать сердце, ноги наливаются свинцом, пальцы рук не чувствуют прикосновения заиндевелого ствола винтовки, и из печальных глаз катится горячая слеза и тянет, обжигая бледную щеку своим ледяным прикосновением. Часы этого страдальца сочтены… Сотворите чудо Святителя, подойдите незаметно и накиньте на застывающее тело теплую одежду. Так мало можно сделать и так много дать счастья. На семейном торжестве обручения А. Сукасянца и О. М. Петросовой в доме родителей невесты было собрано 3500 рублей на покупку теплых вещей для Доброволии. Было бы очень хорошо, чтобы этот добрый пример нашел себе возможно больше подражателей».
Тася не без интереса прочитала объявление о том, что из Тифлиса прибыли автомобили. Желающие ехать благоволят записаться в конторе на улице Московской, «Гранд-отель», 1-е трудовое товарищество шоферов.
Тася не заметила, что сегодня появились и закричали на владикавказских тополях первые предвестники весны – скворцы. Прежде они с Мишей порадовались бы их крикам, весне, более яркой и быстрой, чем в Саратове и даже Киеве… Но сегодня Тася думала только об одном – спасении Миши. Ее напугали и его наметки к статье о трагедии в Пятигорске, и опубликованная в одном из последних номеров газеты телеграмма: «По сведению разведывательного отделения штаба Верховного Главнокомандующего, при занятии большевиками посада Иловайского ими были изрублены все беженцы и больные, не успевшие уйти с войсками».
Слезы застили Тасины глаза. Миша, едва шевельнув губами, попросил воды. Она стремглав бросилась выполнять его просьбу. И неожиданно прекратился поток слез, просветлела голова. Тася твердо и окончательно решила не отправлять Мишу из Владикавказа. Здесь он с нею. Здесь есть надежда, большая надежда, что он выживет. Даже в машине он вряд ли осилит дорогу до Тифлиса. Что станется с Мишей, когда придут большевики, неизвестно, хотя обстановка будет тяжелая. Это ясно из газет. Но Михаил служил в составе Международного Красного Креста. Он – врач. Лечил раненых: и белых и красных.
Только захотят ли в этом разбираться большевики? Вопрос… И все-таки пока Миша жив, пока они вместе, есть надежда, что все для него обернется не столь ужасно, как можно предположить. «Я выбираю надежду! – мысленно обратилась она к Мише. – Потом не суди меня за это! Прошу тебя, Миша! – вдруг опять зарыдала она, ставя ему градусник. – Снова за сорок!» Но об этом предупреждал доктор, и Тася, накинув легкое пальтишко, поспешила к врачу.
– Доктор, у Миши снова температура за сорок, он закатывает глаза, не видно даже зрачков, дышит еле-еле. Я не знаю, как помочь ему!
– И я не знаю, дорогая, – неожиданно замечает врач, – у вашего мужа первый или второй приступ, более шести не бывает, да и это в очень редких случаях. Ваш муж – врач, служил в земстве и наверняка изучал медицинскую литературу, знает, что при возвратном тифе вырабатываются антитела, которые вызывают гибель возбудителей болезни – спирохет, окончание приступа и наступление светлого промежутка. После ряда приступов больной справляется с инфекцией. Поэтому только его организм знает, когда наступит окончание болезни. Будем ждать и надеяться. Вы поступили правильно, не отправив мужа в Тифлис вместе с госпиталем. Его ослабленный организм мог не выдержать трудностей дороги. Чаще проветривайте комнату, но осторожно, не застудите больного. Кстати, тщательно мойте посуду и сама не заразитесь. А в доме не должно быть этих чертовых вшей! От них наступила беда. И не бывайте в помещениях, где много народа. Вы меня поняли, барышня? Кстати, вы знаете, что уже четвертый час ночи?..
– Извините, доктор…
– Не надо извиняться. Это специфика нашей работы – лечить больного в любое время суток, ехать к нему, где бы он ни находился.
– Уж с этим я знакома, – вздохнула Тася.
– Так помогите мужу сопротивляться болезни. Лекарства, что я выписал, слава богу, еще имеются. Но придут большевики, национализируют аптеки, и их бывшие хозяева припрячут лекарства, вспомните мои слова. Запаситесь хотя бы аспирином.
– Спасибо, доктор, извините за ночное вторжение, – покраснела Тася, – но муж – белый офицер, что с ним могут сделать большевики, страшно подумать.
– Страшно, – согласился доктор, – всем нам страшно. Мы служили старой власти. Но мы не воевали – ни врачи, ни адвокаты, ни учителя, ни торговцы. Да и потом, кто-то должен лечить и учить?
Позднее писатель Исаак Бабель изобразил Конармию Буденного в одноименном романе как полупартизанское соединение. Это не понравилось Буденному, и журнал «Октябрь» в 1924 году напечатал его опровержение, после которого писателя начали преследовать. Буденный еще в начале Гражданской войны потребовал написать песню о его славных воинах. Ему привели молодого, невысокого и полного паренька, который оказался композитором. Песня о буденновцах удалась. Помните: «Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ…» Правда, злые, а может, и правдивые языки утверждали, что братья Покрасс – Дмитрий, которого вызвал Буденный, и Даниил, вместе с поэтом Д’Актилем до захвата их города красными пели в ресторане эту песню, изменив в ней только первую строчку текста: «Мы белые кавалеристы, и про нас…» Можно поверить в это.
Тася мучительно думала о том, как они с Михаилом будут жить при красных. Он – белый офицер, она – дочка действительного статского советника, хотя и казначея, но с точки зрения большевиков – отпетого буржуя. Миша как-то предупредил ее – никому не рассказывать о своем происхождении.
– А как же я устроюсь на работу? Могут спросить, кем был отец.
– Молчи об этом. А лучше устраивайся туда, где такие вопросы не задают. Ну хотя бы… – не договорил Миша, имея в виду самую черную работу.
Тася тогда не поняла – заботится ли он о ее жизни или ему безразлична ее дальнейшая судьба. Сейчас она не думала об этом. Она приняла решение, как глава семьи, может быть, решение, определяющее их жизнь, и вдруг, вместе с гордостью за себя, с грустью почувствовала, что навсегда рассталась с романтической гимназической молодостью, с беспечностью, с влюбленностями и флиртами, что даже такого прекрасного, хотя и сложного романа, которым начиналась их любовь с Мишей, уже не будет. Сейчас нужно думать не о том, как жить, а о том, как выжить. Большевики – не единичные бомбисты из Саратова. Их масса, толпа, но хотелось бы верить, что и среди них окажутся приличные люди. Нельзя в один момент заменить целый народ другим. Многие приличные и уважаемые люди укатили в Тифлис, а оттуда – в Батуми, на корабли, везущие в Стамбул, а далее – по всему свету. Но многие остались, даже бывшие генералы-отставники, богатые осетины, персы, которые надеялись, что если у них отнимут заводы и концессии, то оставят хотя бы возможность руководить ими. Кто был ничем, тот, ничему не научась, не сможет стать всем. Остался лучший во Владикавказе адвокат Борис Ричардович Беме. То ли предвидя для себя широкое поле деятельности для защиты людей, чьи права могут быть попраны, то ли потому, что у него родился сын Лева и пускаться с крошечным ребенком в дальнее путешествие он не решился.
У Миши прошел приступ и наступило временное облегчение. Он не мог говорить от слабости, но Тася прочитала в его глазах вопрос: «Где была поздней ночью?» – «У врача, – вслух ответила Тася. – Он верит в твое выздоровление. И я тоже». Тася осторожно сняла рубашку с Михаила, тщательно просмотрела постель, порылась в его негустой шевелюре – вшей не было! Упаси от них Господь! Миша понял ее действия и улыбнулся, насколько хватило сил, уголками губ. Второй приступ оказался сильнее первого. Миша хрипел, поднялась высокая температура, однако утром резко упала до тридцати пяти градусов. Тася впервые легла на кровать. Она не спала трое суток. Судя по описанию болезни врачом, кризис миновал. Она боролась со сном, но безуспешно. Сон сковал ее веки. Но через час вдруг проснулась, видимо, сработало подсознание: она оставила больного без присмотра! Но увидев спящего, мерно дышащего Мишу, позволила себе уснуть еще на несколько часов.
В письме двоюродному брату Косте от 1 января 1921 года Михаил, кроме всего прочего и, видимо, для него весьма важного, а именно его литературных дел, написал: «Ты спрашиваешь, как поживаю. Хорошенькое слово. Именно поживаю, а не живу. Мы расстались с тобою приблизительно год назад. Весной я заболел возвратным тифом, и он приковал меня… Чуть не издох…» О Тасе в письме ни слова. Литературная работа увлекла его, он думает только о написанных рассказах и пьесах, о размышлениях по этому поводу. А во Владикавказе, впервые приподнявшись на подушке, набравшись сил, он с трудом, но вымолвил:
– Ты мой ангел, Тася! – И она тут же забыла о всех своих переживаниях, она была счастлива, что Миша любит ее и все трения между ними исчезли.
У Таси были времена, когда казалось, что ее личная жизнь рассыпается, как ртуть из разбитого термометра, на мелкие капельки, которые никогда не собрать воедино. Погиб на фронте в первом бою любимый брат Женька. Она сильно горевала о его гибели, смотрела на его вещи, привезенные вестовым, как на святыни, боялась поначалу притронуться к ним, а потом собрала волю в кулак и повесила в тот же шкаф, где они висели, – пусть ждут хозяина, всякое случается на войне, может, еще вернется. Но чуда не произошло. Другим потрясением для Таси был отъезд отца в Москву к любимой женщине, его смерть после нервного, жесточайшего объяснения с матерью. Тася, конечно, была на стороне матери, но все-таки не презирала женщину, которую любил отец. Мать не пришла на похороны, зная, что там будет женщина-разлучница, а Тася не отходила от гроба, зареванная, при прощании обняла отца и поцеловала в лоб. Даже пошла на поминки к этой женщине. Мать узнала об этом и рассердилась на Тасю, даже назвала ее предательницей. Тася удивилась: «Но это же мой отец, я гордилась им, и как я могла не попрощаться с ним? Ты пойми меня, мама! Наш отец – красавец, он мог быть артистом, он был светом и примером в моей жизни». – «Примерчик!» – зло сжала зубы Евгения Викторовна и косо посмотрела на дочь. Потом она уехала с детьми в Харьков, и в суматохе Гражданской войны они даже не обменялись адресами. Тася обязательно бы написала маме, но та через сестру в Киеве не связалась с дочерью. Саратовская ветвь семьи Лаппа рухнула при первой же сильной непогоде.
Семья Булгаковых была более дружна. А эксцентричный, всесторонне талантливый Михаил стал смыслом жизни Таси. Она готова была ему прощать даже то, что ранило ее сердце, наверное, потому, что больше любят тех, кто невольно обижает тебя, ранит твою душу. И Тася не дала ни одному конфликту разрастись, делала вид, что ничего особенного не происходит. Но сегодня, после того как миновал кризис, она сердцем почувствовала, что Миша любит ее, не так безудержно, как в юношеские годы, а серьезно, даже божественно, он понял, что она значит в его жизни, и назвал ангелом. Только одного не ощутила Тася – говорит-то это искренне, но с некоторой долей иронии, свойственной ему. Он называл ее ангелом и в другие дни. Она не противилась столь высокому званию. Она спасла от гибели мужа, была им любима и поэтому счастлива. Она даже придумала, как помочь ему в литературной работе, которая постепенно, но верно овладевала всеми его помыслами, всем существом. Тася вдруг вспомнила, что литература в какой-то мере помогла им обоим, когда она получила известие от Саши Гдешинского, что Миша настолько страдает в разлуке с любимой, что готов застрелиться. Ведь письма Мише, полные чувств и нежности, она писала, выбирая слова, а иногда и целые фразы, из любовных рассказов и повестей. Тогда у нее, гимназистки, конечно, не хватало собственного опыта в любовной переписке, и честно говоря, она не была еще столь увлечена им, как он ею. Она должна была спасти юношу, и спасла, может быть, будущего великого писателя. А то, что он будет сильным литератором, она вскоре почувствует по нападкам завистников на первые же его произведения, уже в советской прессе.
Последняя кризисная ночь прошла в бесконечных страданиях Михаила. Он бредил, называя неизвестные Тасе имена, требовал, чтобы его отправили в Париж. Она поправляла ему подушку – он кричал: «Жарко!», измял простыню, называя ее пустыней с раскаленным песком. Градусник опять зашкаливало. Тася, предупрежденная врачом, знала, что надо перетерпеть приступ, возможно последний. Так и случилось. К утру температура упала, жар прошел. Миша спал, но лицо его было настолько бледно-серым и тело безжизненным, что Тася едва не бросилась за врачом, но, с трудом найдя пульс у Миши, немного успокоилась. Она обхватила его голову, поцеловала в губы. Миша открыл глаза, удивленно огляделся и снова закрыл их. Что-то хотел сказать, но не было сил. Слабость измученного болезнью организма проявлялась в том, что он объяснялся с Тасей только ей понятными знаками. Она принесла ему воды. У него не хватило сил приподняться. Пришлось поить его, выжимая ему в рот воду из чистой намоченной тряпочки. Он благодарно посмотрел на Тасю, и вдруг она почувствовала, что немеет ее тело, сон сковывает сознание и через минуту-другую она не выдержит, уснет тоже, а надо было идти на рынок. Купить Мише продукты, фрукты, поддержать его ослабевший до предела организм. Тася подошла к шкафу и достала из шкатулки золотую цепь – свадебный подарок родителей, хотела надеть цепь на шею, чтобы напоследок полюбоваться ею, но раздумала.
Ювелир долго рассматривал редкое по размерам и исполнению произведение искусства.
– Очень красивая цепь! – причмокнул он губами. – Ею можно дважды обвить вашу шейку.
– Можно было, – кивнула Тася.
– Вы продаете ее? – загорелись глаза ювелира. – Но я не могут дать вам за нее подходящую цену. Столько было уезжающих за границу… Столько украшений везли люди… Просили за золото и бриллианты деньги, чтобы переправиться в Тифлис. А цепь – изумительная. Что же делать? Вы знаете, что красные уже в городе?
– Слышала выстрелы…
– В конце Александровского проспекта кто-то до сих пор строчит из пулемета. Я не успел бежать… Наверное, сглупил. Не знаю, что будет при большевиках. Жена говорит, что они в первую очередь ликвидируют частную собственность, реквизируют у меня украшения, добытые годами, и закроют мою лавчонку. А как вы думаете?
– Я хочу продать вам свою золотую цепь.
Ювелир, любуясь цепью, перебирал ее руками.
– Изумительная вещица. Ее обязательно заберут красные. В первую очередь. Какой дурак, да еще нахал и с ружьем в руках, откажется от такой прелестной вещицы, – сказал ювелир и прищурил глаза. – Боюсь, что не смогу приобрести ее у вас.
Тася вздрогнула. Ей были необходимы деньги. Ювелир почувствовал это и опять причмокнул губами:
– Жаль портить такое произведение искусства. Я… в нынешних условиях могу купить у вас эту цепь только как золотой лом.
– Что? При чем здесь лом? – не поняла Тася.
– Я переплавлю цепь в слитки золота. Увы, другого выхода у меня нет, барышня. Соглашайтесь, пока не передумал.
Тася покачала головой:
– Это память родителей. Снимите несколько звеньев и делайте с ними что хотите, а всю цепь я решила не продавать.
Ювелир скорчил недовольную гримасу. Он очень хотел заполучить эту вещицу и знал путь, по которому мог переправить ее в Стамбул, но отступать было поздно.
– Ладно, – согласился он, – сделаем, как вы просите.
Он вышел в соседнюю комнату, и Тася услышала неприятный режущий звук ручного станка.
– Смотрите, – показал ей ювелир цепь, – мастерская работа. Даже незаметно, что в вашей цепи не хватает звеньев. Никогда не видел таких крупных цепей. Пожалуй, я выплавлю из вашего золота два обручальных кольца. Вы не знаете, большевики женятся? Им нужны обручальные кольца? Неужели они поломают эту вековую русскую традицию – обмен кольцами между женихом и невестой?
Тася ничего не ответила ювелиру, который с сожалением отсчитывал ей деньги:
– В другие времена я заплатил бы вам значительно больше. Извините, барышня. Заходите еще! И вы придете, я знаю.
Тася уже не слышала его, спеша на рынок.
Миша выздоравливал медленно. Заново учился ходить, как маленький ребенок. Стали выбираться в город. Грелись под солнышком на скамейке Александровского парка. Однажды пошли гулять в красивый местный парк, который назывался Треком, так как там была оборудована круговая дорожка для велосипедистов. Вдруг раздался крик: «Смотрите! Идет белый офицер!» Тася и Миша перепугались не на шутку. Свернули в сторону от центральной аллеи.
– Я не побегу, – сказал он, – нету си. И будет очень обидно, если не успею написать хотя бы то, что задумал.
Страх в их сердцах постепенно растворился. Никто не поддержал кричавшего. В парке гуляла в основном респектабельная публика, и не исключено, что в ней были другие бывшие офицеры и им сочувствующие. Несмотря на массовое бегство перед приходом красных, в городе осталось немало интеллигенции, в том числе осетинской. Тася запомнила белого офицера, который носился по центру города, волоча за собою уставшего фотографа и заставляя фотографировать его у памятных мест: у памятника Александру I, у входа в Трек, внутри парка, у скульптур, у здания военного училища, у кинотеатра «Гигант», у театра, на берегу ревущего Терека… Видимо, офицер понимал, что уже никогда не вернется сюда, и хотел захватить с собою часть родины хотя бы в фотографиях.
Тася и Миша вернулись домой взволнованные, думая о том, что случай, произошедший на Треке, может повториться.
– Нужно уметь подавлять в себе вспышку страха, преодолевать себя, – неожиданно сказал Миша.
– Но не скажется ли эта постоянная борьба с собою, со своими слабостями и страстями на здоровье? – спросила Тася.
– Скажется, – ответил Михаил. – В трудных, экстремальных ситуациях во мне возникает бурная энергия. Однажды после напряженного труда меня покинули силы, и я плюхнулся в кровать. Организм требовал сна и покоя для своего восстановления. Думаю, что и эти выбросы энергии не пройдут бесследно для организма.
Тася промолчала, вспоминая, сколько страхов и переживаний натерпелась в своей еще совсем короткой жизни.
– Но думать об этом – малодушие, – сказал Михаил, словно прочитал ее мысли.
У Таси созревал план, как помочь Мише после выздоровления. «Врачом он работать больше не хочет. Значит, литература… Она, наверное, и есть его истинное призвание…» – подумала Тася.
Когда-то в Никольском спасенная им от смерти девочка подарила ему длинное снежно-белое полотенце с безыскусно вышитым красным петухом. И много лет оно висело у него в спальне и странствовало с ним. Во Владикавказе Тася хотела продать его или обменять на продукты, но Миша запретил: «Отнеси другое полотенце, а это оставь». Может, он напишет рассказ об истории с этой девушкой и ее полотенцем, необходимым ему для деталей произведения. Золотая цепь в тысячу крат дороже этой поделки, но Тася не задумываясь пожертвовала золотом, когда это потребовалось Мише. Вероятно, дешевые по общепринятым меркам вещи могут иметь для кого-то большую ценность. Золотая цепь канет в частной жизни, а литературное произведение может служить людям века. Возможно, этим определяются некоторые ценности?
Тася научилась размышлять о том, о чем раньше не думала. И сейчас все помыслы ее были связаны с дальнейшей судьбой Миши. И она решила познакомиться со знаменитым писателем Юрием Львовичем Слезкиным. Они по нескольку раз в день встречались на Александровском проспекте. Встречались и раньше в редакции «Кавказа». Он, конечно, мог забыть Тасю, но она так мило и приветливо улыбалась ему, что однажды он остановился.
– Мы где-то встречались? – кокетливо заметил он.
– В «Кавказе». Я жена Михаила Афанасьевича Булгакова.
– Помню его. Белый офицер, но с литературными способностями, – заметил Слезкин. – Неужели он здесь остался?
– Его свалил возвратный тиф как раз во время отступления Белой армии. Он еле выжил.
– Я навещу его, – сказал Юрий Львович, доставая из кармана курительную трубку. – Смелый человек. Хотя журналисты – люди в общей массе зависимые, слабохарактерные и, я сказал бы, немужественные, а ваш супруг писал о положении в Совдепии едва ли не до последнего номера «Кавказа». Я и то, предчувствуя приход красных, опубликовал либеральную статью о новой России. Вы, конечно, знаете мою жену! – с гордостью произнес Слезкин. – Она в положении. Я не мог уехать и обрекать ее на неизвестность и лишения. А мужа вашего я навещу. Обязательно. Адрес возьму у кого-нибудь из бывшей редакции.
И Слезкин сдержал слово, хотя сам недавно переболел тифом. В своем дневнике он позднее вспоминал об этом: «По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паратифом. Тогда, еще едва держась на ногах, пошел к нему, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее. Белые ушли – организовали ревком, мне поручили заведование Подотделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве зав. литературной секцией. Это у него написано в «Записках на манжетах».
Обращаясь за помощью именно к Слезкину, Тася не очень-то обращала внимание на перемены в его творчестве. А между тем герой его одноактной пьесы «Пламя», шедшей в Москве, в Незлобинском театре, революционер Джуето Гамба, восклицал: «Народ! Слышишь, Народ! Ты свободен! Герцог убит! Месть свершилась! Пламя охватило землю! Ты свободен, Народ!» Тася понятия не имела об этой пьесе. Смущало, что должность ему дали большевики. Впрочем, по своего рода заслугам – он не ушел с Белой армией и еще до революции был известнейшим писателем. Город находился в руках большевиков, но еще с афишных столбов не были сдернуты старые объявления: «Продается хорошее офицерское седло желтой кожи. Справиться: Воронцовская, 5, квартира генерала Бек-Бузарова» или «Открыт оптовый коньячный склад исключительно фирмы Сараджева, марки О. С. и четыре звезды старого разлива».
Юрий Львович Слезкин внимательно вглядывался в признаки новой жизни, читал некоего Беридзе: «Мостовые, бульвар, тротуары как в истерике бьются толпой, в домах зажигают пожары электрически быстрой волной. Среди площади Кино-парма собирает желающих всех, однотонная прежде казарма тоже верит в улыбку и смех. На столбах «Коммунист» и летучки о собрании в девять часов, где не терпят неявной отлучки, дорожат большинством голосов. Грузовик ускоряет колеса, мотоциклы летят и свистят, в голове неотступность вопроса, в сердце бьется динамо-снаряд. Исполкомы, Чека и совдепы пляшут в небе пунцовым огнем, красным флагом собранья одеты, люди заняты ночью и днем». Но более всего Слезкина заинтересовали строчки глубокого и проницательного коллеги Георгия Евангулова: «Из города, взятого советскими войсками, стали прибывать беженцы. На вокзале толпы народа осаждали кассы. Поезда уходили переполненными. После взятия города большевиками отряды коммунистов, вооруженные до зубов, рассыпались по городу для охраны домов, живо сформировывая летучие лазареты».
Юрий Львович понял, что пришла новая власть, и надолго. Он, навестив Булгаковых, успокаивал супругов тем, что однажды, пока болел Миша, в городе была очередная смута. Работники ревкома вышли из помещения, где выступали, и были поражены, встретив начальника полиции, который для безопасности пришел проводить их домой. «Люди есть люди, – сказал Юрий Львович Тасе, – среди них встречаются всякие, но, в общем, их не надо бояться. В новую газету «Коммунист» мы, конечно, работать не пойдем, нам не простят, что мы печатались в «Кавказе», а в Подотдел искусств податься можно, там требуются знающие культуру и искусство люди».
«Коммунист» в статье «Полинявший генерал» сообщил о том, что Антон Иванович Деникин слезно умоляет Турцию и Азербайджан пропустить его войска через их границы. Это известие окончательно убедило Слезкина, что всю свою дальнейшую судьбу ему придется связать с советской властью. Он романтически любил жену, боготворил ее, поехал за ней во Владикавказ (а не прибыл туда с красными войсками, как утверждают булгаковеды), посвятил ей рассказ «Ситцевые колокольчики». Тася даже мысленно позавидовала его супруге Людмиле Башкиной: «Красивая женщина. Талантливая актриса. И самое главное – обожаема мужем». Решение остаться во Владикавказе Слезкин принял бесповоротно, хотя как блестящий писатель терял многое – популярность в России, знание коллизий жизни, которые мог описывать с прежним блеском. Новую жизнь он не знал, только опасливо приглядывался к ней и понимал, что шутки с нею, тем более противостояние ей могут закончиться для него и жены трагически. Ведь она тоже играла для белых и собирала пожертвования для Доброволии. Он скрывал от жены метания в своей душе, выплескивал их в строчках: «Тут на балкончике под лягушачий трезвон до утра просидеть можно. Лягушки, они, подлецы, как-то по-особенному самозабвенно поют, захлебываются от счастья. Соловьи так не умеют, красуются, донжуаны этакие, а лягушки всей душой, всем существом отдаются любви… Черт их знает, откуда у таких поганых существ безграничная страсть такая. Это – от Бога. Я-то вот, должно быть, и обижен этим – потому-то у меня все как-то криво и косо и никому не на радость сердечные мои истории. Случается же такое, что нерушимо – кончилось, быльем поросло, ветром следы занесло, а вот в один день – все снова, точно по волшебству, на старом месте, а опять дивуются глаза, бьется сердце, в душе кавардак, ничего не понимаешь, и спокойствие, так радовавшее только что, проваливается куда-то, и не знаешь – плакать тебе или смеяться».
Тася, конечно, в то время не знала об этих откровениях писателя, известнейшего до революции. Он состоял в родстве с Дмитрием Веневитиновым, Львом Толстым. Его роман «Ольга Орг» был переиздан более десяти раз, инсценирован в кинематографе, переведен за границей. Главная героиня так говорит о себе: «…У меня не было никаких идей, никакого желания работать… Я была как большинство из нас… Мы ничего не умеем… Нас балуют с детства, потом пошлют в гимназию, чтобы мы получили диплом и были как все… Мы не знаем, что с собою делать. Потом нас выкидывают на улицу или стараются выдать замуж… И вот у меня нет дороги, никогда не было…» Тася читала этот роман еще до замужества с Мишей и думала, что он написан о ней. Она мечтала о человеке, который поможет ей найти свою дорогу в жизни, и таким ей показался Булгаков – деятельный и неравнодушный, любящий ее, и настолько, что готов ради нее пойти на край света. Тасе хорошо было рядом с ним, и она забыла о мечте найти свое дело и место в жизни, считая, что заниматься семейными и хозяйственными делами – это и есть ее забота, ее призвание. Она забыла тревоги и разочарования в судьбе Ольги Орг и своей. Гражданская война захватила ее потоком неурядиц, забот, переживаний. Будущее виделось расплывчатым и неопределенным, она думала о том, как прожить следующий день, чем кормиться, и никогда даже не подозревала, что подаренное на свадьбу родителями кольцо спасет их молодую семью от голода.
Встретившись со Слезкиным, она сразу почувствовала его расположение к себе, сочувствие, возможно, такое же, как и к героине повести «Ольга Орг». Он пошел к больному Михаилу, обрисовал ему картину происходящей жизни намного лучше, чем она была на самом деле.
Время берет свое, отнимает силы, разъедает и путает память. Не будем винить Татьяну Николаевну в том, что она забыла, как привела Слезкина к больному Мише, что она просила маститого писателя помочь начинающему литератору. Миша сказал ей, что врачом он больше не будет, будет писать. «Потом, – вспоминает Татьяна Николаевна, – столько раз пилил за то, что я не увезла его с белыми: «Ну как ты не могла меня увезти?» Я говорю: «Интересно, как я могла тебя увезти, когда у тебя температура сорок, и ты почти без сознания, бредишь, а я повезу тебя на арбе. Чтобы похоронить по дороге?» Тасе было обидно и горько до спазм в горле, что он не понял, какие сомнения мучили ее тогда, что она спасла ему жизнь. Она не ожидала услышать от него за это нежное слово, но удивилась и упрекам. Потом она подумала, что люди в отдельные экстремальные моменты не могут реально оценить обстановку, сделанное им добро и иногда даже мстят за него, считая, что добро совершено им во вред. Поэтому, возможно, вспоминая Владикавказ, она не говорила, что привела к больному Мише Слезкина (об этом он пишет в дневнике) и просила помочь Мише, а вскользь упоминает: «Ну, Михаил решил пойти устроиться на работу. Пошел в Подотдел искусств, где Слезкин заведовал. То ли по объявлению он туда пошел, то ли еще как… (намек на свою помощь. – B. C.). Вот тут они и познакомились (или отказала память, или выдумано умышленно. – B. C.). Михаил сказал, что он профессиональный журналист и его взяли на работу заведующим литературной секцией… Миша занимался организационной работой, знаю, что он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо. Прекрасно говорил. Это я не потому, что… Это другие так отзывались». Увы, отзывы о его лекциях были разные, и в прессе в основном плохие. Об этом мы расскажем чуть позже, а сейчас продолжим воспоминания Татьяны Николаевны: «Денег не платили. Рассказывали, кто приезжал, что в Москве есть было нечего, а здесь при белых было все что угодно. Булгаков получал жалованье, и все было хорошо, мы ничего не продавали. При красных, конечно, не так стало».
Здесь я как автор книги позволю себе напомнить статью Булгакова еще в предреволюционной «Кавказской газете», где он предрекал, что настоящий голод наступит тогда, когда люди начнут выискивать еду в выгребных ямах, замененных, спустя восемь десятков лет, специальными контейнерами.
Кстати, голод и нарушение экономики одна из черт тоталитарного режима, зарождавшегося сразу после революции.
И вновь обратимся к воспоминаниям Татьяны Николаевны: «И денег не платили совсем. Ни копейки. Вот спички дадут, растительное масло и огурцы соленые. Но на базаре и мясо, и мука, и дрова были… Потом месяца два-три прошло – дом генерала Гаврилова, который с супругой приютил нас, под детский дом взяли, а нам дали комнату на Слепцовской улице, около театра (Слепцовская ул., д. 9, кв. 2)… А я стала работать в уголовном розыске. Надо было письма записывать. Я там все перепутала. «Когда же вы научитесь?» Потом Слезкин узнал, говорит Михаилу: «А что? Давай ее в театр!»
Вероятно, Юрий Львович добавил к характеристике Таси другие слова о том, что красивые, эмоциональные женщины всегда нужны театру, тем более молодые. Булгаков согласился.
Татьяна Николаевна: «Предложили мне работать статисткой. Все время надо было в театре торчать. С утра репетиции, вечером спектакли. А потом уже так привыкла, что не могла уже жить без театра. Уроки танцев брала у Деляр, там такая была. Раз надо было на сцене «барыню» станцевать – я так волновалась! Но станцевала. В афишах у меня был псевдоним Михайлова».
За этими скупыми на радость словами стоит, по всей вероятности, один из самых счастливых периодов в жизни Таси. Впервые она занялась творчеством, интересным ей и людям. И Михаил по-иному взглянул на свою супругу. Пусть статистка, пусть не профессиональная танцовщица, а лихо сплясала «барыню». Зрители вызывали ее на бис, как настоящую актрису. Михаил, стоя за кулисами, сиял от радости. Но, увы, тон его настроения вскоре изменился. 19 января 1921 года он пишет двоюродному брату Константину: «Судьба – насмешница. Я живу в скверной комнате… Жил в хорошей, имел письменный стол, теперь не имею и пишу при керосиновой лампе… Как одет, что ем… не стоит писать… Тася служила на сцене выходной актрисой. Сейчас их труппу расформировали, и она без дела…» Но видимо, Михаил не почувствовал, какой опыт борьбы за существование получила его жена, сколько мук и унижений претерпела на этом пути, чтобы легко расстаться с делом, пусть не великим, но животворным для нее. Через несколько месяцев, в апреле 1921 года, Миша пишет в Москву сестре Надежде, именно ей, зная, что они близки по мировоззрению: «Тася со мной. Она служит на выходах в 1-м Советском владикавказском театре. Учится балету. Ей писать так: Владикавказ, Подотдел искусств. Артистке Т. Н. Булгаковой-Михайловой».
Миша никогда и никому не объяснял происхождение ее псевдонима, даже сам, возможно, не задумывался об этом. Михайлова – это в честь его имени, в честь ее любви к нему и верности. Михайлова более театрально звучит, чем Мишина, что слишком примитивно и откровенно. «Я люблю его, – не скрывала Тася, – вы еще узнаете, кто есть и кем еще будет Михаил Афанасьевич Булгаков».
Глава седьмая
Расставание с Кавказом
Михаил Булгаков неоднократно высказывался за отъезд из города, где его более всего мучила творческая неудовлетворенность. В феврале он пишет брату Константину: «Жизнь – мое страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на четыре года с тем, что я должен был давно начать делать – писать. В театре орали «Автора!» и хлопали, хлопали… Когда меня вызывали после 2-го акта, я выходил со смутным чувством… Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: «А ведь это моя мечта исполнилась… Но как уродливо: вместо московской сцены – провинциальная, вместо драмы об Алеше, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь».
Мысль о переезде в Москву не покидает Михаила. Еще в мае 1921 года он просит сестру Веру: «В случае появления в Москве Таси не откажи в родственном приеме и совете на первое время по устройству ее дел». У Михаила давно зреет мысль – послать в Москву первой Тасю, чтобы она разузнала – можно ли там жить, хоть как-то прокормиться, есть ли там перспективы для его работы, он посылает ее как опытную и смелую разведчицу, которой можно доверить одно из самых главных и ответственных поручений. И поездка Таси в Москву состоится, но расставание с Кавказом затянется на долгие месяцы, наполненные непростыми событиями, поскольку революционное буйство на берегах Терека не остановится ни на мгновение, как бег самого Терека – одной из самых быстрых в мире рек.
Многих интересных людей перевидали владикавказские улицы. В 1910 году по ним спешил в типографию Казарова (Казаряна) молодой Сергей Костриков, работавший там сначала корректором, а потом редактором в либеральной газете «Терек». В августе 1912 года его арестовывают и этапом переправляют в город Томск, где в окружном суде слушалось дело о революционной подпольной типографии, но главный свидетель обвинения – полицейский пристав – на суде не узнал обвиняемого, и Костриков был оправдан.
Я сижу в гостеприимной семье бывшего владельца владикавказской газеты «Терек» Казарова. Его дочь, Сусанна, пожилая женщина с благородным лицом, рассказывает мне, что отец послал Кострикову в Томск деньги на обратную дорогу и на жизнь в Москве, где бы он мог познакомиться с работой лучших московских журналистов. Возвратившись во Владикавказ, Костриков начинает подписывать свои статьи литературным псевдонимом Киров, который впоследствии становится его партийным именем. Он женится на дочке известного владикавказского ревкомовца Маркуса – Лии, работавшей кассиршей в типографии. Многие девушки завидовали этому браку, считая, что молодоженов связывают только революционные интересы. Это не так. Лия была симпатичной, обаятельной женщиной, очень простой и общительной. Михаил не был знаком с Кировым, только видел его в театре на выступлении перед армянской общиной города, когда отменили булгаковский спектакль. Говорил Киров просто и понятно, его добродушное лицо внушало доверие слушателям. А Тася познакомилась с не пропускавшей там ни одной премьеры Лией в театре. Лия зачастила в театр, когда во Владикавказ приехали Сталин и Орджоникидзе на открытие Съезда народов Терека, где была провозглашена Горская Автономная Республика.
– Сергей приходит домой очень поздно, – сказала Лия Тасе, – он пишет доклад Сталину.
Тася изменилась в лице:
– Мой отец сам писал доклады, отчеты. Странный нарком национальностей Сталин, очень странный, если не может сам написать доклад и полагает возможным читать по существу чужой, да еще на таком собрании, как Съезд народов Терека… Читать написанное другим человеком как свое и при этом смотреть в глаза людям – я не понимаю этого!
– А все очень просто, – улыбнулась Лия, – Сталин будет читать доклад, не отрываясь от бумажки, некогда будет посмотреть в чьи-то глаза.
– Но как к этому относится ваш муж? – спросила Тася.
Лия замялась, покраснела и тихо произнесла:
– Это у них называется партийной дисциплиной. Один товарищ помогает другому. Тем более что Сережа опытный журналист, находясь в заключении, он даже начал писать повесть о любви. А Сталин учился лишь в грузинской духовной семинарии, путает Гоголя с Гегелем. Вчера вызывал местное начальство, говорили и о твоем муже.
– О моем?! – поразилась Тася. – С какой стати?!
– Разговор возник случайно, – поспешила успокоить ее Лия. – Сталин заметил, что плохо закрашены выбоины на потолке, и спросил, откуда они появились. Ему объяснили, что во время спектакля «Сыновья муллы» восторженные ингуши стали стрелять в потолок. «Что это за пьеса? – с резким акцентом поинтересовался Сталин. – Кто написал и поставил?» Ему ответили, что местный драматург Михаил Булгаков. «Покажите мне этого Булгакова! – распорядился Сталин, но потом вдруг раздумал: – Наверное, из белых?» Ему это подтвердили. «Я так и думал, – брезгливо заметил Сталин. – Они могут взбаламутить зал. Впрочем, как и Троцкий. Сколько заплатили этому Булгакову?» – «В туземном отделе наробраза вместе с соавтором за эту пьесу дали двести тысяч рублей». – «Могут выжить, – вздохнул Сталин и начал что-то записывать в блокноте, потом закрыл его и сказал: – Булгаков! Булгаков! Надо запомнить эту фамилию. Ты чего хмуришься, Серго? Тебе не нравится, что Сергей Миронович помогает мне писать доклад для съезда? Мы делаем общее пролетарское дело! Перестань киснуть, Серго. Хочешь, назовем твоим именем улицу, санаторий? А захочешь – целый город! К примеру, Владикавказ!» Серго Орджоникидзе наморщил лоб: «Не рановато ли, Иосиф? Я еще живой. Ведь улицы и города называют именами известных людей после их смерти». – «Ну и что? – усмехнулся Сталин. – Куда нам спешить? Поживи еще! Ведь мы друзья с тобою, Серго? Правда? Ты многое обо мне знаешь. Слишком многое. И мне не нравится, когда ты хмуришься. Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблем. Кроме одной – какие улицы и города назвать его именем. Кстати, Сергей Миронович, ты где родился?» – «В Вятской губернии. В Уржуме». – «В самой Вятке никогда не бывал? Пустяки. Назовем Вятку твоим именем. Не удивляйся. Я таким образом шучу, – криво улыбнулся Сталин и вдруг, глядя в потолок, вспомнил твоего мужа, Тася: «Надо же довести людей до такого энтузиазма. Какой-то пьесой. Кто такой Булгаков? Что такое Булгаков? Надо во Владикавказ направить с лекциями настоящего пролетарского писателя!» – мотнул головой Сталин, словно освобождался от севшей на лицо мухи, и снова что-то записал в блокноте.
Больше Лия ничего не могла рассказать Тасе об этом разговоре.
– Сергей настолько занят, что и это еле выдавил из себя. Он обычно делится со мною своими делами.
– А мой Миша все реже и реже, – погрустнела Тася, – работает днем и ночью. Я спрашиваю: «Что пишешь?», а он нервно, чтобы отделаться от меня, пробурчал: «Работаю над романом «Белая гвардия». Пересказывать длинно».
Тася медленно шла из театра к себе на Слепцовскую улицу, размышляя, передавать ли Мише услышанное от Лии. «Незачем ему лишние волнения, – подумала она, – особенно перед серьезным испытанием, которое предстоит Мише в скором времени». Главный редактор «Коммуниста» Георгий Андреевич Астахов подбивал молодых авторов из цеха поэтов на литературный бой против Пушкина, Чехова, Гоголя, отражающих старый строй жизни, вредный и не нужный пролетариату. Уже пришло угрожающее, как вызов на дуэль, письмо Михаилу. Пришло утром, когда, обагренные солнцем, вспыхивают вершины гор, розовеют, выходя из-за высот, и, наступая на ночные тени, растворяют их, обволакивая город солнечным светом, но еще не наступила жара, еще дышится сравнительно легко и не растоплены от зноя воздух и сознание.
Михаил проснулся от увиденного сна:
– Знаешь, Тася, я уверен, что Покровский приехал сюда сознательно, не под тем предлогом, который выглядит не более чем нелепой версией, – продать большевикам типографию, причем чужую. И разъезжать открыто по городу среди бела дня, кланяться знакомым… Ты только видела бы, Тася, как он удирал от белых на редакционном автомобиле, как сам выстукивал на машинке удостоверение, что он итальянский офицер… А здесь… Встречаясь со мною, подводить меня под подозрение, на виду у всех вызывать из цирка… Когда и так… Мне думается, что он приехал за мною. Покровские, в том числе моя мама, очень упорные в достижении цели и настойчивые люди…
Тася высказала свое предположение:
– Говорят, что Покровский влюблен в актрису Ланскую, обещал увезти ее из Владикавказа, но обманул. Может, сейчас, чувствуя свою вину и любя Ланскую, очертя голову ринулся за нею во Владикавказ, а продажа ревкому типографии – повод для легального появления в городе.
– А зачем он преследует меня? Ведь наверняка скоро вернется туда, откуда прибыл. Ланская, может, и поедет с ним. А я… Мне не только бежать, даже отказываться от литературного диспута с этим цехом, штампующим полуграмотные стихи о революции, неудобно и стыдно. Моментами я им сочувствую. Они хотят, и довольно искренне, выразить свою преданность революции, но делают это с массой грамматических ошибок и бесталанно. Я ценю их наивность, одержимость… Но порою мне кажется, что, пользуясь победой революции, они хотят столкнуть с пьедесталов действительно великих писателей, чтобы занять их место. Таланта, чтобы приблизиться к великим, у них нет. Значит, поможет физическая сила. Они уповают на свое пролетарское происхождение, считая, что благодаря ему можно стать великими писателями, учеными, художниками… Меня поражает эта даже не наивность, а глупость.
– В этом все-таки есть что-то забавное, – сказала Тася, – пусть лучше пишут белиберду, чем глушат араку и выражают себя в пьяных потасовках. Я не права, Миша?
– Говоришь резонно, – согласился Михаил, – но они все-таки фанатично верят, что трудятся в цехе, который приведет их к литературной славе, что они придут на смену Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Фету… Я показывал молодым поэтам неплохие стихи о революции их земляка Сергея Городецкого. Они воротили от этих стихов носы, чувствуя в его профессиональных опусах влияние грамотных и культурных творцов из рода «угнетателей народных масс». Я им привел и другие строчки из Городецкого, очень образные, об их же городе: «Вид горной цепи висит у меня перед взором и дразнит», а они свое: «Здесь нет оценки свержения самодержавия, победы нового строя». Редко, но приносят весьма недурные, трогательные стихи. Хаджи-Мурат Мугуев написал о товарище – гимназисте Диме Петрове, которого повесили у вокзала среди других бунтарей. Он был веселым парнем, со светлыми мыслями, его голубые глаза смотрели на мир еще по-детски, и революция вызвала отклик в его сердце. А в том месте, где Хаджи описывал переживания матери Димы, у меня даже подступил комок к горлу. А вот стихи, которые принесли мне к пятидесятилетию Ленина… Их читать было страшно. Автор заметил это и достал из кобуры револьвер, мол, печатай, или пойдешь в расход. Вот эти «стихи»: «Огнями яркими зажглась уже Земля, и вдоль и поперек прошли ее пожары. Уж близок день, когда в огне свободы рассыплются, как прах, ночные тени – тогда к дверям Московского Кремля, к Тебе, чьей мыслию разбиты злые чары, к Тебе, вождю, прибудут все народы, и головы склонят, и станут на колени!» Черт знает что такое. Автор вертел в руках револьвер, но я сказал, что над стихами надо еще работать, и не рекомендовал их к печати. Может, поэтому меня перевели из литературной секции в театральную…
– После своих пьес, рассказов и лекций ты стал уже вполне известным писателем в культурных кругах города, – сказала Тася и протянула ему письмо: «Цех пролетарских поэтов приглашает вас записаться оппонентом на прения о творчестве Пушкина. Несогласие Ваше цехом поэтов будет сочтено за отсутствие гражданского мужества, о чем будет объявлено на вечере».
Михаил иронически улыбается:
– Они знают, что я буду защищать Пушкина… Им неясно, о чем я думаю, чем начинена моя голова: пролетарскими или буржуазными мозгами. Они хотят, чтобы я раскрылся перед ними. Они не верят, что я искренне писал «Парижских коммунаров» или «Сыновей муллы», чуют во мне белого офицера и контрреволюционного писателя, но на диспуте о Пушкине надеются прояснить свои сомнения. Поставить точки над «i». «Буржуй – всегда буржуй» – главный тезис Астахова, и он хочет лишний раз доказать это.
– Я была на его лекции о Достоевском и Чехове. Стер с лица земли… – возмущенно вымолвила Тася.
Михаил засмеялся:
– Это невозможно. Писателя можно обругать, даже уничтожить, но написанное им – вечно, его творения изрежут на куски или спалят в одном месте – они проявятся в другом. Плохого писателя просто забудут потомки, он самоуничтожится. А Достоевский, Чехов, Пушкин… Кто для них какой-то Астахов, даже тысячи Астаховых…
– Ты не будешь выступать? – испуганно заметила Тася.
– Я буду защищать себя, русскую культуру – в первую очередь.
– Вторым оппонентом назван Борис Ричардович, – заметила Тася.
– Я так и думал, – улыбнулся Михаил, – выбрали, наверное, с их точки зрения, самых эрудированных и опасных для революции людей в городе. В авоське Беме, которую он таскает на судебные заседания, легко проглядываются и Пушкин, и Бунин, и Мережковский, и Надсон, и Северянин… К тому же в дореволюционных изданиях. На диспут о Пушкине я пойду, а вот на встречу с Серафимовичем, присланным из Москвы специально для встречи с местными поэтами, извини, не отважусь. Лучше еще раз перечитаю Пушкина. Я не завидую борцу Темир-Хан-Шуре. Он физически очень силен и искусен в борьбе. Хотя сильные люди нравятся любой власти. В повестях Гоголя заложена такая сила, которая переживет десятки и сотни силачей. С виду субтильный человек, Гоголь вложил в свои произведения столько энергии, ума и литературного мастерства, что, надеюсь, он вообще не исчезнет с земли. Люди вечно будут смеяться, грустить и сопереживать его героям. Вот Гоголю, глядя на томики его сочинений, я завидую белой завистью и восторгаюсь им. А ты пойдешь слушать Серафимовича?
– Как твой «агент», – загадочно произнесла Тася, – тем более важно узнать настроение и планы поэтов перед диспутом с тобой. Впрочем, они тебе в общем ясны.
– Да. Меня интересует сам Серафимович, приближенный к Кремлю писатель. Я не читал его. О чем он пишет? Если мы, Тася, попадем в Москву, то нам предстоит общаться с коллегами, в том числе и с этим писателем, с ему подобными. Чего мы можем ждать от них – помощи или вражды? За несколько последних лет мы пережили столько, сколько раньше хватило бы на многие жизни, поэтому целый поток переживаний и боли вырывается наружу. Иначе быть не может. Послушай Серафимовича, Тася.
Клуб, где должна была состояться встреча со столичной знаменитостью, располагался на втором этаже, над ревкомовской столовой. Со вступительным словом, наполненным елеем, к гостю обратился главный редактор газеты «Коммунист» Астахов, мужчина средних лет, плотный, с пронзительными глазками под мохнатыми бровями. Но Серафимович вскоре его прервал. На Тасю он не произвел впечатления, но и не вызвал у нее отрицательных эмоций, даже понравился, когда прекратил словоблудие Астахова.
– Товарищ Астахов, – сказал он, – я думаю, что сейчас нет смысла определять, кто более или менее «великий пролетарский писатель». Покажет будущее. Может, дадите мне слово?
Серафимович поднялся, стал рядом с кафедрой, держа в руке листочек бумаги, в который, выступая, изредка заглядывал. Говорил не спеша, глухим голосом, о военных действиях в Сибири и Крыму, о мировом значении революции.
Тася ждала, когда он прочитает что-нибудь из своего творчества, ведь читатели приглашались на литературную встречу с ним, но Серафимович вдруг оживился, мимоходом сообщив о том, что добирался из Москвы во Владикавказ две недели, что вокзалы кишат беспризорниками, всюду грязь, свирепствуют эпидемии, но это не остановит железный поток революции.
– А приехал я к вам, – повысил он голос, – чтобы рассказать о своей незабываемой встрече с Владимиром Ильичом Лениным. Он пригласил меня к себе в Кремль, после крепкого рукопожатия поинтересовался: «Честно скажите, с кем вы больше встречаетесь – с интеллигентами или рабочими?» – и, почувствовав мое замешательство, сказал твердо: «Нужно организовывать свою пролетарскую литературу! Старых писателей, готовых работать с нами, осталась горстка. Надо создавать новых писателей из рабочих и крестьян. Постепенно из них вырастут художники литературы, воспитанные на пролетарских принципах, и станут они писать о светлом будущем первого в мире социалистического государства!» – Глаза Серафимовича заблестели. – После встречи с Лениным у меня осталось большое чувство радости и веры в победу и над буржуями, и над их пособниками – нашими литературными врагами! Великий Октябрь предоставил трудовому человеку право на создание своей духовной культуры!
От последних слов лектора Тасю даже передернуло, ей показалось, что такие писатели, как он, обязательно отнесут Мишу к своим литературным врагам, ведь он не пишет о победной поступи революции, о ее вожде. Не этим ли он даже в далеком от Москвы Владикавказе вызывает раздражение рецензентов?
Михаилу Тася рассказала о вечере кратко и так, чтобы не разволновать его:
– Серафимович рассказывал о своей встрече с Лениным в Кремле. Потом сказал, что собирается написать о том, как народы Кавказа совершают революции.
– А вопросы к нему были? – поинтересовался Михаил.
– Что-то не помню. Кажется, были, но неинтересные, – произнесла Тася, зная, что вопрос одного из участников цеха поэтов о том, что слова, которые «использовали всякие Пушкины и Лермонтовы», не подходят им, может перед диспутом расстроить Мишу. Этот вопрос поэта даже поставил в тупик именитого гостя, но он после небольшой паузы напомнил залу слова Ленина о том, что «учиться, учиться и еще учиться надо!», и под бурные аплодисменты отошел от кафедры.
– Миша, ты уже не спишь вторую ночь, не отходишь от письменного стола, – нежно и заботливо вымолвила Тася, – небось устал, но не хочешь признаваться в этом?
– Пойми, Тася, нас двое – я и Беме, а их, с лужеными глотками, к тому же фанатически уверенных в своей правоте, будут десятки. Я действительно иногда устаю, и очень, но усталость моя приятная, особенно если чувствуешь, что задуманное получается.
– А мне кажется, что ты изводишь себя, Миша, не сердись. Настолько увлекаешься, что отказываешься от еды, работаешь за счет сил молодости… А что будет дальше с твоим здоровьем?
– Я об этом не думаю, – улыбнулся Михаил. – Слава богу, жизнь писателя оценивается не ее продолжительностью, а тем, что он создал, насколько затронул души людей. Меня тянет к работе, и я получаю от нее удовольствие. Я готов вразумлять малокультурных людей, неучей от литературы. Это – мое призвание. Диспут отвлекает меня от романа, но, выступив на нем, наверняка почувствую себя увереннее и сильнее, как бы он ни закончился. Я сделаю все, что смогу, и совесть моя будет чиста. Надеюсь, хотя и не очень, что мои оппоненты поймут значение Пушкина для России. На полную победу, признаться, я не рассчитываю, но даже если удастся заронить сомнение в их отрицание русской классики и заставить подумать о том, что им действительно «учиться еще надо», то сочту свое выступление полезным. Уже утро. Ты права, Тася, отдохнуть перед битвой все-таки необходимо. Постараюсь уснуть. И Терек сейчас не орет, а журчит…
«Орать будет Астахов на диспуте», – хотела сказать Тася, но раздумала, увидев, что Михаил засыпает.
Юрий Львович Слезкин сказал Тасе, что Михаил не всегда высказывается по тому или иному вопросу, но это не осторожность, а раздумье, – он еще не все понял, не все решил, а о том, в чем уверен, скажет прямо, без осторожности, например о Пушкине. И кстати, обещал свою первую книжку подарить Юрию Львовичу с подписью: «На память о наших скитаниях и страданиях у Столовой горы». Но сегодня он о них не думает. Он шагает на полметра впереди Таси, и вид у него весьма воинственный. На углу бульвара и площади, выложенной булыжником, Михаил неожиданно останавливается у чистильщика, облюбовавшего здесь местечко. Не оглядываясь вокруг, Булгаков ставит ногу на подножку ящика чистильщика, демонстрируя, с точки зрения членов цеха поэтов, буржуазную привычку белых офицеров – чистить сапоги. Тася удивлена его смелости и одаривает мужа ободряющим взглядом. А он вдруг говорит, что познакомился с изможденной морщинистой старушкой – первой из местных жителей взобравшейся на Казбек. Несмотря на преклонные годы, она каждое лето поднимается туда и говорит, что с каждым сезоном восхождение становится все труднее и труднее и она думает, что если не поднимется в это лето, то умрет. Тася понимает Михаила. Его жизнь – череда сплошных восхождений, и если он не совершит сегодня одно из них, то не сможет осилить следующее. Он, конечно, не читал стихов Эдуарда Багрицкого о Пушкине, но мог бы сказать похоже, будучи на его месте: «Я мстил за Пушкина под Перекопом, я Пушкина через Урал пронес, я с Пушкиным шатался по окопам, покрытый вшами, голоден и бос…» Места разные, разные стороны баррикад, но отношение к великому поэту как к русской святыне у настоящих поэтов одинаковое.
Для Таси этот диспут очень важен. После него, как кому-то ныне может показаться странным, ей казалось, что станет видно, в какую сторону качнется жизнь – в демократическую и культурную или тоталитарную и примитивную. Это еще не было категорически ясно для Таси, а за океаном казалось загадкой за семью печатями. Поэтому руководство американского Стенфордского университета направило в Россию двух своих ученых для выяснения того, что происходит в России. Они встречались с Анатолием Васильевичем Луначарским, и возможно, в дальнейшем именно это сказалось на его судьбе, сначала в нападках на наркома просвещения и его жену – красивую актрису Розенель; нелепое обвинение в том, что по его вине задержался отход поезда Москва – Петроград, затем понижение в должности и отправка послом за границу, где, не добравшись до места назначения, он скончался при невыясненных обстоятельствах. Помимо высказывания личных впечатлений Анатолий Васильевич прочитал американским ученым выдержку из речи Ленина «Задачи Союзов молодежи» на III Всероссийском съезде комсомола 2 октября 1920 года: «Только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру». Многие культуртрегеры, особенно на периферии, «переработку» восприняли даже не как переделку наследия старого, а его полное и бесповоротное уничтожение.
Тася уже слышала, как Астахов расправился с Достоевским, Чеховым и Гоголем, считал нужным даже вычеркнуть их имена из истории, обещал подготовить доклад о Пушкине, потом, для усиления резонанса, перенес его из обычной клубной аудитории на диспут в летний театр, расположенный на Треке.
Несмотря на июльскую жару, зал быстро заполнялся публикой. Помимо кучки молодежи из цеха поэтов пришли воспитанники бывшей женской и мужской гимназий, реального училища, музыканты, актеры, учителя, врачи, адвокаты и люди, не нашедшие себе места при новой власти. Тася ликовала, чувствуя, что это сторонники Миши, а у Астахова при виде валившей в зал публики буквально отвисла челюсть. Он не ожидал, что отношение новой власти к Пушкину, даже в местном масштабе, заинтересует людей, которых он считал недобитой буржуазией и которых странный большевистский начальник Ной Буачидзе тоже относил к народу, как пролетариат и крестьянство.
Тасю обрадовало, что люди были одеты нарядно, шли на диспут, как на праздник, предвкушая, как дико и безнравственно будут выглядеть типы, покушающиеся на великого поэта.
На сцене, именуемой раковиной, шли приготовления к диспуту. Уже был установлен стол, покрытый красным ситцем, справа от него кафедра для выступающих, а слева стояло потрескавшееся кожаное кресло, из дыр которого вылезала посеревшая от времени вата. На кресле был портрет Пушкина, привязанный к спинке кресла толстой грязной веревкой. Тася примостилась на выступе у сцены и слышала недоуменные возгласы Михаила и Бориса Ричардовича.
– Не понимаю, не понимаю! – пробурчал Беме.
– А мне все понятно. Это заранее задуманное издевательство над классиком! – резко произнес Булгаков.
Астахов вывел участников диспута на сцену и, чтобы утихомирить недовольство публики, затряс колокольчик.
– Граждане, товарищи, начинаем вечер-диспут. Как видите, сегодня у нас на скамье подсудимых помещик и камер-юнкер царской России Пушкин Александр Сергеевич…
– Великий поэт! – под одобрительные возгласы из зала выкрикнул Миша, но, не выдержав кощунственного отношения к поэту, растерянно заговорил дрожащим голосом, не теряя основной мысли: – Гражданин председатель! Мы, оппоненты, пришли на диспут, а не издевательство над портретом великого русского поэта… Вы можете нарядить его как пугало, но стихи его не станут хуже ни на йоту! Требуем прекратить это глумление!
К кафедре подошел по-адвокатски обаятельный и рассудительный Беме. Стал рядом с нею.
– Я не на суде, а на диспуте, – начал он твердым, чистым голосом. – Я как адвокат заверяю почтенную публику в том, что человек, убитый почти сто лет назад, вообще неподсуден! Он не нарушал законы строя, при котором жил. Никого не убил! Нет такого закона и статьи, по которой можно обвинить Пушкина! Можно спорить о его гениальном творчестве. Не более… Хотя не допускаю, чтобы культурному умному человеку оно не понравилось. Если кощунство над портретом великого Пушкина не прекратится, то мы с писателем Булгаковым немедленно покинем зал.
И зал взорвался, расколовшись на две стороны. Меньшая, из молодых поэтов и части совработников, стала кричать и свистеть, основная – аплодировать Беме. Тасе казалось, что она хлопает ему больше всех. Михаил сдержанно, но не без удовольствия улыбался уголками губ. Астахов в панике покинул сцену и, видимо, боясь, что сорвется важное агитационное мероприятие, дал указание двум крепким парням унести стул с портретом Пушкина. Зал долго не мог успокоиться, несмотря на трели колокольчика, вновь появившегося в руках ведущего. Наконец зал успокоился. Слово взял Астахов.
Вот как описывает это сам Булгаков в «Записках на манжетах»: «В одну из июньских (июльских. – В. С.) ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед хожу я без боязни», за «камер-юнкерство» и «холопскую стихию вообще», за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами…
Обливаясь потом, в духоте, я сидел на первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей!
– Выступайте оппонентом!
– Не хочется!
– У вас нет гражданского мужества.
– Вот как? Хорошо, я выступлю!
И я выступил, чтоб меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.
…Ложная мудрость мерцает и тлеет. Пред солнцем бессмертным ума…
Говорил Он:
Клевету приемли равнодушно.
Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.
И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики я читал безмолвное, веселое:
«Дожми его! Дожми!»
Потом в местном журнале «Творчество», сохранившемся в музее Владикавказа, вероятно в единственном экземпляре, поскольку я получил его без правой нижней части, изрядно выеденной крысами, писалось, что устроенный цехом пролетарских поэтов диспут о Пушкине вызвал значительный интерес. К сожалению, на двух первых вечерах диспута с основным докладом т. Астахова (снятого за ошибки с редакторства. – B. C.) была обывательская, разряженная толпа, которая привыкла олицетворять в Пушкине свое мещанство, свою милую «золотую середину», свой уют, тихий и сытый, и серенькую, забитую, трусливую мысль. Ей не по нутру были утверждения докладчика, развенчавшего «кумира» Пушкина и его псевдореволюционность».
А Тася была счастлива, что находится вместе с этими людьми, разделяет их чувства. В жизни ее чаще, кроме семей Слезкина, Беме, Пейзуллаева и некоторых артистов театра, действительно окружали закоренелые обыватели, готовые отказаться от своих чувств, мыслей, привязанностей за то, чтобы их не трогали, даже за лишнюю пайку кукурузного хлеба. Старались найти объяснение происходящему в священных книгах: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Но большевики называют религию дурманом для народа, закрывают и рушат церкви, жгут Библии, куда-то исчезают священники, их семьи… Полная неразбериха в головах обывателей. Кому им верить? Только власти. За ней сила. Тася гордится мужем. Он готов к борьбе за Пушкина сейчас, не отступится от него и потом. И на предложение т. Астахова сжечь наследие Пушкина в топке революции и на статью в газете «Коммунист» «Покушение с негодными средствами» скажет свое решительное «нет».
Тася ликует. Диспут развивается явно в пользу защитников Пушкина. Уважаемый в городе, всегда убедительный в своих речах, обаятельный Борис Ричардович одним своим видом показывает, что взялся за правое и благородное дело. Он возбужден, и от этого его лицо становится еще более одухотворенным и красивым. Он серьезен, но иногда ироническая улыбка освещает его лицо во время доклада Астахова. Тот, человек малокультурный, конечно, поверхностно знаком с творчеством Пушкина. Нахватался чужих цитат, применяет в докладе принцип лозунговости и громко кричит, как будто судьба революции решается здесь, в летнем театре Трека:
– Я спрашиваю наших уважаемых оппонентов, где был Пушкин, когда восстали декабристы? Где он был, когда декабристов расстреливали, вешали и ссылали в Сибирь? Не надейтесь, товарищи, получить ответы у защитников Пушкина. Ответ дам я. Пушкин в те ужасные дни танцевал мазурку и крутился в котильоне, поедал трюфели и страсбургский пирог, запивал шампанским, писал мадригалы и экспромты о хорошеньких ножках. Вся его связь с декабристами заключалась в том, что он рисовал карикатуры на повешенных и цинично приписывал: «И я бы мог, как они…» Нет, будут напрасно стараться защитники Пушкина! Им не удастся уберечь своего кумира от пролетарского суда. Мы помним камер-юнкерство и холопскую стихию, когда революционный народ сотрясал устои царской империи. Мы помним все это и смело бросаем Пушкина в очистительный огонь революции!
Не успел Астахов, довольный собой, усесться за стол, как из зала раздались крики:
– Это ложь! Прочь грязные руки от Пушкина! Долой докладчика!
В противовес разгоряченному, с выпученными глазами Астахову адвокат Беме выглядел спокойно и солидно. Он остановил идущего на авансцену Булгакова:
– Подождите. Я хочу сделать уточнения. Во время восстания декабристов зимой 1925 года Пушкин сам был в ссылке в селе Михайловском.
Астахов прервал адвоката:
– Не играет роли, где находилось тогда тело Пушкина. Главное – с кем он был по убеждениям.
– Я вас понимаю, – усмехнулся Беме, – неважно, где был Пушкин, важно, с кем был его дух. Значит, духи могут совершать революцию.
В зале раздался смех, обескураживший Астахова.
– Скажу еще, – продолжал Беме, – что вождь революции Ленин в 1912 году в статье «Памяти Герцена» писал, что декабристы, будучи помещиками и дворянами, оказались страшно далекими от народа. Из его утверждения ясно, что не революционный народ сотрясал империю. И как тут быть с тем, в чем обвиняете Пушкина? А то, что он хорошо питался… Видит Бог – гениальный поэт этого заслужил. И успех у дам тоже. Писал отличные стихи и красиво танцевал. Я не вижу в этом ничего буржуазного… Всем нам бы так…
Зал гремел от хохота. Растерянный Астахов предложил перенести диспут на следующий день.
Основной темой выступления Булгакова был тезис: «Пушкин – революционер духа». Тася слушала Михаила с замиранием сердца, как и большинство сидящих в зале. Даже задиры из цеха поэтов приумолкли, пооткрывали от удивления рты. И вдруг Тасе показалось, что, впрочем, случалось с нею и на других его выступлениях, что сцена пусть на часы или минуты, но разделяет их, к тому же не как зрителя и артиста, а значительно больше. В чем и почему – она не могла объяснить себе этого, но от сознания томительной разделенности тоска закрадывалась в ее сердце. Потом тоска улетучивалась, жизнь продолжалась, как и прежде, но следы даже мимолетного отчуждения от нее Михаила где-то глубоко оседали в сердце. Булгаков этого не чувствовал, после выступления, когда они оставались одни, он обнимал ее, прижимался к ее телу.
– От тебя веет теплотой и добром, – однажды признался он Тасе, но не сказал ни одного слова о любви, которого она ждала от него, но безуспешно.
– Помнишь, Миша, ты хотел застрелиться, если я не приеду на каникулы в Киев, – напомнила ему Тася письмо Саши Гдешинского.
– Помню, – вдруг серьезно вымолвил Михаил, – я не мог жить, дышать, даже учиться без тебя. Все мои мысли были поглощены только тобою. Я был безумно влюблен в тебя, Таська! – еще крепче прижал он к себе Тасю, и она почувствовала по искоркам в его глазах, что он вспоминает те чудесные, но уже вряд ли повторимые времена. – Я так волновался за тебя, ревновал к мужчинам всего Саратова и далеко не был уверен, что ты примешь мое предложение… Тогда были беспечные годы и было время влюбляться без памяти… Сбросить бы годы, заботы, вернуть прежнюю жизнь… Мы бы с тобою были сейчас где-нибудь за границей – в Париже, Риме, Венеции… И никому не надо было бы доказывать, что Пушкин – гордость России. Дело поэта – творить прекрасное, а не стоять у амбразуры баррикады. Или жили бы мирно в Саратове, купались в Волге, отдыхали бы в Буче, а Париж… Бывали бы там как туристы.
– Я не представляю тебя пишущим в Берлине, где все вокруг чужое…
– Зря, Тася, ты недооцениваешь меня, я захватил бы Россию с собой, поместив в своей душе, мыслях. Ведь Гоголь писал «Мертвые души» в Риме.
– Возможно, я ошибаюсь, Миша, но мне кажется, что тебе ежедневно надо чувствовать пульс жизни именно того места, тех событий, которые ты описываешь. Диспут о Пушкине… Ведь он мог произойти только в России, родившей этого гения и, увы, создавшей породу людей типа Астахова, пытающихся воздвигнуть себе памятник на низвержении великих. Их искусственный, созданный по их же указанию памятник, навязанный людям, неизбежно рухнет. Я в этом не сомневаюсь ни минуточки.
– Рухнет, – согласился Михаил, – но когда? Наша беда, что мы родились в это проклятое время!
– И беда и удача, – неожиданно улыбнулась Тася, – ты сможешь описать это время в точности, в деталях, с нюансами. И все-таки, черт возьми, мы победили сегодня! Ты бы видел, как был растерян Астахов. Глаза бегают. Рыжий клок волос свисает на лоб, но он, всегда аккуратно причесанный, даже не замечает беспорядка в прическе.