Охота на маршала Кокотюха Андрей
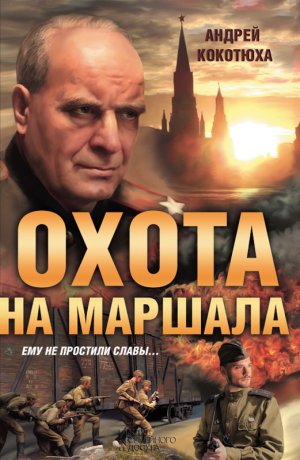
– Кого?
– Митю. Мужа моего. – Обида в ее голосе смешалась со злостью. – Полдня не прошло, как его забрали. Ты уже на его место метишь. Так, нет?
– Аня…
– Да, Аня! – резко оборвала она. – Аня я, в паспорте записано – Анна Борщевская! Не меняют пока документы, недосуг! Ты воевал, умирал, оживал, а что у тебя в голове сейчас, Иван? Одни на войне рано повзрослели! Ты вроде как наоборот, совсем в дитя малое превращаешься! Игрушка ничейная остается, место столбишь!
– Аня…
– Хватит! – оборвал его робость резкий ответ. – Хватит, Борщевский! Брось эти разговоры! Мысли тоже! Дмитрий, мой муж и твой друг, ни в чем не виноват. Вы, мужчины, узнайте, как это можно доказать и кому! Я, жена и женщина, своим делом займусь! Когда Митю отпустят, я ничего ему рассказывать не стану! – И, чувствуя, что пора брать себя в руки, снизила тон, сказала примирительно: – Извини, Ваня… Нервы… Спасибо, все равно спасибо. Я ценю, я все понимаю…
– Ладно, – грубовато ответил Борщевский, надевая кепку. – Проехали. Ты как хочешь, так и думай. Я ничего такого, просто… А ну тебя!
Отмахнувшись, Иван решил больше ничего не говорить.
Молча повернулся, вышел вслед за Соболем.
Не видел, как Анна перекрестила воздух ему вслед. Неумело, всегда боялась это делать, предрассудки как-никак. И все-таки с некоторых пор стала класть крест вслед Дмитрию всякий раз, как за ним закрывалась дверь. Сегодня, когда увели, тоже не сдержалась.
А теперь вот Ивана провела.
– Думаешь, если у тебя руки нету, я тебя посадить не смогу?
– Ничего я не думаю.
– Оно и видно, Стеклов. Очень даже хорошо видать, что башка твоя дурная работать не хочет. Как и ты сам. И пятьдесят восемь-десять я тебе, сволочь, нарисую прямо сейчас.
– Рисуй, – вздохнул Стеклов. – Устал я от тебя, капитан.
Высокому седому мужчине, которого в отдел МГБ доставили около полудня, по документам было всего тридцать два. Разница между ними – в год. Если совсем точно – Аникеев был младше на девять месяцев. Но выглядел мужчина значительно старше, и не только из-за ранней седины. Капитан наблюдал перед собой яркое и красноречивое подтверждение тому, как один прожитый на войне год считается за два, а то и за все три.
Сидевший напротив Клим Никитич Стеклов ушел на фронт в сорок первом, попал в окружение, затем – к партизанам. После их расформированный отряд пополнил регулярную воинскую часть, Стеклов брал Киев, прошел Польшу, ранение получил под Одером за несколько месяцев до конца войны, с левой кистью пришлось расстаться. Демобилизовавшись, приехал в Бахмач. Его семью уничтожили немецкие каратели еще летом сорок второго. Тогда партизаны разгромили полицейский пост, убили при этом нескольких шуцманов. В ответ немцы взяли в заложники пятьдесят женщин, стариков и детей, хватали наугад, не позволили взять вещи, люди сразу все поняли, но надеялись до последнего – даже когда хату, в которой заколотили заложников снаружи, полицаи облили бензином, а немцы подожгли.
Потеряв своих, Стеклов пришел к чужим: сержант, лежавший рядом в госпитале, написал Климу адрес, просил найти родню, если живы, передать жене его личные вещи. Всего и добра-то – кисет, военная газета, где сержант есть на групповом фото, дешевое обручальное кольцо и медный крестик на шнурке, с которым тот не расставался. «Глянь-ка, – говорил, – шнурок-дурак перетерся, и амба, подстрелили. А эти – Бога нет, Бога нет…» О ком это он, Стеклов не спрашивал. Без того понятно.
Вдова и двое детей, мальчик и девочка, чудом пережили оккупацию. Климу удалось их разыскать, женщина плакала, дети сдержались: видать, хлебнули войны, раньше срока затвердели. Но однорукого фронтовика, принесшего дурную весть, чужая семья попросила остаться. Случилось это прошлой весной, а уже к осени Стеклов расписался с новой женой, оформил отцовство. Так в его жизни появились люди, о которых инвалид войны мог заботиться. Конечно, внешне мужчина заметно изменился, выглядел пусть не стариком, но человеком достаточного серьезного возраста. Однако внутренне это, по собственным ощущениям, делало Клима сильнее и крепче, чем прежде.
Аникееву же было глубоко плевать на внутреннее состояние инвалида. Начальник отдела МГБ не знал подробностей его боевой биографии, считая себя ничем не хуже, наоборот – во многом лучше, чем этот полурукий в старой гимнастерке.
При других обстоятельствах это чувство превосходства никак не проявилось бы. Вероятнее всего, бывшего старшего сержанта Клима Стеклова не задержали бы на станции, не волокли сюда, к нему в кабинет. Или капитан ограничился бы профилактической беседой. Может, подержал бы инвалида в камере до вечера, исключительно в воспитательных целях.
Но грудь Стеклова украшали награды.
Капитан Аникеев, верой и правдой служа государству, стоя на страже его безопасности, не мог похвастаться таким иконостасом медалей. Сам он носил нагрудный знак «Заслуженный работник НКВД», полученный два года назад. Прекрасно понимая – отмечены не лично его, чекиста Аникеева, заслуги: значки вручали группе сотрудников по случаю круглого, десятилетнего юбилея их службы[35]. Между тем он искренне считал свой участок несения службы Родине более важным, чем передовая, – ведь скрытый внутренний враг, если его не выявить вовремя, непременно ударит в спину.
Только грудь в медалях все равно у Стеклова
– До тебя хоть доходит, что ты – паразит, а, Стеклов? – Капитан спрашивал не грозно, миролюбиво, одновременно вертя в пальцах тонко отточенный карандаш. – Прикрываешь свое нежелание трудиться, лень свою дремучую вот этим вот. – Острие карандаша указало на медали. – Повторяю еще раз: статья пятьдесят восемь, пункт десять. Антисоветская агитация и пропаганда. Стандартный срок для таких, как ты, – пять лет. Советская власть гуманна, Стеклов, здесь ты верно рассчитал. Учтем фронтовые заслуги, инвалидность, двоих детишек на иждивении. Но срок получишь. А судимость по такой статье знаешь, как потом догоняет? Всю жизнь мыкаться, оно тебе надо?
– А ты, капитан, тут, в кабинете, на всю жизнь окопался? Или как?
Подозрения Аникеева в который раз подтвердились – седой мужчина без левой кисти, сидевший напротив, не боялся его. Даже не уважал. И, самое противное, не собирался скрывать свое отношение.
– Товарищ капитан государственной безопасности, – проговорил он, чеканя каждое слово. – Товарищ капитан. И на «вы». Забыл, как обращаются к старшим по званию? Я же покуда для тебя товарищ, Стеклов. Стану гражданином капитаном – поздно будет.
– За что меня арестовали, товарищ капитан? – Седой специально сделал ударение на нужном слове.
– За антисоветскую пропаганду, – терпеливо повторил Аникеев. – У тебя что на груди? Две медали «За отвагу», три – «За боевые заслуги», одна – «Партизану Отечественной войны». На ней портреты товарищей Ленина и Сталина, между прочим. Тебя родина наградила, а ты ее, родину, позоришь! Ты товарища Сталина позоришь, мразь!
Сорвавшись на крик, Аникеев быстро взял себя в руки. Осознав: старший сержант в стираной гимнастерке, увешанной старательно начищенными медалями, со странным спокойствием и недоступным его пониманию терпением ожидает своей участи.
Точно так вел себя утром майор Гонта: сбитый с ног, не пытался сопротивляться, даже старался по возможности сдерживать крики. Понимал ведь – никто и ничем ему уже не поможет. И при этом все равно угадывалось в нем нечто, к чему сам Аникеев, проводивший немало подобных допросов, пока не привык: есть боль, заметно отчаяние, только почему-то не угадывается страх. Тот, который читается в глазах всякого гражданского или вчерашнего сотрудника органов, когда МГБ выявляет их враждебную советскому строю сущность.
Пытаясь объяснить это хотя бы себе, Аникеев не придумал ничего другого, кроме толкования: «Они снова на войне». Он никогда не ходил в атаку, но однажды долго пил с одним армейским офицером, и был момент, когда тот проговорил, глядя на капитана и не видя его: «Вот выходишь из окопа, начинаешь орать. Не от куражу, со страху. Бежишь прямо как в последний раз. И самое поганое – нельзя не бежать, нельзя не орать. Нельзя там по-другому. Не выживешь. Понял? А, что ты там понял…»
Стеклов молчал, явно не желая вести с Аникеевым хоть какой-то осмысленный разговор. Поэтому капитан продолжил, по-прежнему тыча в него карандашом, словно пистолетным дулом:
– Ты с товарищем Сталиным на груди песни распеваешь. Подаяния просишь. Дескать, глядите, вот он я, герой войны, весь в наградах – и подавайте за заслуги Христа ради, кто сколько может. Семью тебе, вишь, кормить нечем. Люди добрые, посочувствуйте вы, раз родина и товарищ Сталин бросили. Хочешь протягивать руку – протягивай, попрошайничай, по поездам такие давно ходят. Только медали свои сними. Родину не марай. Сталина не позорь. Или оно проще, подают лучше, когда этакого героя войны видят?
– Жена болеет. Дети голодают. Не веришь – проверь.
– Не ты один такой, Стеклов! Вся страна голодает! Такую войну пережили!
– Да, было. Тогда чего же мне, воевавшему, медали свои честно заслужившему, в городе работы нету? Я одной рукой тоже кое-что могу, тем более – правая она у меня. Куда ни сунусь – везде посылают. Не требуются воевавшие в мирной-то жизни. А, товарищ капитан? Что ж так родина со Сталиным, за которых нас из траншей поднимали, нас сегодня стороной обходят? И любая крыса тыловая…
– Молчать! – прикрикнул Аникеев, не дав договорить. – Ты мне здесь пока на полноценную пятьдесят восемь – десять наплел. Еще больше нагородить хочешь? Слушай меня, Стеклов, и очень прошу – делай выводы. Мне без тебя тут работы хватает. Понаехало начальства, даже из Москвы. – Капитан изобразил дикую усталость. – Толкутся друг у друга на головах, что местное, что столичное, всем Аникеев нужен, всех-то Аникеев слушать обязан. А я, к твоему сведению, с той стрельбы на вокзале больше двух часов в сутки спать не могу!
– Пожалеть?
– Себя пожалей! – огрызнулся Аникеев, но уже без злобы: он высказался, и ему заметно полегчало. – Не хочешь себя – у тебя баба с двумя спиногрызами. Сильно желаешь стать врагом народа? Я тебе статью нарисую, поверил?
– Работа такая… у вас.
– Именно, Стеклов. Начинаешь соображать. Тут тебе не контора по трудоустройству. Пособие получаешь? Карточки выдают? Иждивенцем быть не хочешь? Водку глушить да власть ругать, как некоторые личности, тоже не тянет? Хрен с тобой, протягивай руку! Воровать станешь – милиция посадит. А за медали, которыми ты свое нищенство прикрываешь, – я арестую. В другой раз – так точно, Стеклов! Молчишь? Не надо меня благодарить, тут не звери сидят. Но договор у нас теперь такой: по вагонам и на станции песни распевать, милостыню просить при медалях я лично тебе запрещаю. Еще раз – и все, Стеклов. Сегодня тебе повезло, дел у меня – во! – Ребро ладони чиркнуло по горлу. – Иди домой. Жене, небось, доложили бабы, куда тебя увели. Давай, герой, пока я гуманист!
Поняв, что Аникеев не шутит, седой фронтовик поднялся, молча кивнул, затем чуть расправил плечи и пошел к двери. Капитан больше ничего не хотел ему сказать. Не будь утреннего допроса Гонты, после которого пришлось замывать здесь пол от крови, он, может, и придержал бы Стеклова. Для порядка, как напоминание: не тот важнее, у кого грудь в медалях. Фронтовую вольницу надо забывать понемногу.
Но в данном случае Аникеев удовлетворился чувством самоуважения. Его невероятно распирало от собственного гуманизма. Мог посадить полурукого, будь у него хоть вдвое больше медалей, даже пара орденов. Окажись он Героем Советского Союза – плевать, не таким гордыню обламывали. Однако Стеклову, по мнению капитана, повезло хотя бы в том, что несколько часов назад Аникеев уже показал начальнику милиции, этому хромому строптивцу Гонте, кто хозяин. И чья здесь всегда будет сверху.
А когда почти сразу после ухода однорукого ему доложили – явилась зачем-то жена майора, Аникеев окончательно убедил себя: его день сегодня.
Баба наверняка о мужике узнать хочет.
Вот капитан и с ней работу проведет, как давеча со Стекловым. Растолкует кой-чего. Просветит, как за супруга хлопотать надо.
Переступив порог кабинета, Анна словно с разбегу налетела на стену – так подействовал прямой взгляд его обитателя.
Она привыкла к тому, что нравится мужчинам. Собственно говоря, это понимание и привело к замужеству, которое она сама признавала слишком уж поспешным. Но взгляды, которыми ее чем дальше, тем чаще недвусмысленно провожали незнакомцы, начинали сперва беспокоить, после – откровенно пугать. Поэтому мужем стал молодой военный Иван Борщевский: ухаживал неуклюже, при этом источал силу и какую-то крестьянскую надежность. Наконец, статус жены военнослужащего сам по себе защищал, охлаждал в то довоенное время самые горячие взгляды и мысли.
Война и эвакуация внесли существенные поправки. Анна еще понятия не имела, где воюет Иван, а окружающие ее мужчины временами вели себя так, будто она уже вдова. Ну, если нет, то очень скоро ею станет. Так или иначе, их взгляды сделались увереннее, смелее. К тому же на студии ее окружали люди с определенным статусом, более значимым в тылу, чем офицеры действующей армии, бывавшие в их краях не так часто – за исключением, разумеется, тех отчаянных, у кого, несмотря на военное время, закручивались сумасшедшие и короткие романы с работницами кино.
Однажды общение Анны с мужчинами в эвакуации перешло в ту необъяснимую фазу, когда ее категорически ставили перед фактом: без постели вредно и скучно, независимо от того, где сейчас муж и жив ли вообще. Ограничивать себя не стоит, хуже только организму, война бесконечна, жизнь коротка, нужно пользоваться всеми ее радостями. Был момент, когда она дала слабину, долго потом ненавидела себя за это и отрезала случайного знакомого раз и навсегда. Хотя ничего отвратительного он себе не позволил, грубостей и пошлостей с его стороны не наблюдалось.
Вернувшись в Киев и получив уведомление о гибели мужа, Анна еще сильнее ощутила незащищенность. Теперь мужчины, попадавшие в ее орбиту, вели себя, словно спасители и освободители. Возможно, она в то время преувеличивала, но почему-то была уверена: все вокруг фактически разыграли ее в карты, и теперь она обязана пойти по рукам и койкам, чтобы элементарно выжить. К счастью, очень вовремя появился Дмитрий Гонта, и на сближение Анна тогда пошла так же быстро и по той же причине, по которой в молодости выскочила замуж за Ивана Борщевского.
С тех пор она успела позабыть, какими могут быть взгляды посторонних мужчин.
Капитан Аникеев напомнил.
Замерев в дверях, Анна сперва собралась извиниться, повернуться и уйти, точнее – сбежать. Была уверена: офицер госбезопасности не помчится следом, утробно, по-звериному урча. Но, оценив свое положение, взвесив шансы и окончательно убедившись в правоте собственных опасений, тем не менее решила остаться. Держаться нужно взволнованно и скромно, как и положено супруге офицера, арестованного органами МГБ. Здесь лучше не провоцировать, занять выжидательную позицию, не задавать ненужных вопросов, лучше искать необходимые ответы.
Поискав взглядом, куда приспособить быстро и при этом весьма основательно собранный узелок с продуктами, к которым прилагались теплые носки, Анна не нашла такого места. Потому, переложив узел из руки в руку, она сделала несколько неуверенных шагов вперед, задав с явным опозданием глупейший вопрос:
– Можно?
– Вошли уже. Двери прикройте за собой.
Выполнив просьбу, Анна подошла еще ближе, стараясь соблюдать дистанцию между собой и столом Аникеева. При этом не глядя на него, а переключившись за неимением других объектов на портрет Сталина, украшавший стену точно над головой капитана.
– Вы ведь бывали у нас в гостях, – проговорила она несмело, словно нащупывая ногой тропинку в вязком и топком болоте.
– Приходил, – кивнул Аникеев, добавив: – Не часто. Раз или два.
– Но я помню вас.
– Город маленький. Мы могли без Гонты познакомиться.
– Да. Алексей Николаевич… кажется… Верно?
– Алексей. И, кажется, мы переходили на «ты».
– Если это удобно…
– Удобно. Для других – нет, но у нас с вами… с тобой особая ситуация, как я погляжу. Потому я тебя и принял.
– Могли… мог не принять?
– Ох, Аня… Анна, Аннушка. – Он картинно развел руками. – Перед тобой вот человек ушел, я ему все втолковывал: тут, в Бахмаче, с начальством нашим сейчас перебор. Калибры разные, геморрой один. У меня, уважаемая. Скажи, кстати, мужу спасибо.
– За что?
– Знаешь, наверное, про ограбление на станции. Весь Бахмач знает, жена начальника милиции – тем паче. – Аникеев отмахнулся. – Хорошо поработал майор Гонта. Пусть начальство сюда понаехало, за ночь все так укатались – спят без задних ног. Я вроде как на хозяйстве остался. Смешно, правда: сам у себя на хозяйстве… Н-да…
– Почему же тогда Дмитрий арестован? Он ведь хорошо потрудился. Ты сам только что признал это… Алексей.
– Не все просто. Вернее – все не просто. Да, насчет «спасибо мужу»… Только потому, что чужое начальство сейчас отсутствует, я и могу тебя принять по твоему вопросу.
– Моему вопросу? Какой у меня вопрос?
– Анна, мы взрослые люди. Утром арестовывают мужа, после обеда жена приносит ему передачу. Зная, что просто так ее не возьмут, пользуясь знакомством с начальником отдела МГБ, она добивается личной встречи. Правильно?
– Ага, – кивнула она. – Ну, раз уже пошел такой разговор, я хочу спросить – есть возможность увидеть Митю?
Аникеев вскинул брови, словно услышал нечто невероятное.
– Митю? Значит, майор у нас – Митя? Забавно…
– Тебя наверняка кто-то хоть раз в жизни назвал Алешей… товарищ начальник отдела МГБ.
Скрипнули об пол ножки – это Аникеев выпрямился, слишком решительно отодвинув при этом стул. Анна похолодела: вот сейчас начнется, кричать бесполезно, помощь не придет. Но капитан прошел мимо, даже сознательно обойдя просительницу, запер дверь изнутри на два оборота. Затем, снова обогнув застывшую посреди кабинета женщину, подошел к узкому кожаному дивану, приставленному к стене, сел, оперся локтем о валик, закинул ногу на ногу.
– Давай сразу проясним, уважаемая. Не знаю, кем ты меня вообразила. Бледная, глазки бегают, дышишь тяжело. Только ведь сама же вспомнила: сидели за одним столом, что-то ели, что-то пили, что-то пели. Тогда ведь было хорошо, спокойно, правильно. Так, нет?
– Сейчас по-другому все. Иначе.
– Согласен. Теперь я, получается, тюремщик в твоих глазах. Если совсем не палач. – Аникеев щелкнул пальцами. – Смотри, что получается. – Он прокашлялся, глянув в окно, за которым начинали уже неуверенно, робко, полунамеком приближаться мартовские сумерки. – Ситуация выглядит, Анна, следующим образом. Начальства надо мной, как я уже пожаловался, хватает. Как скоро оно рассосется – понятия не имею. А вот в чем точно я уверен, наверняка, на все сто: Коваль не оставит твоего мужа тут, в Бахмаче. Заберет с собой в Чернигов, если дело не сложится совсем плохо.
– Неужели может быть еще хуже?
– Здесь сотрудник из Москвы, центральный аппарат. У него, Анна, серьезные полномочия. Настолько, что Гонту запросто увезут из Бахмача прямиком на Лубянку. Тогда тебе придется обивать совсем другие пороги. Получится это у тебя или нет – не готов сказать. Сама думай. Учитывая обстоятельства, о которых я даже сам себе вслух не имею права напоминать, майора вполне могут разжаловать. Дальше – статья пятьдесят восемь. И пункт, которым предусмотрен только расстрел.
Анна вздрогнула, не сдержала испуганного крика, но узелок не выронила, рука вцепилась в него сильнее.
– Я тоже так думаю, – согласился Аникеев. – Мне придется еще давать показания, как это не разглядел скрытого врага, бывая у него в доме.
– Дмитрий – не враг. Он воевал, ранен, у него награды…
– Эх, Аня, Аннушка… Знала бы ты, сколько через одного только меня проходит таких вот воевавших, награжденных, раненых. Причем звания повыше фигурируют. Герои Советского Союза, как тебе? – Пальцы снова щелкнули. – Советовал бы газеты читать, но и «Правде» не все позволено… до поры, само собой. Ладно, к нашим делам вернемся. – Аникеев опять прокашлялся, вновь покосившись на окно, а затем Анна снова ощутила на себе тот самый неотвратимый взгляд. – Не хочу пугать и скрывать, но может статься, мужа своего ты больше не увидишь. Писать тоже вряд ли сможет. Выходит, нынче последний шанс, и я сейчас не шучу. Понимаешь?
– Понимаю… Конечно, понимаю… – Ее голос дрогнул. – Так плохо, да, Алексей?
– Еще хуже. И значит, я бы не советовал тебе упускать шанс. Как только здесь снова появится Коваль, московский сотрудник или оба сразу, сделать для тебя ничего не смогу. При всем уважении, Анна.
– В чем его обвиняют? Почему все так страшно? Неужели ничем нельзя помочь? Вдруг докажут…
– Будущее время. – Теперь Аникеев щелкнул языком. – Наши желания – одно дело. Реальность – совершенно другое. Дослушай меня до конца, уже недолго. И чего там встала, иди ближе. Сядь.
По-хозяйски похлопал по коже дивана, приглашая сесть рядом, и Анна, удивляясь собственной покорности, подчинилась. Устроившись рядом с Аникеевым, тут же отодвинулась, зачем-то прижав узелок к себе крепче, словно он мог ее защитить. Капитан между тем говорил и действовал с невозмутимой уверенностью – так ведет себя любой хозяин положения. Решительно придвинувшись, он легко отнял узел, уронил его под ноги, устроил руку у Анны на бедре. Попытка сбросить ее встретила сопротивление. Сильная мужская ладонь уже беззастенчиво гладила бедро под юбкой. И хотя на ногах были теплые чулки, а материал, из которого ей сшили юбку, – довольно плотный, прикосновение, казалось, прожигало насквозь.
– Свидание с Гонтой я тебе устрою. Даже оставлю вас наедине на какое-то время. Черт его знает, вдруг впрямь больше друг друга не увидите. Но с тобой-то мы, Аня, можем встречаться часто, разве нет?
Рука опустилась ниже, тронула край юбки, потянула вверх, однако Аникеев вдруг передумал – ладонь легла на грудь, провела, пальцы занялись пуговицами на пальто. Анна изначально ожидала чего-то подобного, понимала бессмысленность активного сопротивления, как и то, что все можно только оттянуть. Ненадолго, она ведь обязательно должна увидеть Дмитрия.
Любой ценой.
Анна готова заплатить.
Но не сейчас.
Аникеев уже справился с двумя пуговицами на пальто. Третья не поддавалась, они вообще все были разными, срезаны, откуда можно. Анна сама с трудом одолевала именно эту, капитан же решил проблему по-мужски, радикально и нетерпеливо: рванул. Нитка не выдержала, пуговица отлетела, упала на пол, звук оказался неожиданно громким.
Жадная рука уже сжала грудь под кофтой – однако именно пуговица решила дело.
Аникеев невольно обернулся, зачем-то пытаясь увидеть, куда та полетела.
Анна тут же не оттолкнула – отстранила капитана, отодвинула, затем шустро отдалилась сама, подалась далеко вперед, нащупала пуговицу, схватила, сжала в кулаке. Одновременно выдохнула:
– Нет! Нет!
– Ты ничего не знаешь. – Аникеев снова стиснул ее, теперь уже – за локоть. – Гонта враг народа. Я врал, давал надежду, хотел облегчить, объяснить, подготовить… С ним кончено, Аня. Серьезно все, очень серьезно. Кому нужна жена врага народа? Кто может прикрыть? С кем безопасно? С Алешей, только с Алешей, пойми же ты, наконец, ну же, Аня…
– Понимаю. – Теперь она отстранила капитана уже уверенней. – Надо было начинать с этого… Алексей…
– Алеша.
– Да, конечно. Алеша. – Отодвинувшись еще дальше, почувствовала – он дает слабину, быстро и решительно поднялась, попятилась к двери. – Только пойми и ты. Хорошо… Будет… Все будет… Не здесь. Пожалуйста, не тут, не в кабинете… Это место, этот диван… Неправильно…
– Свидание отменяется, – отрезал Аникеев, тоже поднимаясь. – Авансов не даю.
Лицо пылало, он с трудом восстанавливал дыхание.
– Без авансов. Это я, наоборот, пообещала… – Анна кивнула на узелок. – Отнеси Мите передачу, Алексей. Он голодный, я знаю. Ему нужны силы. Отнесешь – приходи к нам… Ко мне… говорю же, все будет. Там удобнее, мне удобнее. Здесь не могу, точка. Прости, извини… Не хочу здесь, не получится, не смогу.
Аникеев окинул ее взглядом сверху вниз. Анна поежилась.
– Допустим, – процедил он наконец. – Я поверю. Учти, времени мало, тут я не шучу и не набиваю себе цену. Словами не бросаюсь, не люблю. Только с мужем твоим, похоже, решено. Думай о своем будущем.
– Подумала. Когда… в общем… после… Я просто хочу попрощаться с ним. – Анна сама не могла поверить в то, что решилась на такие слова. – Митя ничего не поймет. Пусть у всех остается надежда. Но пойми, попрощаться нужно. Мне, Алексей. Очень быстро все, не привыкла… Утром подумать не могла…
– Верно. – Пальцы в который раз щелкнули. – Думать надо, Анна. Пора. Мне, честно, самому не верится насчет Гонты. Так ты меня ждешь?
– Я обещала же… Дома. Соберу поесть. – Анна вымучила улыбку. – Ты ведь тоже с утра не ел, поди… Алеша…
Он постучал, когда город обернули серые сумерки.
Капитану не терпелось отпраздновать маленькую победу. А пикантность ситуации, как он ее понимал, придавало то, что он сам, лично, отнес собранную Анной передачу солдатам в караульном помещении.
Даже не глянул, что внутри. Аникеева не интересовало, чем любящая жена решила покормить любимого мужа. Передавая караульному узелок, капитан ничего не объяснил. Разве себе, мысленно: жевать арестованный майор сейчас все равно вряд ли сможет, челюсть не сломана, конечно, а вот сильно повреждена – наверняка.
Алексею Аникееву более всего хотелось узнать, так ли сильно Анна ценит своего Гонту, как уверяла его в кабинете. Капитану ничего не стоило взять женщину прямо там, у него почти всегда получалось. Ведь жена начальника милиции – не первая молодая баба в Бахмаче и окрестностях, добивающаяся если не встречи с милым, то хотя бы возможности передать очередному кандидату во враги народа с трудом раздобытые продукты.
Сдерживало нагрянувшее начальство.
Не то чтобы подполковник Коваль верил в святость подчиненного и не догадывался, кто, когда его самого нет на месте, является одним из подлинных хозяев города. Просто само присутствие не только начальника УМГБ области, но и чем дальше, тем более загадочного майора Лужина обязывало Аникеева если не активничать, то хотя бы имитировать бурную профессиональную деятельность. Будь здесь только Коваль, капитан все равно не рискнул бы появиться при нем пьяным. Взгреть подполковник мог за один только утренний перегар, даже если сам извергал на подчиненных вчерашние выхлопы. Если же Аникеев, потеряв бдительность, начнет развлекаться с бабами в собственном кабинете средь бела дня и вдруг нагрянет высшее руководство, стружку снимут по полной программе.
Ладно бы только стружку. Смотря, какова обстановочка в области, не говоря о всей Советской Украине. Глядишь, не понравится недавнему наркому, а теперь – уже целому министру государственной безопасности республики товарищу Савченко[36], как работает хозяйство Коваля, и тому ничего не будет стоить разобраться с первым в очереди накосячивших на службе – капитаном Аникеевым. С должности могут снять, в звании понизить, если не хуже…
К счастью, ни Коваль, ни Лужин со своим спутником-немцем, чьей роли во всем происходящем Аникеев до сих пор не понял, так и не появились после того, как Гонту отволокли в камеру. Либо впрямь решили отоспаться после длинной ночи, либо нашли себе более важные дела – любой расклад капитана устраивал.
Штат отдела состоял из него самого и заместителя. В случае необходимости Аникеев имел право подключать личный состав милиции, вызывать солдат. И, к слову сказать, до ограбления на станции по его линии все было ровно, вдвоем нормально справлялись, выявляя умеренное количество враждебных власти элементов.
А выявлять их надо непременно. Потому как, во-первых, не может такого быть, чтобы не находилось недовольных. От негативных настроений до активных действий нынче, в сложное послевоенное время, шажок невелик. И, во-вторых, если отдел на вверенной территории не вычищает врагов народа регулярно, значит, руководители не на своем месте. Ведь, смотри пункт первый, недовольные режимом были, есть и будут. Кажется, сам товарищ Сталин об этом однажды предупредил. Ну или кто-то из партийцев высказался, ссылаясь на его слова, какая разница.
Стоило сыроватому мартовскому вечеру увереннее вступить в свои права, Аникеев предупредил зама – его в ближайшее время не надо искать. Спросят – ушел по важному служебному делу. Ничего из ряда вон выходящего случиться вроде не должно. Ага, разве Гонта очухается, одумается, захочет давать показания – тогда придется ему это обеспечить, немедленно доложившись на станцию, где Коваль с Лужиным обустроили нечто вроде штаба. Если же до его возвращения Гонта не образумится, с ним придется еще поработать.
Уже поднимаясь на крыльцо, Аникеев окончательно решил: никакого личного свидания не устроит. Конечно, в его власти было это организовать. Стоило пожелать, и никто бы из начальства ничего не пронюхал. Проблема Анны, как понимал ее капитан, изначально была в том, что он не хотел ей помогать. Есть возможность взять крепость без боя. Тянуть время, играть, обещать, требовать большего, получать удовольствие от процесса. Аникеев предвкушал, как барышня с высшим образованием, явно не годившаяся на роль верной супруги милиционера-фронтовика, станет выполнять все его желания, на что-то надеяться, а он в который раз получит возможность покарать – или помиловать.
Именно ради этого пришел однажды Алексей Аникеев, парень с неполным средним образованием, на службу в тогда еще НКВД.
Миловать не любил. Жалеть тоже, по долгу службы не положено. Заманить посулами – всегда пожалуйста. Он с огромным трудом удержался, чтобы, переступая порог, не потереть руки.
Анна встретила его в платье с оборками, довоенном, заметно ушитом и перешитом. Похожие носили артистки в кино. Здесь уже Аникеев решил не сдерживаться, подвох она вряд ли заподозрит. Громко хлопнув в ладоши, потер их, выражая восхищение увиденным. Позади нее стоял стол, накрытый скромно, однако со вкусом. Главное – бутылка в центре, не самогон, не водка, вроде самый настоящий коньяк. Видать, берет презенты Гонта, тоже не святоша.
– Ждешь, значит, – осклабился довольно, стараясь делать улыбку не слишком уж хищной.
– Милости прошу, – кротко пригласила Анна, переминаясь при этом с ноги на ногу.
Надела для встречи туфли-лодочки, по здешней грязи в таких на двор не выйдешь. Картину портили, как на вкус Аникеева, те же плотные чулки, что были на женщине днем. Ничего, чулки – это временно. Подумав так, вновь растянул губы в улыбке. Сейчас вышло абсолютно искренне. Похоже, Анна заметила это, оценила, немного расслабилась – напряжение капитан все же ощутил.
– Прошу к шалашу, так сказать, – проговорил он, скинул шинель, нацепил на гвоздь, туда же пристроил фуражку. Пригладив руками волосы, двинулся к столу.
– Пистолет.
– Что – пистолет? – не понял Аникеев.
– Муж… Митя… В общем, у нас не принято садиться за стол с оружием.
– Я тебе не муж, – строго осадил капитан. – И за стол, кстати, рановато. Сядем. Пока стоя можно. Иди сюда.
Анна, решив не возражать, покорно подошла. Подхватив со стола бутылку, убедившись – верно, коньяк, к тому же дорогой, – приступил к пробке. Поморщился – уже открывали.
– Початая, – сказал укоризненно.
– Это я себе… Для храбрости, пока тебя поджидала, – поспешно объяснила Анна.
– Чего для храбрости-то? Не надо для храбрости. Или раз начала – давай вместе.
Вынув пробку и плеснув себе в стакан на глаз чуть больше половины, Аникеев налил в другую посудину почти столько же, потянул женщине.
– Держи.
– Нет, спасибо. Я уже. Мне хватит. Храбрая. – Она попыталась пошутить.
– Давай-давай. За все хорошее. – Аникеев не опускал руку.
– Буду. Потом.
– Как хочешь, – неожиданно легко согласился капитан. Решил: в конце концов, никуда она не денется. Потом – пусть себе потом.
Вернув предложенный женщине стакан обратно, Аникеев отсалютовал Анне своим, выпил сразу, одним глотком. Утер рукавом губы. Больше ничего не собираясь говорить, подступил к женщине вплотную.
Притянул к себе.
Не отпиралась.
Но глядела мимо.
– На меня смотри, – негромко, но отчетливо проговорил Аникеев. – Или не нравлюсь?
– Нет.
Анна сказала это, повернув голову и взглянув прямо в глаза.
– Совсем нет?
– Совсем, Алеша.
– Черт с тобой. Все равно…
Левая рука сильно сжала грудь. Правая, скользнув по спине, стиснула ягодицу.
Губы попытались поймать губы. Лицо Анны оказалось совсем близко, вплотную, на нем внезапно появилось новое, странное выражение.
Аникеев еще мог попытаться разгадать его.
Даже успел почувствовать опасное, чужое движение за спиной.
Но больше не успел ничего…
3
Выхода нет
Боль.
Сознание покинуло Гонту, когда она стала слишком невыносимой. И она же, напомнив о себе, привела в чувство. Застонав, Дмитрий пошевелился, не открывая глаз, – стоило дернуть веками, как боль усилилась. Может, не от этого, возможно, показалось. Только майор предпочел пока держать их закрытыми, попробовал пошевелиться, осознал – лежит на твердом бетонном полу лицом вниз. Вокруг что-то липкое, запах знакомый, ведь это один из главных, устойчивых запахов войны.
Кровь.
Его кровь.
Собравшись, сделав резкое, превозмогающее боль движение, Гонта перевернулся сперва на бок, после – на спину. Раскинул руки, чуть раздвинул ноги, затем коснулся правой рукой лица. Пальцы сразу стали липкими.
Наконец Дмитрий открыл глаза.
Темно.
Камера была ему знакома. Сам не раз отправлял сюда задержанных, случалось – допрашивал прямо тут. Милиция и отдел госбезопасности отдельных мест для содержания арестованных не имели. Тюрьма была в Бахмаче и до войны, ее использовала здешняя полиция во время оккупации. Но по стечению обстоятельств это место также пострадало во время наступления Красной Армии, потому пришлось приспосабливать под нее другое помещение. Когда определялись, где разместятся карательные органы, нашли здание с прилегающим к нему подвалом. Он оказался довольно просторным. Гонта только вступил в должность, и ему рассказали дивную историю: первые задержанные преступники, в основном бывшие полицаи с довоенным уголовным прошлым, сами под присмотром автоматчиков переделывали подвал под тюрьму. А подгоняли их надзиратели присказкой: «Для себя стараетесь, сволочи!»
Тех, кого арестовывала госбезопасность, долго в Бахмаче не задерживали. Сутки, двое, в исключительных случаях – трое, после чего врагов народа отправляли дальше, в Чернигов. Возвращались обратно единицы. Точнее, на памяти Гонты отпустили, разобравшись, только двоих. Остальные пропадали навсегда. Так или иначе, отдельная камера, отгороженная в самом конце недлинного коридора, предназначалась для «клиентов» Аникеева. Своими «подопечными» Гонта мог набивать три оставшиеся камеры до отказа. Впрочем, серьезных преступников здесь тоже держали, а мелкие попадались периодически.
Потому Дмитрий представлял себе, где находится.
Осталось найти в себе силы и представить, что будет дальше.
Лежа вот так, на холодном полу, майор не мог точно определить, что и где именно у него болит. Ныл живот, которому досталось как следует, и оставалось только надеяться – на этот раз костоломы ничего внутри не отбили. А вот по поводу уцелевших ребер иллюзий Гонта не строил: физически ощущал, какие именно повреждены. Гудела голова, мутило, челюсть если не сломали и не вывихнули, то уж точно превратили в один сплошной синяк. Под потолком горела лампочка, забранная для надежности специальной прочной металлической сеткой. Она делала свет еще более тусклым. Но этого вполне хватало, чтобы колоть глаза, – в полной темноте, как показалось Дмитрию, он чувствовал бы себя гораздо лучше. К тому же левый глаз полностью все равно не открывался – заплыл, отдавая резкой болью. Похоже, чей-то сапог сломал или просто крепко прижал один из пальцев правой руки, когда Гонта закрывал от ударов череп. Определить, так ли это, мешала все та же боль, поглотившая его целиком.
И все-таки самого страшного, по убеждению Гонты, пока не случилось и вряд ли свершится в ближайшем будущем.
Мозги не отшибли.
Избитый до полусмерти человек не всегда сможет встать. Тем более – не сорвется бежать вот так, с места. В подобном состоянии никто не способен активно сопротивляться палачам. Даже не всякий сможет подняться, чтобы помочиться. Потому нужно готовиться к тому, что ходить придется под себя, не слишком стыдясь этого. Да, надо признать: сейчас Гонта не мог ничего делать.
Но он мыслит, значит – существует.
Стиснув зубы, постанывая в такт неловким движениям, Дмитрий отодвинулся от лужицы собственной крови еще дальше, подобрался к стене. Оперся плечом, глубоко вдохнул, скрипнув зубами, когда выдох отдался болью сломанных ребер. Помогая себе руками, матерясь сквозь зубы и подстегивая себя этими же словами, осторожно, с третьей попытки сел, опершись спиной о стену. Выровнял дыхание, словно закончил весомый кусок физически тяжелой работы, замер, медленно и постепенно привыкая к боли.
Она впрямь немного стихла. Способность думать, кажется, вернулась окончательно. И хотя мысли хаотично роились, собирать их в единое целое необходимости не было. Ведь вертелись они вокруг одного: что делать ему, Дмитрию Гонте, в ближайшем будущем для того, чтобы уцелеть.
Смерти не хотелось. Разведчик, всякий раз уходивший за линию фронта, как в последний путь, и по возвращении возносивший хвалу своей воинской удаче, не собирался умирать. Точнее – подыхать вот так, после войны. Причем не пойми за что. Его уже обвинили в измене, Коваль запросто это докажет. А самое поганое: Дмитрий понятия не имел, как оправдать себя.
Пожалуй, даже сильнее, чем свое нынешнее унижение и боль, майор переживал острое чувство беспомощности. Да, прочтя документы, в которые Коваль практически ткнул его лицом, Гонта, имевший опыт милиционера, многократно помноженный на опыт разведчика, сложил картинку моментально. Но легче не стало. Наоборот, только в тот момент до Дмитрия дошло, насколько угроза, нависшая над маршалом Жуковым по воле МГБ, читай – по прямому приказу Лаврентия Берии, реальнее и сильнее обвинений в мародерстве, нескромности, личном обогащении и даже откровенном грабеже.
Вот о чем он подумал тогда.
Однако теперь, после всего, что уже случилось, Гонта вновь собрался с мыслями настолько, насколько позволяло положение. Еще раз, пусть даже через ноющую боль, Дмитрий прокачал ситуацию. И сложилось несколько выводов, которые пока делали его положение не таким уж трагически необратимым.
Вывод первый: Григорий Ржавский, без всяких допущений, догадался, что везли в том третьем, лишнем вагоне. К тому же ни сам Ржавый, ни майор, а значит – никто в штабе Киевского военного округа понятия не имел, что вагон этот – лишний. Скорее всего, Ржавый вообще ничего не допускал, не утруждая себя подобными глупостями. Другой на его месте бросил бы добычу. Даже поняв, какая рыба попалась в сети. Но к чему она, если ее нельзя продать через барыг или обменять на что-нибудь материальное? Более того – груз не пытались бы уничтожить.
Выходит, главарь бандитов сразу начал строить на этом трофее некий расчет.
Вот почему ящики не нашли в усадьбе. Как и самого Ржавского, ни живого, ни мертвого. Когда Соболь с Борщевским нагрянули в бандитское логово, там уже не было ни Ржавого, ни опасного груза.
Зная своих боевых друзей, высоко ценя их опыт и навыки разведывательно-диверсионной работы, Гонта именно в таком повороте событий не сомневался. Стало быть, не все так плохо, раз в руки Ковалю ничего из содержимого третьего, лишнего вагона до сих пор не попало. Получается, пока, с учетом неожиданностей, вопреки сложным условиям, бывшие разведчики выполняют поставленную задачу по спасению репутации, чести и, как оказалось, жизни маршала Победы. Дмитрий был уверен: он отнюдь не преувеличивает.
Долго находиться в одном положении он не мог. Поворочавшись, поерзав по полу, Гонта постарался устроиться хоть немного удобнее. Прикрыл глаза, так лучше думалось.
Дальше – вывод второй. Иван и Павел наверняка понятия не имеют, во что влипли по его милости. И, что важнее, не представляют, как вести себя теперь. Анна места себе не находит. Борщевский наверняка рядом. Соболь от них ни на шаг не отступит. Вне всякого сомнения, они ищут возможность помочь. И не знают: единственно верный способ – разыскать Ржавского.
Будь Гонта на свободе, он смог бы это сделать. Найти-то его проще простого. Ржавый не зря бережет неожиданный трофей. Поставив себя на место бандита, майор признал: имеет крупный козырь, позволяющий начать любой торг с МГБ. Конкретно – с подполковником Ковалем. Выше Гришка просто не доберется, а начальник местного отдела для него слишком мелкая сошка. Аникеев не решит в подобной ситуации абсолютно ничего.
Положа руку на сердце, Дмитрий признался – на месте Ржавого рискнул бы начать точно такую же игру. Более того: Гонте очень хотелось перехватить инициативу. Здесь реальный путь к спасению. Тем более что майор, лежа здесь, в камере, избитый до полусмерти, уже знал больше, чем военный преступник Ржавский. Одно плохо – Дмитрий не мог сделать ход первым.
Для этого надо все рассказать Соболю и Борщевскому. Конечно же, их к нему не пустят. Вряд ли Коваль, не говоря об Аникееве, разрешит даже короткое свидание с Анной, через которую можно передать информацию.
Значит, если Иван с Павлом не родили на две головы безумный план вооруженного нападения на бахмачскую тюрьму, в данный момент они сидят и тяготятся собственной беспомощностью. Тогда как промедление подобно смерти не только для него, но и для них. Однополчане арестованного очень скоро привлекут внимание Коваля. И тогда они либо окажутся с ним в одной камере, либо солдаты покрошат их из автоматов при попытке оказать сопротивление.
Дмитрий снова тяжело выдохнул. Опять заныли места, где сломаны ребра. Закусив разбитую губу, майор перешел наконец к выводу номер три – подполковник Коваль опасен.






