Охота на маршала Кокотюха Андрей
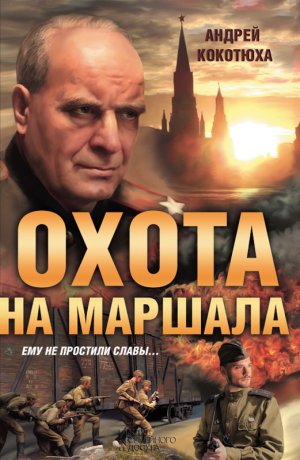
Гонта стиснул зубы.
Заиграли желваки на скулах.
Это никогда не закончится. Или завершится так плохо, как ему совсем не хочется.
– Участковый там?
– На месте. Этого-то скрутил кое-как, но все равно говорит: беги, Михална, за товарищем майором.
– Тогда что же, пошли… Поехали, то есть.
Не глядя на дежурного и, как всегда бывало в таких случаях, быстро передвинув все запланированные на сегодня дела, Гонта взял тетю Веру за плечо и мягко подтолкнул перед собой. Когда вышли на улицу, кивнул на коляску своего мотоцикла, и женщина послушно полезла в нее, сразу же устроившись там, словно большая птица в гнезде.
Взревел мотор.
От управления до дома тети Веры ехать пятнадцать минут, по здешним меркам – далековато. Однако в последнее время Гонта слишком часто ходил и ездил туда из любого конца города, обычно – в самый неподходящий для этого момент. Но другого выхода у него просто не было.
Когда приехали, не помог хозяйке выбраться из коляски, даже нескольких секунд терять не хотелось. Толкнул калитку, прохромал через небольшой дворик, когда входил в дом – сапоги о половик вытер скорее по привычке, чем действительно боясь здесь наследить. Грязь всегда можно вытереть. А вот картину, виденную Дмитрием за несколько последних месяцев в разных вариациях и увиденную сейчас вновь, не сотрешь ничем.
Навстречу ему шагнул участковый, старшина Антипенко. Лицо впрямь разбито, даже кровь запеклась в уголке рта – милиционер утерся тыльной стороной ладони.
Ремня на нем не было.
Им участковый крепко скрутил руки сидевшего на полу и прислоненного к стене парня, которому, как знал Гонта, тридцать лет исполнится только в следующем году. Он был босой, в стираных галифе, разорванной тельняшке – подарок товарища по госпиталю, морячка, Гонта знал и это, – сильно пьяный и с растрепанными волосами.
Вот к чему Дмитрий не мог привыкнуть дольше всего.
Старший лейтенант Иван Борщевский всегда на его памяти наголо брил свой идеально – так уж постаралась природа-матушка – круглый череп.
– О, гражданин начальник!
Выкрик Борщевского убедил майора – его бывший взводный не так пьян, как хочет казаться. Сейчас, как и в предыдущие разы, им двигали злость и отчаяние. Тем не менее начинать очередное выяснение отношений с Иваном при участковом начальник милиции не собирался, потому обратился к Антипенко, сознательно стараясь не смотреть на боевого побратима.
– Что на этот раз?
– Получка вчера подоспела, – охотно пояснил старшина. – Там же, на станции, и начали гулять.
– В буфете?
– Где ж еще! Дома, тута, значить, не ночевал, загудели у Кольки Снегиря. Этот, – Антипенко кивнул на Ивана, – аванец весь тут же спустил. Это Снегирь похвастался, жинке еще кричал: гляди, мол, ни копейки не пропил, Борщу скажи спасибо, вот кто человечище…
– Ты уже и Снегириху успел опросить?
– Куда? Колька сам доложился! Потому, говорит, она их обоих у себя и терпела. Ладно, то вчера было. Сегодня у них выходной, не их смена. Вот Ванька и приволок Кольку с собой сюда. Где-то по дороге успели на старые дрожжи сообразить. Иван давай командовать Михайловне: мечи, говорит, на стол, хозяйка. Та давай его корить, Снегиря вообще гнать стала. Борщевский, ясное дело, разбушевался. Давайте, кричит, зовите вашего милицейского начальника. И, гм… – Антипенко кашлянул, явно скрывая смущение. – Про супругу вашу еще…
– Матом? – Майор знал, что в адрес этой женщины Борщевский ничего грубого себе не позволит в любом состоянии.
– Да нет. Просто поминал всуе, как говорится, – и быстро перевел тему, закончив рапорт: – Снегиря я прогнал. Борщевский ваш полез с кулаками, пришлось дать ему чутка по темечку, уж простите. Чтобы успокоить да связать. Михайловну сразу за вами послал, кто же, кроме вас-то, ему даст укорот…
– Не за что извиняться, старшина. Верно все сделал. Сам цел?
– Кажись, зубу капут. Все равно там дырка была…
– Я договорюсь с Наумычем, он мне должен. Так что с зубом придумается, – тут же успокоил Гонта.
Прошлой зимой, когда нормально заработала наконец городская больница и при ней нашлось место вернувшемуся из эвакуации старому зубному технику Семену Наумовичу, его ограбили и чуть не убили охотники за золотом. Считается, у стоматологов оно имеется, и грабители не так уж и ошиблись. Шли по наводке, отняли все, но уже через три дня Гонта лично вернул Наумычу все, что бандиты не успели продать. Нашли при обыске в той же хате, где обоих положили при попытке сопротивления, и потерпевшего привезли на опознание. С тех пор доктор считал себя вечным должником «господина майора», как он называл Дмитрия, не простившись со старорежимной привычкой.
– Во-во, полечи зубик! – пьяно хохотнул Борщевский. – Ум для этого морщить не надо.
– Морщить-то нечего! – отозвалась появившаяся в дверях тетя Вера. – Ума нету у тебя, Ванька! Совести тоже, стыда! На войне же был, а такое творишь…
– Разве я творю?
Сейчас Борщевский говорил на удивление трезво, глядя снизу вверх в лицо Гонте. Майор, как часто между ними бывало, принял вызов; не отводя взгляда, сказал, обращаясь к Антипенко:
– Ремень свой забери.
Участковый присел, легким толчком повернул Ивана на бок. Сопротивления не встретил, освободил тому запястья, привел себя в надлежащий вид.
– Спасибо, старшина, свободен. К Наумычу все-таки зайди, передашь от меня привет. Все сделает.
Бросив руку к козырьку фуражки, Антипенко вышел. При этом Дмитрий обратил внимание: кобура застегнута, и вряд ли участковый спрятал пистолет, зная о скором появлении Гонты. Старшина скорее всего даже не пытался применить против разбушевавшегося Борщевского оружие. Поскольку утихомиривать Ивана ему было не впервой, майор знал, не трудясь даже наводить специальные справки: пистолет при этом Антипенко всегда держал в кобуре. Бывший командир взвода полковой разведки Борщевский был если не опытнее, то уж точно ловчее старшины-пехотинца. Но и со своей стороны Иван никогда не пытался разоружить милиционера.
Понимая, что и она сейчас здесь лишняя, под каким-то предлогом удалилась из комнаты на двор тетя Вера. Оставшись с Борщевским наедине, Дмитрий снял фуражку. Утер ладонью враз взмокревший лоб. Пригладил ежик волос, спросил, глядя на Ивана сверху вниз:
– Так и будешь валяться, гвардеец?
– Тебе-то чего? – парировал Борщевский, но все-таки неспешно поднялся, оперся о стену.
Все-таки он был пьян сильнее, чем пытался убедить себя Гонта. Не зная, куда пристроить свой головной убор, положил на старый круглый стол, расстегнул две верхних пуговицы синей шинели, чуть ослабил портупею.
– Мы уже много раз пытались поговорить нормально, Ваня. Не получается.
– Наморщи ум, командир, и угадай с трех раз почему.
– Ага, уже командир, значит… Ну, раз командир, тогда, может, послушаешь меня наконец и уедешь из Бахмача? Легче и проще станет всем.
– Легче уже не будет никому, – последовал ответ. – Ты меня что, выгоняешь вон из города? Может, еще приказом оформишь? Если такие приказы, чтобы прогнать человека откуда-то, в нашей стране вообще бывают.
– Бывают.
– Верно, командир, извиняюсь, забыл. Это когда кого посадят и человек отсидит, ему с его справкой нельзя проживать в таких-то городах. Только Бахмача твоего это вряд ли касается. И потом, ты меня еще посади. Павло же вон сидит…
– Знаю, – слишком резко оборвал его Гонта, не желая говорить на эту не менее больную для него тему с Иваном, тем более – нетрезвым и непредсказуемым. – А ты каждый раз, когда мне об этом напоминаешь, забываешь сказать: я не имею к посадке Соболя никакого отношения.
– Не имеешь, командир.
– И вытащить его тоже не могу отсюда, из Бахмача. Хотя будь я не тут, а в Киеве, тоже не смог бы. Так что давай не за Пашку поговорим, а за нас с тобой.
– За рыбу гроши, – парировал Борщевский. – Не срастется у нас с тобой поговорить по душам, командир. Не уеду я отсюда никуда. Всех моих, кто не умер от голода десять лет назад, в войну поубивало. От села одни трубы остались. Я сам мертвый был. А жена моя…
– Хватит! – Теперь Дмитрий выкрикнул, даже топнул ногой. – Точно что за рыбу гроши! Ни я, ни тем более Анна перед тобой ни в чем не виноваты! Сколько можно выпендриваться, в конце-то концов! Боевой офицер! За линию фронта десятки раз ходил, с того света вернулся! А ведешь себя как… – с языка чуть не сорвалось «баба», но Гонта вовремя сдержался, справедливо сочтя сравнение излишним в такой ситуации, – как я не знаю кто или что… Уже все, кому надо и кому не надо, знают, что твоя персона здесь, в городе, неприкасаема. Пока я тут начальник милиции, во всяком случае. Из последних сил терплю.
– Это называется чувство вины, командир. – Голос Ивана вновь прозвучал трезвее, чем он был на самом деле. – Ты грехи замаливаешь.
– Я в Бога не верю. Так что замаливать – это к богомолкам, я тебе молельный дом покажу. Ходят старушки, икону там приладили, тихо, никому не мешают… А вины моей, повторюсь, в том, что с похоронкой на тебя какая-то канцелярская крыса поспешила, нету. Вот сколько можно об этом говорить? Каждый раз одно и то же.
…А произошла обычная для военного времени история.
Правда, развитие эти неприятные, банальные, можно сказать – совсем не оригинальные события получили слишком уж неожиданное для всех участников. Вместо радости оттого, что все остались живы, на немало хлебнувших за военные годы людей обрушилось горе. Причем никто из них не знал, когда и как это все закончится.
Пропавшего без вести старшего лейтенанта Ивана Борщевского поспешили записать в список погибших. Похоронка на мужа догнала Анну, когда та уже вернулась из эвакуации обратно в освобожденный от немцев Киев. Молодая женщина, как положено, горевала, хотя их жизнь в законном браке продолжалась меньше года. Конечно же, была между молодым командиром и без году неделя выпускницей медицинского большая, крепкая любовь, их разлучила война, Анна ждала мужа, радовалась, что может писать ему, всегда перечитывала по нескольку раз ответы.
Но первые вдовьи слезы выплакались, надо как-то жить дальше, и молодая вдова неожиданно подумала: а ведь мужа-то она помнит не очень хорошо.
Врозь они находились дольше, чем жили вместе. Да и в то время Иван, как всякий военный, с супругой проводил время не часто. Обычно это были застолья, собирались коллеги, их жены, пили за товарища Сталина, крепость оружия, непобедимость Красной Армии, пели песни из «Веселых ребят», «Трактористов» или дружно тянули «В далекий край товарищ улетает…»[13], танцевали под Вертинского. Так проводили время все в гарнизоне, и много позже, оплакивая погибшего мужа, Анна нет-нет, да и ловила себя на мысли: нравилось ли ей все это? О таком ли мечтала, и вообще – мечтала ли о чем-либо, кроме как выскочить, по примеру большинства подружек, поскорее замуж за командира Красной Армии.
В этот непростой период раздумий Анну Борщевскую нашло письмо, подписанное Дмитрием Гонтой. Незнакомый офицер сразу же пояснил: служил с Иваном в одном полку, даже в одной разведывательной роте. Был ему не просто командиром, но и другом, тем более что разница в возрасте между ними не слишком большая. Писал, что узнал о гибели фронтового друга в госпитале, сам комиссован по ранению, сейчас вернулся в родной город Бахмач, и главное – не считает Анну чужим человеком. Ведь Иван много о ней рассказывал, хвастался каждым письмом, бережно хранил фото красавицы-жены и даже, если верить Дмитрию, воевал не за Родину, а прежде всего – за нее, Анну. Уходя на очередное задание и сдавая документы, всегда доверял снимок супруги только ему, как самую большую для себя ценность. Заканчивалось письмо вежливыми словами: мол, не пропадайте, Анна, крепитесь, можете писать в любое время, особенно – если помощь нужна.
Так между ними завязалась переписка. А после войны, ближе к осени, Анна Борщевская решила съездить в гости к Дмитрию Гонте. Сперва ей хотелось расспросить его подробнее, каким же все-таки был ее погибший муж. Очень надеялась ярче вспомнить его для себя, ведь забывать героя вдове вроде бы не положено. Как случилось, что вскоре Гонта и Анна стали жить вместе, объяснить не только друг другу, но и себе никто из них сначала не мог, после – уже не хотел.
Новый, тысяча девятьсот сорок шестой год они встретили мужем и женой. Анна взяла его фамилию, к тому времени успела уволиться с киевской студии, оставила друзьям и подругам новый адрес: пишите, как говорится, письма. Здесь, в Бахмаче, нашлась работа в железнодорожной больнице. Послевоенная жизнь начинала налаживаться, рана, нанесенная давешней похоронкой – затягиваться, покрываться плотными рубцами.
До тех пор, пока в январе не объявился в Бахмаче живой и здоровый Иван Борщевский.
Случилось так, что перед началом наступления в Нижней Силезии[14] его взвод выслали в разведку – нужно было выяснить возможность форсирования одной из тамошних рек. Немцы накрыли группу огнем, когда разведчики уже возвращались обратно. Большая часть группы погибла, а тяжело раненного и к тому же контуженного комзвода отнесло течением. Ему чудом удалось выбраться из ледяной февральско воды, и там, на берегу, Иван потерял сознание. Когда его наконец подобрали санитары, документов при нем, разумеется, не оказалось. Так же, как и знаков отличия. Разобраться с ним толком времени не было, важнее – спасти жизнь. Это доктору удалось, понадобилась не одна операция, делали в полевых условиях, поэтому окончательно пришел в себя старший лейтенант Борщевский только тогда, когда войска уже вошли в Померанию[15]. Ну а канцелярия тем временем уже сделала свое дело, зачислив Ивана Борщевского в пропавшие без вести, не вернувшиеся с боевого задания, считай – мертвые.
За все время, пока Иван валялся по госпиталям, ему таки удалось восстановить себя среди живых. Об этом, конечно же, со временем узнали в родном полку. Однако никто не потрудился исправить ошибку, сообщив комиссованному к тому времени Гонте, что Борщевский нашелся и выжил. Война стремительно шла к завершению, и то, о чем думает хромой начальник милиции в каком-то провинциальном Бахмаче, никого не волновало. Да и сам Борщевский понятия не имел, как разыскать не только командира, но и жену. Письма, написанные из госпиталя, когда он смог писать, вернулись обратно с пометкой «адресат выбыл». Несколько месяцев старший лейтенант болтался по госпиталям, позже даже попал в крымский санаторий, так что в этом вихре потерялся сам и, главное, на долгое время потерял тех, кого очень хотел отыскать.
Осенью сорок пятого Иван Борщевский, в которого полгода госпиталей в буквальном смысле слова вдохнули новую жизнь, наконец вернулся в Киев. Здесь он сразу занялся поисками Анны. И выяснил только одно: уволилась и уехала, не сказавши адреса. Правда, ближе к концу года адрес таки нашелся. Иван мог узнать его и раньше, если бы близкие подруги Анны не решили пожалеть героя войны, скрыв от него правду. Борщевский сперва не поверил: найдя одним махом сразу двух близких людей, он тут же потерял обоих. Нужно было собраться с мыслями, принять решение, в конце концов – спросить у кого-нибудь совета. Хоть у Пашки Соболя, тот как раз тоже отыскался.
Да только по традиции беда не приходит одна.
Лейтенант Павел Соболь не только в роте, но и во всем полку считался везунчиком. С начала войны на передовой, а ранило школьного учителя всего дважды. И то шальные пули оцарапали, словно гвоздем зацепило. Демобилизовался везучий разведчик в конце августа прошлого года. А уже в ноябре попал в НКГБ по доносу.
Что-то не то кому-то сказал в ресторане по поводу того, как партия, правительство и лично товарищ Сталин относятся к героям войны. К фронтовикам, ковавшим победу в то время, как эти самые, из Политбюро ЦК ВКП(б), и разу не появились на фронте. Но указания великим полководцам, вроде товарища маршала Жукова, давали, небось, наперебой. Подробностей случившегося Борщевский не знал, навести справки было не у кого, и вот тогда решение пришло само собой. Собрав нехитрые пожитки, Иван отправился в Бахмач, где сразу направился в управление милиции – в гости к начальнику.
С той минуты, как фронтовой друг, давно похороненный, перешагнул порог его кабинета, и до сих пор майор Дмитрий Гонта, к своему величайшему стыду, так и не смог найти для себя ответ: действительно ли он рад внезапному воскрешению Борщевского. И не менее неожиданному появлению того не просто в его – в их с Анной жизни. До сих пор будто видел себя со стороны: вместо радостного крика и крепких объятий – неловкое, даже какое-то стыдливое молчание. Ведь Гонта сразу же, по глазам бывшего взводного понял: Иван приехал не просто так, знает все и сам не до конца понимает, чего хочет от своего бывшего командира.
Потому воскрешение Борщевского из мертвых прошло слишком уж буднично. Мужчины коротко пожали друг другу руки, а затем Иван сам, не дожидаясь, пока Дмитрий станет подыскивать подходящие и нужные слова, начал разговор: Павло арестован. Новость огорошила Гонту, но в то же время, по логике парадокса, оказалась палочкой-выручалочкой, помогшей ему оттянуть как можно дальше важный и неприятный для обоих мужчин разговор. Связавшись тут же, при Борщевском, с нужными инстанциями, с кем-то поговорив спокойно, на кого-то повысив голос, а от одного из невидимых собеседников даже потребовав некоторых действий, он в конце концов развел руками.
Ситуация оказалась даже сложнее, чем бывает в подобных случаях: как выяснилось, бывший гвардии лейтенант, командир разведвзвода Павел Соболь на одном из допросов не выдержал и ударил офицера госбезопасности. Хотя Павлу, как и Борщевскому, не было еще тридцати, допрашивал фронтовика, как удалось разузнать Гонте в процессе телефонного разговора, вообще какой-то сопляк. Сведения, конечно, не совсем точные, но вроде бы завела Павла фраза чекиста о том, что во время войны особые отделы и вообще весь НКВД работали, надо признаться, не всегда на должном уровне. Не всех врагов выявляли. Вывели бы вовремя на чистую воду таких вот, как Соболь, врагов, да побольше, – немец, глядишь, и до Киева бы не дошел. А то развели, понимаешь, в войсках паникеров с дезертирами да прочий антисоветский элемент…
Гонта поставил на место Соболя сперва Борщевского, после – себя, и вывод сложился однозначный: они поступили бы точно так же, как Павло. А касаемо Ивана, так этот вообще мог вырвать наглому сопляку кадык. Пусть это стало бы последним, что он мог сделать на этом свете. Непременно попытавшись утащить энкаведешника с собой. Только, отдав себе в этом отчет, Дмитрий понятия не имел, что и как можно и нужно сделать для спасения Павла. Ответа Борщевский ожидал, также не питая особых иллюзий. Сказал только: «Ты, командир, ближе к системе, наморщи ум. Глядишь, повоюем еще».
И тут же, без перехода: «Анна – как?»
Тем сырым ноябрьским вечером все трое собрались дома у Гонты за столом. Анна плакала, мужчины пили, разговора не получилось. Дмитрий пытался оставить Ивана ночевать, на что получил в ответ грубое: «Третьим, командир?» Понимая, что Борщевский пьян, в полной мере сознавая исключительную сложность создавшегося положения и даже отдавая себе отчет, что сейчас чувствует Анна, майор все равно не стерпел – ударил. Одного раза оказалось достаточно: Иван, неожиданно для бывшего командира, ответил, метя не в лицо – в грудь, сбил Гонту с ног, отбросил к стене, только дальше ни один из мужчин продолжать не захотел. Подхватив вещмешок, Борщевский ушел в ночь.
Утром Гонта, страдая от всего, от чего только можно, включая жуткое похмелье, лично принял, как рассказал после жене, остатки Борщевского от дежурного по линейному отделу на железнодорожной станции. Иван, со слов милиционера, пил в буфете до самого закрытия, угощая всех подряд и собрав вокруг себя кучу благодарных люмпенов. А когда рабочее время кончилось и заведение стали закрывать, устроил дебош, требуя водки. Даже грозил невесть откуда взявшимся пистолетом. При этом, сообщил дежурный, понизив голос до шепота, дебошир поносил не только товарища майора Гонту, но и поминал всуе таких людей, что, не будь дежурный сам фронтовиком и не уважай он начальника милиции изо всех сил… Короче говоря, сдать Борщевского из рук в руки товарищу майору дежурный счел своим долгом сегодня. Однако на будущее, пряча глаза, предупредил Гонту: рано или поздно вынужден будет сигнализировать, иначе на него самого уйдет сигнал – дескать, не отреагировал на выходки антисоветского характера.
Поговорить с проспавшимся Иваном у Дмитрия не получилось. Но решение Гонта принял быстро, как на фронте в критической ситуации: отпускать далеко от себя Борщевского не стоит. Иначе рано или поздно окажется либо на дне, либо – там же, где Соболь, даже, может быть, в соседней камере: гипотетически подобное начальник бахмачской милиции допустить мог. Поэтому, легко выяснив, что в Киеве, как и ни в одном из населенных пунктов Советской Украины и тем более – в масштабах всей страны, Ивана Борщевского никто не ждет и ничего не держит, Гонта предложил бывшему взводному остаться здесь.
На квартиру одинокого фронтовика взяла сердобольная Вера Михайловна, потерявшая в войну мужа, брата и сына. Была еще невестка, но ее угнали на работу в Германию, и с тех пор вестей от нее не было. Так что крышу над головой, угол и какой-никакой стол Иван в Бахмаче получил. Помог начальник милиции и с работой, похлопотал за фронтового друга и устроил грузчиком на железнодорожной станции. Для кого это делает – для него, для себя или для Анны, – майор объяснить не мог да не очень-то и хотел. Жена с тех пор справлялась о бывшем крайне редко, разве с учетом того, что законный супруг жив, переоформила надлежащим образом документы, перестав числиться вдовой офицера, вышедшей замуж повторно, – просто ради соблюдения бюрократических формальностей оформила с Борщевским настоящий, законный развод.
Но всякий раз, когда Иван срывался в пьяный загул – а такое за несколько месяцев со дня его появления случалось все чаще, – сперва квартирная хозяйка, затем работники милиции, никого, кроме майора Гонты, в известность об этом не ставили. Анна же, от которой Дмитрий не скрывал ничего, что касалось ее бывшего мужа, всякий раз на некоторое время замыкалась в себе.
То ли начинала отдаляться от Гонты понемногу, маленькими приставными шажками, то ли казалось это майору…
Молчали мужчины.
Тикали старые хозяйские ходики.
Дмитрий заговорил первым, стараясь держаться так, словно ничего особенного не произошло:
– Так что дальше, Ваня? Нагуляешься когда?
– А я не гуляю, командир, – парировал Борщевский.
– Пусть так. Повторю вопрос: уехать не надумал?
– Напомнить тебе, что ты же сам меня тут и уломал остаться? Гонишь теперь…
– Уламывают девок. Я по-хорошему хотел.
– Ага, очень хорошо. Ловко так. Усыновить вместе с Анькой, вот будто так и надо… С ложечки кормить… Я бы вам по хозяйству, дрова колол бы…
– Надоело, Иван. Одна и та же песня. Бесишься, чего хочешь – не ясно. Кому жизнь поганишь – непонятно. Жить здесь ты не можешь. Думал – сможешь, теперь понял – ошибочка вышла.
– А я где-то в другом месте иначе смогу? – ощетинился Иван.
– Ты так мне и не ответил, как Анна должна была поступить. Сколько раз спрашивал тебя, ответа нету. Вернулся ты, живой, даже подлечили, хоть сейчас в бой, если понадобится. И жена твоя, мужа похоронившая, меня сразу же бросает, перечеркнув все, что между нами было? Так ты думал, а, Иван?
– Сам не знаю, как думал.
– Вот-вот, потому-то и валяешься сейчас на полу пьяный, с мордой разбитой да рваный… Боевой офицер, разведчик, медали вон, ордена…
– Не бери на понт. Медали я заслужил. Жизнь такую после войны – нет. И ты, командир, прекрасно это знаешь.
– Знаю. – Гонта подошел к сидящему вплотную, присел напротив, заговорил тихо: – Знаю, Ваня. Получше тебя. Потому что знаний обо всем, что делается вокруг, у меня побольше твоего. Так уж сложилось, Иван. И наши с тобой дела касаемо того, кому Анна законная жена, а кого, как ты постоянно толчешь, предала, мелочи на самом-то деле. С Аней все в порядке будет, пока я живой, на своем месте да живу с нужной оглядкой. А вот если ты у меня здесь доиграешься, Борщевский, так же, как Павло уже нарвался, и не один он, кстати, – вот тогда женщине нашей… – майор специально сделал нажим на последнем слове, произнеся его, тут же повторил: – нашей женщине, Иван, очень плохо будет. Вот сам и наморщи ум. Соображай, считай – война кругом. Только воюем не с фрицами по ту сторону нейтральной полосы, а будто туда, за линию фронта, попали хрен знает за каким заданием. Колечко вокруг, и уцелеть надо. Пока положение на этом фронте не изменится.
Чувствуя – вот сейчас нашел для Борщевского нужные слова, Гонта медленно выпрямился. Слегка подтянул и поправил портупею. Одернул шинель, взял со стола фуражку.
– Ляпнешь по пьяной лавочке вот об этом нашем разговоре – сам понимаешь, чем для всех это кончится. Так сильно невмоготу – закройся здесь, в комнате, пей себе молча. Еще лучше – к нам заходи.
– К вам?
– К нам. Анна будет рада. Хватит уже, давно пора всем успокоиться и дальше жить. Мирное время все-таки, тишина, как говорится.
– Уже не гонишь из города?
– Сам гляди. Легче тебе станет – правда, уезжай. Устроиться помогу, люди сейчас не только в нашем районе нужны. Я тут все-таки кое-какой вес пока имею. Но решишь, что переболел всем этим, – оставайся, будем вместе держаться. Как тогда, на войне. Тебе решать, Ваня, короче говоря.
Надев фуражку, Гонта нашел взглядом зеркальце на стене, поправил головной убор, выровняв козырек с помощью растопыренной под углом ладони, снова машинально поправил портупею.
– И рубаху свою полосатую сними. Михайловна постирает и зашьет. Ее-то хоть не обижай. Кормит тебя, денег за койку не берет, хотя сама еле концы с концами сводит. Хлопот вокруг тебя чего-то слишком много… разведчик. На предмет прийти к нам в гости – думай. Анину просьбу передаю, чтобы ты знал…
2
Хозяин
Россия, Подмосковье, город Кунцево
Увидев Сталина, грызущего мундштук трубки, и при этом не учуяв в его недавно проветренном обслугой кабинете запаха табачного дыма, Берия понял: Хозяин снова не в духе.
Вот уже многие годы эта привычка подтверждала подозрения не только всесильного главы НКГБ, но и остальных, входящих в ближний круг единоличного правителя огромной страны: где-то происходит что-то не так, как товарищ Сталин замыслил. Начался ход событий, не на шутку обеспокоивший, встревоживший и вызвавший его недовольство. А значит, событие происходило отнюдь не из разряда рядовых.
Для Хозяина мелочей не было ни в одном деле. Но если он не курил, а держал в зубах либо незажженную, либо вообще не набитую табаком трубку, значит, повод для беспокойства появился довольно-таки серьезный. Не очередное желание свести с кем-то давние счеты либо сменить одну политическую фигуру на другую – такие решения давно стали для Сталина обыденным делом. Можно даже сказать, развлечением.
Но здесь случай не тот.
Обычно в подобных ситуациях Лаврентий Павлович понимал: Хозяин таким образом сигнализирует о вполне реальной опасности. И от него, не просто главного ответственного за порядок в стране, но и недавно избранного единогласным решением члена Президиума Центрального Комитета партии, потребуется принятие быстрого решения. Результат которого – локализация и последующая ликвидация угрозы, которую Хозяин в очередной раз почуял.
Зная Иосифа Сталина давно, Лаврентий Павлович научился предугадывать ход его мыслей. Но в то же время приобрел привычку страховать себя от ошибок, которые делали в разное время очень многие, кто пытался, образно выражаясь, бежать впереди паровоза.
Тем более что Берия знал причину сегодняшнего утреннего вызова на ближнюю дачу. Она была озвучена не так уж давно.
С некоторых пор Сталин окончательно переселился сюда, в Кунцево. Официально загородная резиденция, как и несколько ей подобных, считалась дачей. Но именно это двухэтажное строение в пригороде Москвы стало теперь главной резиденцией Хозяина.
В Кремле он появлялся все реже. И если приезжал в свой тамошний рабочий кабинет, для ближнего круга это было неким сигналом: дела в стране развиваются так, как того хочет товарищ Сталин. Нужно лишь обсудить и утвердить рабочие вопросы.
Местом же главных, наиболее непростых решений, он выбрал кабинет в кунцевском особняке. Который, по сведениям, полученным Берией от обслуги, Сталин почти не покидал. Здесь ел, спал, работал, принимал особо доверенных людей, обсуждая с ними и принимая решения, о которых не всякий должен знать.
…Тогда, три недели назад, когда Хозяин впервые откровенно заговорил с Берией о том, что его остро беспокоило, он так же неспешно прохаживался по кабинету.
Сшитые по спецзаказу сапоги из мягкой кожи делали шаги бесшумными. Сталин не ходил, а будто крался, стараясь, видимо, не тревожить лишним шумом даже самого себя. Мундштук пустой трубки он привычно грыз зубами. И этим же мундштуком ткнул в передовицу разложенного на столе свежего, датированного двадцать третьим февраля номера «Красной звезды»[16].
– Жуков, – проговорил он зло, даже еще раз постучал мундштуком по странице, повторил, не находя, видимо, других слов: – Жуков.
– Что-то не так, товарищ Сталин? – спросил тогда Берия, придав своему тону как можно больше официальности. Хотя здесь, на ближней даче, оставаясь с ним один на один, мог себе позволить назвать вождя по имени – Иосиф. Или даже Кобой, по давней партийной кличке: будучи еще Иосифом Джугашвили, тот носил ее, занимаясь до революции подпольной работой в Грузии, подписывая так свои первые статьи и воззвания в большевистской печати.
– Пишут все верно. – Злость никуда не исчезла, даже усилилась, но только в интонациях – внешне Сталин продолжал сдерживать себя. – Правильно пишут, Лаврентий. Как и положено, когда День Советской Армии: хвалят боеспособность, непобедимость русского оружия, заслуженно пишут, как наши войска сломали хребет фашизму. И заслуга в этом – маршала Советского Союза товарища Жукова! – Здесь Хозяин повысил голос, глаза недобро блеснули. – Великий полководец получился, если внимательно прочитать.
И, уже не желая сдерживаться, Сталин выругался матерно – коротко, без загибов. Никогда в мате особо не упражнялся, да только именно такая, словно выплюнутая сквозь пожелтевшие от табака зубы брань демонстрировала настроение Хозяина четче и точнее, чем самые длинные, близкие к истерике тирады.
– Жуков популярен в войсках, – сдержанно и ровно проговорил Берия. – Я уже просмотрел эту газету. О заслугах в нелегкой победе над Гитлером товарища Сталина как Верховного Главнокомандующего тоже упоминается постоянно.
Сколько именно раз авторы «Красной звезды» вспомнили о Хозяине в этом праздничном номере, Берия решил не уточнять. Оба прекрасно понимали: не указывать в связи с победой над фашизмом, да и вообще – не вспоминать о величии товарища Сталина и его учения где бы то ни было, в любом контексте, советские газеты – от заводской многотиражки до «Правды», органа ЦК партии, – не рисковали. Однако Берия сразу же понял: говоря правильные вещи, он по сути, разозлил Сталина еще больше. Невольно сказав то, что бесило Хозяина уже давно.
– Вот именно, Лаврентий – «тоже»! – Мундштук снова ткнулся в развернутый газетный лист. – Сначала – товарищ Жуков, а уже после, для приличия – товарищ Сталин! Капитуляцию в Берлине принял Жуков! Парад Победы на Красной площади – Жуков! На белом коне! Ты понимаешь, Лаврентий, что такой расклад может стать только началом?
После этих слов Берия ждал если не обвинений в свой личный адрес, то хотя бы укоров. Ведь Сталин решил не лететь в павший Берлин, чтобы принять у немецких фельдмаршалов капитуляцию вместе с союзниками, не в последнюю очередь вняв его, Лаврентия Павловича, советам. Немецкая столица горит, армия противника разгромлена и в панике разбегается. Но отдельные группы еще вооружены и способны огрызаться. И там по-прежнему передовая, ведутся локальные бои. Сталин же не может появиться в Берлине тайно. Значит, намекнул тогда Берия, вполне может найтись фанатик, даже не один, готовый рискнуть и покуситься на жизнь Верховного. Если здесь, в Москве, на своей территории, охрана непробиваема, то кто знает, как дело пойдет на территории хоть и разбитого, однако же – врага. Все придется организовывать на ходу, вдруг да упустят брешь.
Конечно, Сталин испугался.
И отдавал себе в этом отчет.
Потому капитуляцию и принял Жуков, став в одночасье маршалом Победы. При желании Хозяин мог, конечно, обвинить Лаврентия Павловича в политической недальновидности. Не учел, дескать, важности момента. Однако ожидания не подтвердились: в том, что напугали, он никого не обвинил.
Ну а насчет парада на Красной площади Берия сам решил промолчать. Ведь был прекрасно осведомлен, по какой причине Сталин сам не выехал на белом коне.
Знали об этом, кроме самого Хозяина, еще двое: Николай Власик, начальник его личной охраны, и Василий, младший, самый сложный из сталинских наследников. Власик, ясное дело, держал язык за зубами – проболтался в пьяном угаре Васька, мальчишка-генерал. Ляпнул где не надо, как на его глазах отец дважды упал с лошади, не удержавшись в седле. После чего махнул рукой: пускай Жуков верхом катается. Помолчал, добавил: «Авось его при всем честном народе норовистый конь тоже скинет, вот конфуз-то получится».
Не получилось: маршал – военная косточка, начинал кавалеристом, легко справился с лошадью, и не только Красная площадь – весь мир потом аплодировал маршалу Победы. Зарубежная пресса – та вообще восхищалась Жуковым, ставя его в один ряд с величайшими полководцами.
Тогда Берия начал догадываться, что гложет Хозяина. Чтобы подтвердить догадку, сказал осторожно:
– Жуков – военный. Он не политик и никогда в эти игры не играл.
– У тебя с памятью плохо, Лаврентий? – мгновенно отреагировал Сталин. – Де Голль – генерал, а руководит французским правительством. Кто там у нас еще – Тито? Премьер Югославии. И этот американец, Эйзенхауэр – кстати, нашего Жукова большой друг, – тоже, похоже, в правительство метит. Так что сегодня армией командует, завтра, глядишь, захочет руководить государством. Или не так?
– Со стороны Жукова ничего подобного ожидать не стоит, – все так же уверенно ответил Берия.
– Значит, Сталин, по-твоему, разучился думать?
Встретив хитрый и одновременно жесткий взгляд, Лаврентий Павлович решил смолчать, ожидая дальнейшего развития темы. И оно последовало. Держа в руке пустую трубку, покачивая ею в такт движения, Сталин прошелся по кабинету, продолжил, уже не глядя на Берию, будто беседуя сам с собой:
– Разве не ты мне докладывал, Лаврентий, что народ ропщет? Война закончилась, люди выстояли, а где лучшая жизнь? Где должное уважение к героям? Они все, – рука Хозяина очертила в воздухе неправильной формы круг, – почувствовали себя победителями. Что делает человек, когда побеждает? Он считает – ему, победителю, позволено все. Мы можем допустить, чтобы всем вокруг было позволено все?
– Нет, – коротко ответил Берия.
– А как ты думаешь, что может получиться, если народ однажды станет вспоминать товарища Жукова чаще, чем товарища Сталина? Он тщеславен, наш маршал Победы. Рано или поздно до него дойдет: за ним, по одному его слову поднимется вся армия. Не отдельные воинские формирования, не определенные рода войск – за Жуковым встанут все вооруженные силы Советского Союза. А народ их поддержит. Потому что товарищ Жуков принес ему победу над фашизмом! Вернулись мы к тому, с чего начали. Да, Лаврентий?
Берия снова ответил не сразу.
– Опасения, конечно, есть, – проговорил он, прекрасно понимая: сейчас с Хозяином лучше не спорить. – Тем более народ и правда разболтался, пока мы воевали.
И вновь промолчал: ослабить гайки, закрученные с его, Лаврентия Павловича, помощью, перед самой войной распорядился именно Сталин. Который в полной мере отдавал себе отчет: поражения первых месяцев войны и стремительный прорыв немцев через Украину на подступы к Москве объясняются, среди прочего, тихой ненавистью к власти. Это потом, когда люди в полной мере осознали, что немцы оказались, мягко говоря, ничем не лучше, началось организованное сопротивление. Потому – да, законы военного времени были суровы, только именно эта строгость, по логике парадокса, позволила людям вести себя свободнее. Ведь все сражались за Родину, каждый человек был на вес золота, волей-неволей с населением приходилось считаться.
Теперь же даже тем немногим вольностям, которые успел вкусить народ-победитель, должен прийти конец.
И здесь Берия в принципе готов был согласиться с Хозяином. Если победителей возвращать в то же стойло, откуда они вышли, вчерашние бойцы с командирами, которых массово демобилизовали, а тем более действующая армия, могут проявить недовольство. Вот тогда на первый план может выдвинуться фигура маршала Жукова.
…Они в тот день еще о многом говорили. Когда Берия попрощался, Сталин, словно его осенило только в тот момент, напомнил, как полтораста лет назад началось восстание тех, кого в истории называют декабристами. С одной стороны, сказал Хозяин, это была вроде как прогрессивная часть дворянства. Выступили против царского самодержавия, так же, как много позже они, большевики. Но ведь с другой-то – вышли против императора военные. Они самого Наполеона победили, по Европам прошлись, тоже вольницу почуяли: вот они какие, победители. Только в тот раз на простой народ военные не опирались, даже не думали о нем. Теперь время иное, да и народ другой: только недавно оружие держал, у многих оно даже на руках осталось, и вообще, вооружить страну именно Жукову вполне по силам…
Тогда, возвращаясь в Москву, Берия уже понимал, для чего Сталину понадобился подобный разговор именно с ним. Осталось найти решение. А вот этого Лаврентию Павловичу как раз и не поручили открыто. Хозяину очень нравилось озвучить некие мнения, либо же – что чаще случалось – опасения как бы невзначай. И сразу после этого услышать не просто хор, соглашающийся с прозорливостью вождя, но также главное – конкретные предложения по поводу того, как нужно действовать в том или ином случае.
Выходило – товарищ Сталин лишь наводил на мысль. Зарождал сомнения. Ну а все остальные только выполняли сталинские рекомендации.
Конечно же, неся за происходящее личную ответственность. Тогда как Сталин оставлял за собой абсолютное право либо возвышать старательных исполнителей его воли, либо – карать, если нужно было сыграть строгого, но справедливого правителя, которому в определенный момент перестала нравиться политическая недальновидность – если не глупость – соратника.
Лаврентий Берия справедливо относил себя к той немногочисленной категории входящих в ближний круг Сталина, на которых не распространялись риски сперва возвыситься, поддержав инициативу Хозяина, а после впасть в немилость. Теоретически от смены окружения никто не застрахован. Да взять хотя бы опыт предшественников Лаврентия Павловича: плохо закончили как Ягода, так и Ежов[17]. Не говоря уже о руководителях ведомства меньшего масштаба. Хоть взять, для примера, того же Балицкого…[18]
Но именно себя Берия с полной уверенностью относил к категории неприкасаемых: успел доказать, что нужен Хозяину на своем месте как никто другой.
Особенно теперь, после войны, когда нужно не только продолжать успешно налаженную лично Лаврентием Павловичем работу по проектам создания нового для страны вооружения[19], но и разгребать грязь, хлынувшую потоком уже после войны.
Потому сейчас он приехал в Кунцево, держась уверенно, чувствуя себя во всеоружии и подготовив для Хозяина четкий, наиболее приемлемый в создавшемся положении способ решения так беспокоившей того «проблемы Жукова». И тем не менее не форсировал, дожидался вопроса. Вместо этого Сталин сказал, вынув изо рта обгрызенный мундштук:
– Два дня назад я говорил с Жуковым по телефону. Напомнил нашему маршалу – Эйзенхауэр и Монтгомери их правительствами из Германии отозваны. Пора бы и ему возвращаться домой. Что скажешь?
– Встретим, – коротко ответил Берия.
– Чем? Должности для него нет. Заместитель Наркома обороны уже не нужен, Генштаб возглавит Василевский, флот – Кузнецов. Ему остаются сухопутные войска.
Берия пока не совсем понимал, к чему ведет Сталин, ответил уклончиво:
– Тебе решать, Иосиф.
– Ты сказал – встретим. А если подробнее?
Берия собрался, приготовившись к самому главному, выдержал короткую паузу, заговорил:
– Жукова ты отзываешь из Германии надолго. С чем обычно возвращаются победители? С трофеями, Иосиф. Каждый победитель имеет право на военные трофеи. Во все времена, от сотворения мира, ему давали три дня на разграбление города. Но что украшает победителя? – Стекла очков блеснули. – Настоящего победителя украшает скромность. Тем более, если речь идет о таком великом полководце, как маршал Советского Союза Жуков Георгий Константинович.
– Неужели нескромен? – Сталин изобразил удивление, и одновременно в его взгляде появился заметный интерес. Он даже оживился, перестал грызть пустую трубку, словно забыл о ней – а потом и вовсе положил на стол, обошел его, чуть приблизился к Берии. – Личную нескромность проявляет? Жадность обуяла? Неужели нахапал много? Ай да маршал Победы, ай да Жуков, ай да сукин сын!
– Несколько вагонов с его трофеями ушли из Германии, пока маршал еще находился там, – доложил Берия. – Но, по моим данным, это только первая, малая часть. Хотя и этого при желании будет достаточно для демонстрации того, что маршал Жуков – обыкновенный мародер.
– Даже так?
– Я ж говорю – при желании. Подобное поведение маршала Жукова может и должно, просто обязано возмутить многих офицеров, причем не только из высшего командного состава. Пойдут соответствующие рапорта. Все они непременно лягут на стол товарища Сталина. И вот именно тогда он должен будет поставить зарвавшегося и зазнавшегося Жукова на место. Кто знает, достоин ли будет человек, лишенный такого важного для офицера качества, как личная скромность, командовать сухопутными войсками страны? Я бы с трудом доверил такому человеку обычный военный округ…
– Хватит, – прервал его Сталин, сделав рукой неопределенный жест. – Пока, Лаврентий, по поводу личной нескромности товарища Жукова мне ни одного сигнала не поступало. Значит, он уже начал паковать трофеи, набрал их вагонами, и это – только начало?
– Именно так. Путь следования вагонов известен и контролируется. Я уже отдал соответствующие распоряжения.
Имелись еще кое-какие детали, касающиеся того маршрута.
Но о них Берия решил Сталину пока не докладывать.
Пусть будет сюрприз.
3
Запасной путь
Украина, Черниговская область, город Бахмач
Машины появились в половине второго ночи.
На крыше караулки прожектор установили в тот же день, когда взвод охраны заступил на пост, и его свет направили в сторону колонны, как только в холодной тишине мартовской ночи до часового донесся шум моторов. Сперва загудело вдали, со стороны станции. Но почти сразу же в темноте блеснули фары, стали уверенно приближаться. Сначала часовой видел только пару, но тут же сзади мигнула вторая, затем – еще, и уже через минуту рядовой, держа автомат наперевес, докладывал вышедшему на шум командиру взвода: к охраняемому объекту приближаются три грузовых автомобиля.
Тогда-то дали свет.
Луч выхватил из ночи три крытых полуторки, следовавших одна за другой по направлению к железнодорожной ветке, которая никуда не вела. Это был запасной путь, пост выставили двое суток назад, и командир взвода, младший лейтенант Игорь Дорофеев, получил четкие указания: без особого распоряжения не пропускать сюда никого. Не важно, когда и на чем приедет желающий попасть на охраняемую территорию. Не имеет значения, кем представится и какие документы покажет. Может козырять любой фамилией, ссылаться хоть на самого Господа Бога – как раз на этот, крайний случай младший лейтенант имел приказ послать его в Бога, душу и мать одновременно.
Три вагона, которые должен был охранять взвод Дорофеева, загнали в самый конец недавно проложенной колеи. Дальше запасной путь не просто обрывался: края рельсов оградили сложенными одна на другую шпалами, причем в три ряда. Дорогу предполагалось тянуть и дальше, но пока здесь заканчивался запасной путь. Под караульное помещение оборудовали один из пакгаузов, расположенный к охраняемым вагонам ближе остальных. Всю территорию не оцепляли и не охраняли. Станция Бахмач считалась не просто узловой – она по-прежнему оставалась одной из важнейших железнодорожных развязок. Сюда часто поступали вагоны с грузами, необходимыми для восстановления как станции, так и пристанционных территорий, не говоря уже о самом городе. Нужные вагоны загоняли на тупиковую ветку, и грузчики трудились у пакгаузов, иногда в две смены. Транспорта на железной дороге все еще катастрофически не хватало. Нужно было как можно скорее освободить его, а после – и пакгаузы, освобождая место для новых грузов.
Поэтому жизнь здесь не прекратилась с появлением трех вагонов и приставленной к ним охраны. Просто, как понял младший лейтенант Дорофеев, теперь, на время выполнения его взводом поставленной задачи, рабочий день грузчиков сократился на одну, ночную смену. Это, как понял взводный, существенно снизило темпы работы. Но, похоже, мужики, трудившиеся у пакгаузов, не особо расстраивались по этому поводу. В первый день кое-кто – кажется, из старших – пытался заговорить с ним и бойцами, интересовался, откуда служивые да что такое важное стерегут. Но, услышав в ответ короткое: «Не положено!», караульных оставили в покое. Уже на второй день считали их пост привычным явлением, словно так здесь было всегда. А вагоны, как и их содержимое, явно перестали всех вокруг интересовать.
Признаться, Дорофеев сам не знал, что охраняет его взвод. Даже не пытался полюбопытствовать, считал: ответ на данный вопрос не входит в выполнение поставленной боевой задачи.
Именно боевой: младший лейтенант, как практически все его бойцы, успел повоевать меньше полугода. Командовал ровесниками, с несколькими ребятами даже вместе, в одном эшелоне, отправился на фронт, воевал на Первом Белорусском, первый бой принял на Одере, а офицерское звание получил, отличившись в районе Бреслау. Погоны вручили в госпитале, ранение оказалось несерьезным, уже в апреле Дорофеев догнал своих, принял командование своим первым взводом и, когда немцы капитулировали, никому, даже самому себе не желал признаваться: а ведь хотелось дальше бить врага, не навоевался…
Вот почему, когда его, девятнадцатилетнего, неожиданно доставили сюда, в Бахмач, и поставили охранять три вагона на запасном пути, младший лейтенант воспринял это обычное задание как полноценную воинскую операцию, подойдя к выполнению задачи с полной ответственностью.
Командира взвода не предупредили о появлении грузовиков. Его вообще не поставили в известность, сколько охрана должна здесь находиться. Но пока Дорофеев отвечал за все, что происходило на вверенной ему территории, решения принимал он и только он. Поэтому, приказав осветить машины прожектором и подняв людей по тревоге, двинулся навстречу небольшой автоколонне, на ходу расстегивая кобуру. За ним, в нескольких шагах, держась с левой стороны, шел боец с автоматом.
Остальные быстро оцепили периметр.
Между тем угрозы от полуторок не исходило. У Дорофеева мелькнула мысль – заблудились люди. Судя по всему, машины шли пустые. Вполне могли прибыть за каким-то грузом, заплутать в ночи. Нужно проверить документы и путевые листы. Ведь просто так грузовики по ночам, да еще в районе узловой станции, кататься не станут.
Выйдя в свет фар, Дорофеев жестом велел головной машине остановиться. Махал левой рукой, правая все еще лежала на кобуре, пальцы расстегнули заклепку.
Он не смог не только достать оружие и задать положенные в таких ситуациях вопросы – даже не смог понять, что случилось, почему головная машина вдруг резко рванула вперед, летя всей массой прямо на него. Не успел увернуться, инстинкты не сработали: Дорофеева ударило, отбросило в сторону, яркий слепящий свет фар – вот последнее, что недовоевавший младший лейтенант увидел в своей жизни. Второй грузовик, свернув чуть в сторону, специально переехал тело колесами, давя голову, словно тыкву.
Шедший позади Дорофеева боец растерялся. Однако в его распоряжении оказалось немного больше секунд, чтобы успеть сорвать с плеча автомат и выйти из-под света фар, избежав столкновения с грузовиком. Это не спасло солдата: длинная очередь, выпущенная из кабины головной машины со стороны пассажира, не оставила ему ни малейшего шанса. Одновременно рявкнул автомат из машины, переехавшей взводного, – метили в слепящий прожектор, били прицельно, потушили в момент.
Территорию теперь освещали только фары полуторок. Из крытых кузовов на ходу высаживались вооруженные автоматами и пистолетами люди – кто в военной форме, кто в гражданской одежде. Выживи кто-то из бойцов в короткой схватке, больше напоминающей бойню, он непременно рассказал бы: напавших было меньше, но действовали они четко, слаженно, профессионально, быстро и уверенно. Света фар трех машин оказалось достаточно, чтобы пуля достала каждого солдата. Среди них было несколько первогодков, даже не успевших понюхать пороху, – и они просто растерялись, не понимая, кто стреляет в них и убивает в мирное время.
Нападавшие сразу же, как и было договорено заранее, разделились на две группы. Первая стремительно локализовала сопротивление, догоняя и добивая солдат. Вторая тем временем сбивала замки с вагонов. С тем, что стоял ближе всех, справились быстро. Два других оказались заперты крепче, чем ожидалось, но проблему решили быстро: в дужки висячих замков сунули по динамитной шашке, короткий фитиль догорел быстро, рвануло – и вот уже напавшие споро перегружали содержимое вагонов в крытые кузова. Нескольких выставили в охранение, но, судя по тому, как уверенно действовали остальные, специально командовать ими не было необходимости, план нападения был продуман с точностью до минуты – группа работала буквально по секундомеру.
Управились очень быстро. Где-то далеко уже ревела тревожная сирена, нужно было скорее давать деру, однако невысокий крепкий мужчина, руководивший операцией, пока не спешил.
Ему нужно было сделать еще одно, пожалуй, самое важное дело.
Только когда его люди щедро полили вагоны бензином из заранее приготовленных канистр, а после он сам поджег тот, к которому стоял ближе, и они вспыхнули, крепыш с чистой совестью посчитал операцию законченной.
Три крытых полуторки на полной скорости исчезли в ночи, провожаемые отблесками пламени.
Начальник областного милицейского управления появился в кабинете майора Гонты, когда начальник милиции лично допрашивал начальника станции.
И от этого утомительного процесса взопрел.
Не потому, что это было первое вооруженное ограбление, которым Дмитрию приходилось заниматься. Наоборот, еще во время войны сперва бывшие полицаи, не успевшие уйти с немецкими хозяевами, потом – дезертиры, многие из которых в недавнем прошлом были уголовниками, да и обычные бандиты, остававшиеся такими при любой власти, несмотря на военное время, промышляли на освобожденных территориях. Грабили все, что можно было ограбить, особо наглые атаковали продуктовые базы воинских частей, в людей стреляли без содрогания. И как раз на усиление борьбы с разгулом бандитизма бросали пришедшее в органы пополнение из числа фронтовиков. Поэтому картина, которую застал Гонта на станции у запасного пути возле пакгаузов, для него, к сожалению, чем-то невиданным не была.
Но вот уже битых три часа Дмитрия всецело занимало другое.
Начальник милиции безуспешно пытался получить простой и ясный ответ на элементарный вопрос: что похищено из уничтоженных огнем вагонов. Соответственно, почему для их охраны выставили специально присланный взвод солдат. И, раз уж содержимое вагонов было для кого-то очень важным, почему не поставили охранять груз подготовленных бойцов из подразделений МГБ. Или хотя бы опытных, желательно обстрелянных бойцов, взятых из ближайшей воинской части. Нет, груз, который для кого-то явно был настолько важен, что его загнали на тупиковую ветку стратегически важного железнодорожного узла, поставили под охрану зеленых мальчишек.
Ладно, решил Гонта. Ответы на этот и другие вопросы появятся только после того, когда он выяснит, чей груз и что было в вагонах. Однако такой элементарный вопрос, который решал обычный просмотр сопроводительной документации, повис в воздухе, став чуть ли не главной загадкой случившегося. Начальник станции Игнат Николенко, худой, с красными глазами, рано постаревший и все время, даже летом, простуженный, занял на этой высоте неожиданно крепкую оборону.






