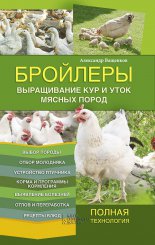История Кометы. Как собака спасла мне жизнь Падва Линнет

– О, Вулфи! – улыбнулась жена. – Ты хотел удивить меня? Научил Комету открывать двери? – Ее голос звучал так тихо и нежно, что я смутился.
– Комета, иди-ка поиграй со своей обезьянкой в гостиной, а я пока расскажу жене, какая она красивая.
Думаю, борзая не обиделась из-за того, что я закрыл перед ее носом дверь.
Через два дня в Седоне собрались Фредди, Джеки, моя мать и сестра Дэбби, а у Кили и Линдси были другие планы на праздники и они не приехали. В первый раз я справлял Рождество без дочерей, и у меня возникло ощущение, будто мне ударили по сердцу кувалдой. Мрачного настроения не улучшали смутные подозрения, что девочки просто не хотят находиться рядом со мной. Я и сам испытывал подобные чувства к бабушке, когда той из-за диабета ампутировали ногу. Тогда мне было тринадцать лет – в принципе достаточно зрелый возраст, чтобы из сострадания не замечать пустую брючину. Но ее вид меня нервировал. Я не мог отвернуться и не думать о ней. Я любил бабушку и стыдился своей брезгливости, но ничего не мог с собой поделать. Мне было проще ее избегать. Вот и дочери, вероятно, вместо того чтобы провести часть каникул со мной и часть – с матерью, решили, что, мол, будет интереснее, если они останутся на все праздники с мамой во Флориде. Чертовски обидно, но я могу их понять.
Не воодушевляло и то, что родные прохладно отнеслись к новым способностям Кометы открывать двери. Я успокаивал себя тем, что в их представлении это всего лишь фокусы дрессировки, и они не слишком впечатляли. Настроение стало подниматься, когда я узнал, что Джеки поедет домой с моей сестрой, а следовательно, Фредди сумеет задержаться у меня еще на неделю.
После того как остальные покинули нас, жена погрузилась в Интернет и стала изучать все, что касалось служебных собак.
– Вулфи, – нахмурилась она, глядя на экран, – представляешь, оказывается, не существует никаких стандартов сертификации. Из того, что я поняла, есть только пожелания, как должна вести себя собака и какие виды помощи оказывать хозяину. Собакам не положено ни специальных бирок, ни формы. Единственная неприятность, которая может случиться, – собаку выгонят из общественного места, если она станет лаять, бегать или мешать людям.
– Вообще никаких установленных законом стандартов? – удивился я. Мне пришло в голову: если Комета поведет себя плохо и нас откуда-нибудь выгонят, то больше никогда туда не пустят. – Я хочу, чтобы все было по закону. И в этом смысле очень важно и разумно иметь правила поведения и минимальные требования к служебным собакам.
В ту неделю мне удалось научить Комету новым приемам. Я хотел, чтобы она открывала снабженные ручками двери без шума, и на время урока попробовал пристегивать к ее ошейнику поводок. Это помогло: то, что я держал поводок в руке, заставляло борзую сосредоточиться на поставленной задаче. К тому времени, когда Фредди села в идущий в аэропорт автобус, Комета гордилась умением нажимать лапой на все дверные ручки в доме. Закончились мои мучения, когда мне приходилось пробивать себе дорогу в другую комнату животом.
Пока мы ждали автобуса, Фредди напомнила:
– Не забудь о тех вещах, которые я заказала для Кометы. Ярко-красная жилетка с вышитой по бокам надписью «Служебная собака». Специальный ошейник и поводок для собак-помощников. Таким образом, когда вы очутитесь в общественном месте, окружающие поймут, что Комета на работе. – Ее слова вырывались вместе с облачками замерзшего пара. – Я горжусь тем, что ты дрессируешь ее. – Поцелуй, последнее облачко пара – это все, что мне осталось: жена уехала.
Поразительно, насколько разумная поддержка способна мотивировать человека. После того как привезли служебную жилетку Кометы, я загорелся обучить ее так, чтобы мы превратились из созерцателей витрин в полноценных покупателей, которых пускают в магазины. Было еще много такого, что борзая должна была усвоить в доме. И меня не покидало ощущение, будто с каждым месяцем этот список будет только расти, но волновала перспектива снова выходить в мир и вращаться в нем не с таким трудом, как теперь.
Я понимал, что площадку для обучения следует выбирать с осторожностью. В Северной Аризоне очень мало собак-помощников. Многие даже не слышали термина «служебные животные». Общее мнение таково: если человек не слепой, нечего ему приводить собаку в магазин. Поэтому я решил, что наши первые уроки состоятся во Флагстаффе – большом городе, где продавцы должны быть лучше информированы.
На полпути я остановился передохнуть и устроить предварительные испытания. Припорошенные снегом песчаные холмы мало походили на заполненные магазинами городские улицы, но Комету это не волновало. Ее подзадоривал пропитанный ароматом сосен прохладный воздух, и она радостно крутилась на новом поводке. То, как Королева выступала по переулку с гордо поднятой головой, свидетельствовало о том, что она довольна своим новым красным нарядом.
На въезде во Флагстафф я заметил несколько торгующих по сниженным ценам универмагов и решил, что они подходят для нашего первого опыта совместного посещения магазина. Короткий черный поводок позволял удерживать Комету рядом со мной. Ей хватило дня, чтобы научиться так ходить. Урок был несложным – она сама не желала отдаляться от меня, – однако я счел разумным ухватиться за поводок с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Комета же ничуть не волновалась и вошла в магазин той же горделивой походкой, какой несла себя во время нашей остановки на отдых.
Меня не смутило, что продавцы встретили наше появление настороженными взглядами. За нами пристально следили, и я почувствовал себя водяным буйволом, окруженным со всех сторон львами. Комете же взбрело в голову изобразить луговую собачку. Она встала на задние лапы, положила голову на выложенные на прилавки товары и завыла на какой-то предмет в дальнем конце магазина, показавшийся ей особенно заманчивым. От ее неожиданного рывка я потерял равновесие и стал валиться навзничь, и пока исполнял неторопливую мертвую петлю, собака вырвала из моей руки поводок и дала деру.
– Комета, девочка, ко мне!
Борзая даже не оглянулась и неслась к какой-то ведомой ей одной цели. Что ее так привлекло? Охранник! Трижды борзая вырывала поводок из моей руки и уносилась к своему принцу. Он стоял у бокового выхода и следил, не заглянет ли в магазин воришка.
– Прошу прощения, – произнес я, подходя к охраннику.
Сидя на корточках, он почесал собаку за ухом, а она смотрела на него с обожанием юной девицы.
– Вот почему мы не разрешаем заходить с собаками, – объяснил он и поднял голову. Но назидательный тон тут же превратился в сюсюканье, как только охранник снова повернулся к Комете. – Но ты ведь воспитанная… А кто ты, кстати, мальчик или девочка?
Поскольку из нас двоих, похоже, я один понимал, что Комета не умеет говорить, пришлось взять на себя труд представить ее охраннику.
– Это Комета, – сказал я, – самка борзой. Сейчас учится, чтобы стать служебной собакой. – И, заметив удивление в глазах охранника, показал на свои палки и добавил: – Помогать мне в обиходе – открывать двери и все такое прочее.
– Не слишком-то старается, – усмехнулся охранник. – Наверное, отдала все силы, когда училась быстро бегать. Угадал, девочка?
Я покраснел до корней волос и потащил Комету к выходу. Она натягивала поводок и сворачивала шею, стараясь посмотреть на охранника.
– Что ж ты его не зацеловала? – пробормотал я.
У меня возникло ощущение, будто меня выставили с баскетбольной площадки за ошибку зеленого новичка, не удосужившегося посмотреть на табло. Зрители улюлюкали, а я ведь даже не успел поиграть. Проехав пятнадцать миль по дороге обратно в Седону, я успокоился и начал размышлять о странном поведении борзой. Второй раз она потеряла голову при виде мужчины в форме. Первым ее любимцем стал Джордж, охранник с озера. Он получил сполна собачьих нежностей – и тыканья носом, и виляния хвостом, и заигрываний, – когда пришел проверять байку о полосатом койоте. С тех пор Комета почти навязчиво заигрывала с ним.
В памяти всплыли обрывки разговоров из мира борзых. Где-то я слышал об охраннике, который спас брошенную на кинодроме собаку. Он вызвал ей ветеринара и каждый день навещал, пока борзая не поправилась настолько, чтобы ее могли забрать спасатели. Была ли той собакой Комета или другая борзая, но теперь я не сомневался, что когда-то в прошлом с Кометой был добр человек в форме.
– Комета, мне кажется, существуют какие-то более нейтральные способы выражать благодарность.
Я посмотрел в зеркальце заднего вида. Собака отвернулась к окну, не обращая на меня внимания. Я прекрасно знал по своим дочерям эту женскую манеру. Что ты понимаешь в таких вещах? Ты старый, к тому же мужчина.
Стоило ли ездить во Флагстафф, чтобы подвергнуться подобному унижению? Поездка плохо подействовала на меня, и следующие несколько дней я был вынужден провести дома. К счастью, Ринди дала мне номер телефона энергичной соседки, которая любила выгуливать собак. Кроме нее была еще и Эмили. С ними двумя я не волновался за Комету в те дни, когда болезнь обострялась и я не мог выгуливать ее. И еще я воспользовался советом Ринди и стал заказывать продукты на дом. Комета влияла на меня положительно.
Разрабатывая стратегию нашей жизни в Седоне, я постоянно искал для нее юридические основания. Моей целью являлось насколько возможно избегать конфликтов. Рабочая жилетка Кометы могла убедить людей, что она выполняет высокую миссию, но во Флагстаффе это не действовало. Я изучил Интернет и выяснил, что владельцы различных заведений имеют право интересоваться, инвалид ли я и является ли Комета служебной собакой. Но если они начнут допытываться о деталях моих увечий и спрашивать, какого рода помощь оказывает мне Комета, их можно привлечь и они будут оштрафованы. А если не пустят Комету в магазин или попросят выйти – что ж, для наказания подобных людей в службе генерального прокурора существует специальное подразделение. Однако благодаря своей профессии я знал, что между буквой закона и практикой большая разница – не так-то легко пустить в ход юридическую машину, чтобы заставить кого-то подчиняться правилам. Поэтому самый легкий путь – избегать конфликтов.
Я решил, что пока стану заниматься с борзой за порогом, но не в торговых залах. Мы могли сосредоточиться на лестницах, которые для меня представляли сложность, а Комета им до сих пор не доверяла. Она, как и другие живущие на кинодроме беговые собаки, с лестницами не сталкивалась. На озере ей приходилось преодолевать ступени, если она бежала из дома на берег или обратно, но она так до конца и не освоилась с ними. И в этом смысле многочисленные лестницы в торговом центре Седоны могли послужить отличной площадкой для тренировок.
Наш первый опыт состоялся до обеда в будний день. Мы остановились на парковке у лестницы, и несколько минут у меня ушло на то, чтобы застегнуть жилетку на груди и животе Кометы. И вот из внедорожника появилась борзая в своем новом классном прикиде. Последовав за ней, я заметил, что она шагает с горделиво-самодовольным видом гида, сопровождающего приехавших в страну красных скал иностранных туристов. Я предоставил собаке выбирать путь, и ее нос повел нас за собой. Лишь обнюхав все, что было в досягаемости, Комета позволила направить себя к лестнице.
– Ну, что скажешь? – спросил я у борзой, а сам следил за поднимающимися и спускающимися по ступеням людьми.
Оставив палки на ближайшей скамье, я взялся левой рукой за разделяющие лестницу перила и, намотав поводок на правое запястье, начал подъем – ступенька за ступенькой, отдыхая на каждой. Сначала Комета якорем тянула назад и соглашалась сделать шаг вверх, лишь когда я тянул за поводок и щелкал языком. На каждой остановке я чесал ей шею и говорил, какая она хорошая девочка. Поскольку Комета отлично реагировала на звук моего голоса, я решил не пользоваться металлическими кликерами из тех, которые применяют профессиональные дрессировщики.
К середине лестницы собака достаточно освоилась и поднималась наравне со мной. Несколько раз я, как подпиленное бензопилой дерево, опасно кренился то вперед, то назад, чуть не опрокидывался, но умудрялся сохранить равновесие, положив на спину борзой ладонь. Она безропотно терпела мой вес, подобно тому, как чистокровный скакун терпит на себе наездника. Ни разу не уклонилась и не шарахнулась в сторону. Отдыхая, я слышал шепотки проходивших мимо людей:
– Что это за порода?
– Какая красивая!
– Смотри, как она помогает этому мужчине. Удивительно!
Отдохнув и купаясь в отраженных лучах славы Кометы, я сделал шаг вверх и заметил на вершине лестницы человека. Он был во всем белом: брюках, свитере, ботинках, носках – и держал на руках кота. Мужчина смотрел на Комету. Не сводя с него взгляда, я продолжал мучительное восхождение к вершине.
– Что вам здесь надо? – осведомился он.
– Мы знакомы? – откликнулся я.
– Надеюсь, нет, – последовал высокомерный ответ. – С собаками сюда нельзя.
– С чего вы взяли?
– Во-первых, при входе висят знаки! Во-вторых, я здесь ответственный.
Не успел я парировать его выпад упоминанием о законе об инвалидах, как Комету, которой все это надоело, направилась к коту. Ее приближение так напугало господина в белом, что он застыл, словно превратился в кусок цемента. Без малейшей угрозы борзая поднялась на задние лапы и ткнулась влажным холодным носом прямо в кошачью мордочку. С пронзительным, душераздирающим визгом кот вырвался из рук мужчины и бросился в ближайший куст. Гейм, сет, игра! Мы оставили их искать друг друга в сплетении ветвей и, спускаясь по лестнице обратно к стоянке, радовались хорошо проделанной совместной работе.
В последующие недели мы с вновь обретенной уверенностью в себе принялись исследовать другие деловые кварталы Седоны. Поролоновый матрас в багажнике внедорожника превратил машину в шикарную собачью гостиницу на колесах. Комету не покидало душевное равновесие, и она терпеливо ждала, когда начнется новое приключение. Зимой на улицах города стало больше людей, и это открыло новые прекрасные возможности обучения. Сначала я ограничивался упражнениями на послушание в многолюдных местах. Вскоре Комета научилась не спешить и, согласовывая свой шаг с моим, не обращать внимания на разнообразный зверинец домашних любимцев и попадающихся навстречу бродячих собак. Ноздри борзой, как и мои, раздувались от манящих запахов горящих углей и поджаривающегося мяса, доносившихся из многочисленных ресторанов, но Комета не тянула меня в двери, как бы ей туда ни хотелось.
Разгуливать с Кометой было все равно, что ходить в компании рок-звезды. Люди таращились на нас, показывали пальцами, застывали в удивлении, а затем подходили и задавали те же вопросы, какие я сам задавал Мэгги: «Что это за порода?.. Она постоянно такая невозмутимая?» Не всегда хотелось останавливаться и заводить разговор, но борзая вскоре усвоила, что мои слова: «Поздоровайся, Комета», – подобны объявлению пажа, что Королева дозволяет подданным приветствовать ее. Она поворачивалась с наигранным нежеланием выслушивать комплименты, которые так и сыпались на нее.
– Какая она спокойная!
– Шерсть как кроличья шубка!
– Очень изящная!
– А глазки-то какие красивые!
Собака поглощала их, словно печеночное печенье.
Когда потеплело, в городе прибавилось автомобилей. Считается, что туристы всегда желанные гости, но многие владельцы магазинов по-крестьянски реагировали на новые толпы гостей: если дождь идет, слишком сыро; если дождя нет, слишком сухо. Когда после зимнего затишья появляются туристы, уж слишком их много и слишком неожиданно они приезжают. Терпимость становится такой же редкостью, как настоящие кактусы-сагуаро в долине Монумент (не верьте вестернам – они там не растут).
Зная о раздражении в обществе, я еще несколько недель упражнялся с Кометой на улице, прежде чем решиться привести ее в местный магазин. Я остановил выбор на художественной галерее, выходящей на главную шумную городскую улицу. И любовался статуэткой юной девушки навахо, когда услышал кашель. А повернувшись, столкнулся взглядом с круглолицым, аккуратно одетым мужчиной средних лет.
– С собаками сюда нельзя.
Начинается…
Я занял оборону, и мой противник, поняв, что меня не так-то просто выставить, покраснел как рак. Рядом с ним на полу стояла картина, и она буквально вибрировала от его прикосновения.
– Прошу прощения, я не собирался нарушать правила, – произнес я, – но Комета проходит курс обучения, чтобы работать служебной собакой.
Свои слова я подтвердил эффектным жестом в сторону борзой. Комета же повела себя странно: насторожила уши, в глазах блеснул вызов. Она не спеша направилась к картине и, нагло ткнувшись мокрым носом в стекло, оставила размытый автограф.
– Никаких собак! Запрещено! Вам что-нибудь двоим непонятно? – Насмешливая улыбка совсем не смягчала его лицо, которое теперь приобрело синюшный цвет.
– Отчего же. Все понятно. – Я не повышал голоса. – Понятно, что генеральный прокурор США не посчитает, что незнание вами законов достаточное основание для вашего оправдания. – Я повернулся и поковылял прочь, но у двери остановился и показал на своего обидчика палкой. – Даю вам пару дней на то, чтобы переговорить с адвокатом, а затем вернусь принять извинения.
На улице я принялся ругать Комету:
– Не стыдно тебе? Если бы не ты, я мог бы остаться и целый день проговорить с приятным человеком.
И в раздражении представлял фантастическую картину: продавец яростно пытается стереть липкую отметину Кометы, разбивает стекло, режет себе артерию, падает на пол, и сверху его накрывает картина. Мы сели в машину и, отъехав от мест скопления туристов, стали искать на городских улицах местечко поприветливее. Вскоре мне приглянулась галерея, расположенная в современном здании из стекла и бетона. Она манила большой, широкой лестницей, которая с середины первого этажа вела на яркий и красочный второй.
Нас тепло приветствовала моложавая блондинка. Ее обращение отличалось от того, что нам недавно пришлось пережить, и от моего гнева не осталось и следа.
– Здравствуйте! – Я протянул руку. – Меня зовут Вулф. А это Комета.
– А я Линда Голдштейн. Рада познакомиться. – Она наклонилась и, заглянув борзой в глаза, серьезно сказала: – И тебе тоже очень рада, Комета.
– Вы не выставляете людей, если приходят к вам с собаками?
– Формально хозяин не разрешает приводить сюда животных, но если собака хорошо воспитана, проблем не возникает. Особенно с такими собаками, которые обучены помогать людям. – Линда покосилась на жилетку Кометы.
Уж не провалился ли я в какую-то дыру во времени?
– Вам бы преподать урок коллегам из других заведений. – У меня не выходило из памяти, как нас встретил господин в предыдущей художественной галерее. – Через два дня я собираюсь вернуться туда, и, поверьте, встречу совершенно иной прием.
– Вы пришли осмотреть какую-то определенную экспозицию? – поинтересовалась Линда.
Если бы она знала, как мало я знал о том, что творится в области искусства на юго-западе. А в галерею заглянул, решив, что это хорошая возможность потренировать Комету.
– Я настолько несведущ в области искусства, что не представляю, что бы мне хотелось увидеть. И вот завернул посмотреть, что у вас здесь выставлено.
Когда Фредди навещала меня, то обязательно интересовалась искусством юго-запада. Однажды она показала особенно запомнившийся мне портрет коренного американца. И теперь я удивился, заметив на втором этаже галереи тот же портрет. Техника живописи была одновременно реалистической и словно бы неземной, насыщенные краски будто играли на поверхности холста. Молодой индеец с обнаженной грудью смотрел прямо на зрителя, его кожа блестела, лицо открытое, я бы сказал, современное. Он был изображен на белом фоне, где в глубине висела луна. Простой головной убор – всего два пера, – гармонично сочетаясь с луной, зрительно уравновешивал всю композицию. Плечи индейца покрывали татуировки – круглые символы племени. Вероятно, из-за точного, почти мистического соединения визуальных элементов картины или выражения лица изображенного на ней молодого человека – открытого и в то же время недоступного – я не мог оторвать взгляда от портрета.
– Что вы об этом думаете? – спросила Линда, подойдя ко мне сзади. Но я был настолько увлечен, что даже не обернулся. – Имя художника Бен Райт, – продолжила она. – В нем есть кровь чероки. Тема его работ – древние культуры кроу, шайенов, лакота и других.
Тот, кто родился в Айове и жил в Небраске, не употребляет выражений: «возвышенный, трогательный, захватывающий». Особенно прилюдно. «Прекрасно!» – это все, на что я был способен.
Я не был игроком на рынке приобретения предметов искусства, но тот день стал началом увлекательного познания этого мира. В мои последующие визиты Линда сообщила мне основные сведения о начинающих и именитых художниках, посвятила в азы искусства от мебели до бронзы и написанных акриловой краской картин. Комета, как заправский менеджер, встречала других посетителей, но держалась вежливо на расстоянии, пока я не разрешал ей поздороваться. Лестница галереи превратилась в нашу тренажерную площадку. Борзая мужественно поддерживала меня, оставаясь рядом, и ее поведение резко отличалось от прежней беготни вверх и вниз по ступеням. К счастью, она больше не проявляла интереса к предметам искусства. Извинения, которые пробормотал нам служитель и хозяин первой галереи, когда мы снова явились туда, видимо, излечили Комету от желания выставлять себя критиком-искусствоведом. Мне же было приятно сознавать, что моя помощница может отстаивать свою точку зрения, пусть и своим, особенным, только ей присущим способом.
9
Февраль – май 2001 года. Аризона
Всю зиму я прилагал усилия, чтобы обучить Комету. Поняв, в чем заключается задача, она охотно принимала на себя новые обязанности. Я натренировал ее хватать меня спереди, когда я садился в кресло или вставал. Если требовалось, она поддерживала меня во время прогулки. Терпеливо ждала перед автоматическими дверями, чтобы у меня было время пройти. Если спазмы валили меня на пол, наклонялась, давая возможность взять ее за ошейник, и тогда тянула, помогая подняться на колени и встать.
Перед началом обучения Кометы я наблюдал за ее играми с набивными игрушками, которые она собрала во время наших походов по магазинам. Собака, как кошка, терзала их передними лапами, тянула по полу, отвешивала тяжелые шлепки, а затем высоко подбрасывала вверх, чтобы поймать, накрепко вцепившись зубами. Эту ее сноровку я и использовал, когда учил открывать двери. Сначала Комета хватала пастью привязанную к ручке двери игрушку и, потянув вниз, открывала замок, но затем усвоила, что проще нажимать на ручку передней лапой, как делают люди.
Увидев, с какой легкостью Комета раздирает набивные игрушки, я решил, что ее нужно научить умерять натиск. Поскольку грейхаунды, или английские борзые, высокие и худощавые, многие, заблуждаясь, считают, будто они слабые. У них необыкновенно подвижная спина, и поэтому они умеют сворачиваться калачиком (опять-таки как кошки) и во время сна занимают меньше места, чем большинство собак крупных пород. Но их кошачья грациозность – обман зрения. Английские борзые не только высокие, но большие и сильные собаки. Люди с удивлением замечают, насколько велики их следы – больше, чем у ретриверов и лабрадоров. А отсутствие жира или телесной массы они компенсируют наличием жилистого, мощного, скорого на реакцию мышечного волокна. У них такой запас прочности от позвоночника до мускулатуры задних ног, что позволяет во время любого махового шага отрываться от земли всеми четырьмя лапами, когда они поджаты и вытянуты. У английских борзых сердце больше, а процент быстро сокращающихся мышц выше, чем у других пород. И благодаря такому двойному действию их аллюр самый быстрый из всех собак. Все это означает, что в породе борзых нет ничего изысканного или чисто декоративного, включая шею, которая, как я успел заметить, бьет мягкую игрушку с такой силой, что та стремительно летит через комнату, пока не встречает солидного препятствия.
Передо мной стояла нелегкая задача, когда настало время научить Комету еще одному навыку собаки-спасателя – приносить мне мобильный телефон. Я бросал телефон на ковер, она пробовала пластик на зуб и тут же выплевывала с видом крестьянина, взявшего в рот виноградную улитку. Я решил, что сумею решить эту проблему, засунув аппарат внутрь мягкой игрушки, благо их было много в той коробке, которую я раньше отнес в гараж. Комета скоро усвоила, что если принесет ту игрушку, у какой звенит в животе, то получит печеночное лакомство. Трудность заключалась в том, что борзая не обладала свойствами ретривера. Она не приносила предметы, а сжимала их в зубах и резким движением сильной шеи с космической скоростью посылала через комнату. Первый телефон, полученный мною по такой авиапочте, угодил мне со скоростью девяносто миль в час прямо в лицо. Синяк держался неделю. После этого я всякий раз пригибал голову, когда начинались наши телефонные упражнения. Две разбитые лампы и несколько дыр в гипсокартоне небольшая цена за то, чтобы уберечь свои скулы.
Со временем я извлек телефон из плюшевой обезьянки. А травм избежал потому, что Комета научилась терпеть в пасти звенящую пластмассу столько, сколько требовалось, чтобы принести телефон ко мне и бросить у ног, откуда я мог поднять его механической хваталкой. Телефон не нравился ей на вкус, однако Комета все-таки стала оставлять его на какой-нибудь твердой поверхности неподалеку от моей головы. Я же, все здраво оценив, стал требовать мобильник лишь в крайних случаях, а награждать собаку, если мы ничего не разбивали и дело обходилось без кровопролития.
Вскоре Комета усвоила столько навыков собаки-помощницы, что существенно облегчила мне жизнь. То, что раньше выводило меня из себя и ставило в тупик, превратилось в командные упражнения – функциональную хореографию, – отчего мы оба были довольны собой. А факт, что занятия проходили весело и шумно, стало дополнительным бонусом, поддерживающим мои нейрогормоны и помогающим забыть о реальности. А она заключалась в том, что с каждым днем я становился все более немощным.
Самым большим сюрпризом было влияние наших занятий на мою жизнь вне дома, которая совершенно изменилась. Когда притягательная личность Кометы оказалась допущенной в магазины или галереи Седоны, мой мир расширился самым неожиданным образом. Галерей в этом городе было больше, чем питейных заведений, что меня удивило. В маленьком местечке, где я вырос, с количеством баров могло поспорить только количество церквей. Линда стала моим гидом в мире креативного сообщества и познакомила со многими талантливыми художниками, скульпторами и другими людьми искусства. Для меня оказаться в пространстве галереи было такой же экзотикой, как путешествие на Бали. Цвета, материалы и даже запахи – дерева, масляных красок, шерстяных волокон и уайт-спирита – обостряли чувства и разжигали воображение.
Я не мог поверить, что эти места я много раз проезжал мимо, разве что отмечая причудливые фасады зданий. Не будь у меня Кометы, я бы не подумал ходить по галереям. Было бы слишком трудно бродить по подобным местам и не спотыкаться, а я прекрасно сознавал, как ведет себя мое тело. С Кометой я открывал двери, и нам приветливо кивали.
Через три недели после нашего знакомства с Линдой я остановился у галереи. Во дворе около здания заметил высокого, крепко сложенного мужчину, перед чистым холстом на старом деревянном мольберте. Он стоял ко мне спиной, поэтому я видел только рассыпавшиеся по плечам черные с проседью волосы, прямые пряди струились по белой майке, заправленной в синие джинсы без ремня.
Линда вышла поприветствовать нас и тихо пояснила:
– Это Бен Райт. Я попросила его в этом месяце вести у нас мастер-класс. – Она повысила голос: – Бен, у вас найдется время познакомиться с моими друзьями?
Прежде чем художник успел ответить, Линда провела нас к нему. На полке рядом с мольбертом я заметил пузырьки с красками и стеклянные кувшины с кистями, карандашами, скребками, ножами и другими инструментами. Тихий теплый сухой ветерок принес запах мескита, льняного масла, земли и пряного шалфея. Я не сомневался, что Комета тоже впитывает запахи и звуки, но ее взгляд сосредоточился на застывшем в молчании у мольберта мужчине.
Когда молчание уже стало неловким, художник обернулся. Его лицо избороздили морщины, но живая улыбка придавала облику мальчишеский вид.
– Извините, – произнес он, – я как раз заканчивал благословлять это место воскуриванием шалфея.
Он протянул ладонь, чтобы пожать мою руку, и по его жесту я понял, что такие благословения, требующие потом извинений, – рутинная часть его работы. На мгновение мне показалось, будто он сейчас представится Гэндальфом.
Ростом Бен был шесть футов три дюйма, крепко сложен и широкоплеч, как непробиваемый защитник институтской футбольной команды. Он был наполовину чероки, однако внешностью больше напоминал баптиста. Если существует на свете человек, излучающий столько же спокойствия, сколько грейхаунд, так это Бен, и Комета моментально прониклась к нему. Он не носил форму, но она простила его за это, подошла и прижалась к ногам. Через пять минут собака опустилась на землю и, растянувшись в тени рядом с мольбертом художника, всем видом приглашала его продолжить работу. Бен не возражал.
– Послушайте, Вулф, – сказал он, – может, побудете здесь, посмотрите, как я пишу? Поучимся чему-нибудь друг у друга.
Так началась та сессия, которая продолжалась несколько недель и погрузила меня в удивительный мир – ведь не может мир не быть удивительным, если в нем обитают эльфы и гоблины.
– Моя тема – культура и традиции прерий, – объяснил Бен в первый день нашего знакомства. – Я изучаю, насколько древние учения применимы к людям всех рас и национальностей. Как многие коренные племена на земле, индейцы равнин верили, будто все – каждое создание, человек, насекомое, звезда – связаны друг с другом и взаимозависимы. Жизнь не похожа на пирамиду с человеком на вершине и всем остальным под ним. Они считали, что жизнь – круг взаимосвязей, и заканчивается там, где начинается. Хотя я наполовину чероки, моя живопись предназначена всем – просвещать духовно и эстетически. – Бен помолчал и улыбнулся. – Тяжелая задача для индейца. Правда?
– Да, но еще тяжелее для кого-нибудь, кто настолько бел, что сияет в темноте.
В тот день Бен ничего не нарисовал. Не сделал ни наброска, ни единого мазка. Он словно бы совершал промеры и создавал фундамент для будущего дома. Я был очарован таинственностью данного процесса и впервые за много месяцев, а может, и лет, не вспоминал о своем состоянии. Когда мы возвращались домой, я посмотрел на борзую в зеркальце заднего вида и произнес:
– Искусство, Комета, это волшебство. А я люблю волшебство.
В следующий раз, когда мы оказались в студии во дворе, я спросил у Бена:
– Как вам приходит в голову, что нарисовать?
Он рассмеялся тупости вопроса, но постарался ответить подробно:
– Последние несколько дней я собирался с мыслями. Картина, над которой я сейчас работаю, – я покосился на мольберт: холст на нем оставался по-прежнему чист, – навеяна словами, написанными гуру Ринпоче. Нет-нет, он не из американских индейцев – он буддист. Ринпоче пишет, как буддисты понимают основную причину страдания – это «я» или эго, навязчивая идея, удерживающая человека от познания реального мира. Мир фальшив, если эго превращается в центр мироздания. Прочитав это, я увидел лицо, несущее черты различных этнических групп. Вселенского туземца, если угодно. В портрете этого человека я хочу воплотить прочитанную мною мысль гуру.
Во время нашего следующего визита Бен начал писать. Работая, он объяснял технические аспекты живописи: глазурирования, смешивания цветов, композиции, расположения деталей и иные тонкости, – которые меня совершенно захватили.
– Я кладу на все мои картины несколько тонких слоев чистой глазури. Свет мерцает на поверхности холста, и краски становятся ярче. Создается эффект глубины.
Пытаясь понять произведение искусства, вы чувствуете себя археологом, снимающим слои земли с найденного им предмета. Каждый слой – кусочек будущего открытия. Вот и осознать смысл какого-либо одного символа – например медицинского колеса – урок, сам по себе содержащий собственные слои. Медицинское колесо указывает не только на четыре стороны света. Оно – первая энциклопедия Северной Америки, содержащая информацию о священных цветах и животных, земных элементах, духовных знаках и человеческих расах. Это лишь один символ. И Бен предлагал взгляд только одного художника. А он не единственный живописец в Седоне. В этом городе их много.
Искусство превратилось для меня в разновидность буддизма. Поскольку оно главным образом сосредоточено на понимании и изображении чего-то вне художника – других культур, точек зрения, времен и верований, – то помогало мне переместить из центра Вселенной мое личное. Мои боль и печаль ничего не значили по сравнению с миром, таким, каков он есть. Жизнь больше, лучше и светлее, чем существование одного индивидуума. Я вспомнил, что актриса Этель Бэрримор говорила нечто подобное о преодолении замкнутости в себе: «Чем больше вещей вам нравится, чем больше вы интересуетесь окружающим, чем больше в вашей жизни радости и негодования, тем больше вам остается, если что-нибудь случается».
В День святого Валентина ко мне ненадолго приехала Фредди. Ее глаза заблестели, когда она увидела, как далеко мы с Кометой продвинулись в наших занятиях. И я почувствовал, что она нами гордится. И что еще важнее: впервые за долгое время я мог разделить с ней какое-то развлечение. Мы с борзой поводили ее по нашим любимым галереям, познакомили с Линдой и несколькими художниками. Особенно сильное впечатление на жену произвело собрание работ Бена Райта в галерее Линды. В воскресенье утром, начав бриться, я заметил на зеркале над раковиной прилепленную маленькую картинку одной из его работ.
– У меня не выходят из головы его образы, – призналась Фредди. – У нас нет денег, и мы не можем позволить себе купить его полотно, а эту иллюстрацию я вырезала из журнала, чтобы немного помечтать.
– Ты права, – согласился я. – Не можем себе позволить, но колесико уже завертелось.
Мне захотелось сделать широкий жест – пробудить в жене какое-нибудь иное чувство помимо тревоги – тревоги матери, кормилицы семейства, руководителя коллектива. Казалось, единственное, что теперь цементировало нашу семью, не позволяя ей развалиться, это изменяющийся к лучшему обычно вздорный характер Фредди. Ей хватало забот и без того, чтобы беспокоиться о моем психическом и физическом состоянии. У меня сложилось ощущение, что, несмотря на сострадание ко мне, Фредди на пределе. Во время наших телефонных разговоров ее реплики стали короче и нетерпеливее. Долгая разлука неизбежно расшатывала основы нашего брака. Разрыв превратился в назревающую реальность. Если мне случалось дозвониться до одной из дочерей по телефону, конец их разговора со мной напоминал заявления политика журналисту – короткие и лишенные всякого смысла фразы. Я хотел, чтобы эти бесподобные барышни знали, что моя любовь к ним вечна, хотя я сам не вечен.
Вскоре Фредди уехала, я позвонил Линде и сказал, что хотел бы подарить жене нечто такое, что удивило бы ее и восхитило и, если возможно, воздало должное тому хорошему, что присутствовало в нашей совместной жизни. Мы говорили с Линдой несколько раз, и в результате появился план, который отвечал всем необходимым требованиям и был приурочен к следующему приезду Фредди, на Пасху.
Вечерние звезды стыдливо потускнели, когда в день сюрприза я увидел сияющую улыбку выходящей из автобуса Фредди. Сюрприз планировался на время после приема, который Линда устраивала в честь художников, выставлявшихся в ее галерее. Фредди едва сдержала себя, узнав о моем художественном ликбезе с Беном Райтом, и ее радость еще больше возросла, когда ей сообщили, что он будет присутствовать вместе с другими живописцами. После приема группа примерно из тридцати человек, и мы в том числе, переместилась в соседний ресторан, где нас с Фредди усадили с Линдой, Беном Райтом и другими художниками. Наслаждаться изысканной едой в компании творческих личностей было совсем не то, к чему мы привыкли, когда в прошлом собирались в кругу юристов и медиков. Эти люди видели мир по-иному. Споры велись не о политике или местных сплетнях. Они говорили о том, какой удивительный цвет возникает в рассеянном свете на дне каньона. Смеялись над тем, как беседы похожи на движущиеся тени в тополиной роще, или восхищались качеством самана в глинистых отложениях местной реки.
Вскоре после десерта Бен извинился и вышел в холл, где на мольберте стоял завешенный белым полотном холст. Пока все буквально дрожали от нетерпения, он объяснил, что его новая картина изображает юную девушку из племени дакота, которая с помощью бычьей крови проходит обряд посвящения из девушки в женщину. Затем Бен попросил меня снять с картины покрывало.
– Вулфи, почему ты… – смутилась Фредди его просьбе.
Я подошел к мольберту и обнажил квадратный, четыре на четыре фута, холст. Неоново-малиновая девушка с короткой мальчишеской стрижкой стояла в красном пруду на ярком белом фоне. Сверху на груди прорисована закрытая тополиным листом замочная скважина. Многие индейские племена считают распускающийся лист тополя символом весны и начала новой жизни. Замочная скважина же намекала на переход от девичества к зрелости.
Я прочитал собравшимся название – «Красные воды», – а затем то, что написал Бен, объясняя значение своего полотна.
– Святой человек сказал: «Мы буйволы на равнине, а это водопой. Вода в нем красного цвета, потому что священная. Ее даровал Создатель, и она плоть от плоти буйволицы. Испей ее, напитайся ею, и ты поймешь, что мы все связаны и зависим друг от друга». Это слова буйволиного обряда, во время которого девушка становится женщиной. – Мой голос дрогнул.
Я был потрясен необъятностью переполнявших меня чувств и сознания, что мои юные дочери тоже на пути к зрелости. Зрение затуманилось, и фигуры людей передо мной потеряли четкость. Я видел очертания своей жены, но не мог разобрать, как она реагирует на мою речь. Посмотрел поверх голов, проглотил застрявший в горле ком и продолжил:
– «Красные воды» символизируют вскармливание и здоровье, долгую жизнь, опеку и стойкость. Это мощь буйвола и сила красных вод.
Мне едва хватало кислорода в зале, когда я приблизился к условленному финалу:
– Бен позволил мне купить у него это полотно в честь моих юных дочерей и любимой жены, которая предана мне из последних своих сил.
Бен взял меня за плечо и спас от дальнейших объяснений, первым захлопав в ладоши. Я больше не видел Фредди, ее загородили вскочившие люди. Но вскоре она появилась передо мной с таким непонятным и чарующим выражением лица, что оно могло бы воодушевить на героический подвиг или дать вселенский покой. А вместо этого даровало трусливому веру. Я ухитрился сохранять невозмутимый вид, пока жена не подошла и, обняв, не прошептала:
– Очень трогательно.
10
Июнь – сентябрь 2001 года. Небраска
Если бы я мог знать, что тот прием станет самым светлым событием в следующие несколько лет, то острее прочувствовал бы радость жены и свое блаженство. Но он закончился слишком быстро, а через месяц подошла к концу и моя ссылка в Аризоне. Настало время ехать на север.
Оказавшись у дома на озере – теперь это называлось моими летними визитами, – я вылез из внедорожника и пошел открывать заднюю дверцу, чтобы выпустить Комету. Неожиданно у меня возникло ощущение, что жилище покинуто.
– Где Коди и Сандоз?
– Все девочки заняты, так что собаки, наверное, спят внутри, – ответила жена неестественным тоном. – Не придавай значения. Дочери растут, им надо то одно, то другое, с кем-то встретиться, что-то сделать…
У меня упало сердце.
– Пошли, Комета, навестим наших четвероногих приятелей.
– Вулфи, прежде чем ты туда войдешь, мне надо тебе кое-что сказать, – произнесла Фредди, но я не обратил внимания.
А если бы и обратил, то это ничего бы не изменило. В моей жизни возникали моменты, когда плохие новости словно останавливали время и парализовали все органы. К счастью, было немного таких, как четыре года назад. Я узнал, что у отца, когда он вытаскивал форель из реки в Пагоса-Спрингс, вышел из строя сердечный клапан, а вместе с ним закончилась и его жизнь. Теперь к списку прибавился еще один: я увидел, что у Коди не действуют задние ноги и из-под шкуры выпирают ребра. Только взмахи хвоста, высунутый язык и радость в собачьих глазах помогли мне устоять.
– Когда он постоянно при тебе, грозных признаков почти не замечаешь, – тихо объяснила Фредди. Мы сидели за кухонным столом и сквозь раздвижные двери смотрели, как Комета и Сандоз прыгали по берегу. – Я даже не поняла, что Коди теряет вес, пока мне не сказала твоя сестра. Ветеринар определил, что боль в результате дисплазии тазобедренного сустава мешает ему пользоваться задними ногами, отчего атрофируются мышцы. Лучшее лечение – плавание. Дельный совет, учитывая, что он все дни проводил в воде.
Прошлой осенью я покидал дом на озере, и Коди мог послужить примером пышущей здоровьем собаки. Его рельефные мускулы бугрились под кожей, когда он встряхивался, вылезая из воды, и бежал по песку. Вид его немощного тела был настолько неестествен, что я не мог этого осмыслить. Пес, вихляя, вошел в дом между мной и Фредди.
– Болью можно объяснить атрофированность задних лап и состояние бедер, но почему он настолько исхудал?
В глазах жены заблестели слезы, когда она достала угощение и положила в подставленную пасть лабрадора.
– Ветеринар сказал, что пес весит на семь фунтов меньше, чем в прошлом году, но он не может обнаружить никакой видимой причины – ни нематод в сердце, ни глистов, и он по-прежнему целыми днями играет в воде. Врач предположил, что, поскольку ему тринадцать лет, на него сильнее действует жара, и у него нет аппетита.
Мне приходилось встречать собак, которые выглядели так, как теперь Коди, но никогда жара не являлась причиной их состояния.
– Думаю, что он должен спать со мной, а не с Джеки, – предложил я. – Может, ему трудно спускаться по лестнице, если он ночью проголодается. Я буду держать еду для него в комнате. – Мы уже решили, что в этом году моя спальня будет на первом этаже, чтобы мне не приходилось сражаться со ступенями, поднимаясь наверх. Коди ткнулся мне в руку своим квадратным лбом, давая понять, что за раздвижными дверями и деревянным спуском к реке нас ждут великие открытия.
– Он поправится, – пробормотал я, но так тихо, что жена меня вряд ли услышала.
Все считали Коди моей собакой, и он всегда проводил больше времени со мной, чем с кем-либо другим, хотя девочек, когда они были маленькими, принял охотно. Быстро усвоил роль телохранителя и распорядителя играми и всеми детскими делами, не стеснялся зарычать и показать зубы, если считал, что дочери задумали что-либо опасное – например, поиграть у покрытого льдом озера. Был верной подушкой Фредди, когда в короткие холодные зимние дни она устраивалась у камина, и они, сморенные теплом пылающих дубовых поленьев, вместе дремали. Он заслужил старость без боли, и я собирался сделать все, чтобы пес не страдал.
На следующее утро, уходя на работу, Фредди дала мне вырванный из тетрадки Джеки листок со списком.
– Твои назначения к врачу на этот месяц.
Жена не только работала на полной ставке и вела хозяйство. Я все больше полагался на нее как на помощницу и медсестру, если речь шла о планировании моих визитов к доктору и приеме лекарств. В общем, выполняла обязанности моего личного секретаря. Не сомневаюсь: ей было бы намного легче, если бы я проявил хоть малейшее желание облегчить ее ношу, – но меня поглощала борьба с болью и больше ничто не интересовало, кроме как, проснувшись утром, дожить до вечера. Свою зависимость от Фредди я оправдывал тем, что всякий медик хочет контролировать здоровье членов своей семьи. Моя жена не являлась исключением.
– Если придется отменить какие-то из визитов, не забудь позвонить, – наставляла она меня.
– Все будет хорошо, – успокоил я. – Вот и Комета требуется тренировка, а больницы для нее совершенно новая область.
– Ладно. – В голосе Фредди не чувствовалось энтузиазма. Тот искрящийся вечер в Седоне, когда я подарил ей картину Бена Райта, казалось, был давным-давно, в нашей молодости.
Кили и Линдси я не видел девять месяцев – с прошлого сентября. Из-за летней работы они остались в Омахе и не знали, когда сумеют оттуда выбраться, но обещали скоординировать свое возвращение. Джеки занималась софтболом, и график игр предусматривал каждый день поездку в новый город. Когда я появился у озера, она неловко обняла меня и бросилась вверх по лестнице. Через несколько дней в доме собрались все три дочери, и по их глазам я понял, что мое присутствие их смущает. Я не мог судить их за это – ведь сам уже два года никак не участвовал в жизни детей, четыре года как перестал быть главой семьи и все меньше играл роль отца в их делах.
Хотя Кили и Линдси учились в колледже и смотрели на нас как на нечто отжившее, вроде телефонов с диском, родители все-таки были нужны, чтобы дать совет, проследить за расходами и ответить на полуночные звонки. Девочки взрослели, и им требовалась поддержка старших. Однако в нашем случае из-за моей болезни эту миссию выполняла практически одна Фредди. Я же, словно потерпевший кораблекрушение на спасательном плоту, волновался лишь об одном – как бы остаться на плаву.
За обедом в тот вечер исполненная сознания долга жена предложила дочерям рассказать мне об учебе, приятелях и планах на лето. Они отвечали бодрыми голосами, будто на собеседовании при приеме на работу. Мой ответ прозвучал как слова заехавшего ненадолго погостить выжившего из ума старикашки. Наконец трапеза завершилась, и Кили и Линдси снова укатили в город.
Что ж, я могу стать любящим папочкой для собак. Я настоял, чтобы в разгар дня, когда царит беспощадная жара, Коди оставался дома в охлаждаемой кондиционером комнате. Не мог выкинуть из головы картину, как пес умирает на берегу. Не хотел, чтобы это произошло сегодня – и вообще когда-нибудь. Да и Сандоз не возражала вздремнуть. Коди устраивался у моего кресла, и она тут же шлепалась рядом. Удивила меня Комета. Как только масса золотистой шерсти замирала на ковре, она выбирала свободное место неподалеку от Коди и тоже ложилась на пол. Тыкалась носом ему в спину и отказывалась вставать, пока он не был снова готов выйти в мир.
Дошло до того, что борзая выпускала меня за порог. Для меня осталось всего два способа порадоваться озеру: стоять по подбородок в воде или покружить на том, что дочери называли «недоделанным водным мотоциклом». Мое личное плавательное средство представляло собой катамаран: на электрической тяге, длиной восемь футов, с пластмассовым пропеллером на каждом поплавке. Пассажир располагался на металлическом каркасе между поплавками. Пропеллеры управлялись находящимися на каждом подлокотнике металлическими рычажками. Даже в палящий зной Коди и Сандоз прыгали на катамаран и устраивались каждый в передней части своего поплавка. Судно развивало предельную скорость пять миль в час и не могло поднять даже самой легкой волны. Со стороны казалось, будто я отдыхаю в садовом кресле с мотором, с двумя золотистыми тапочками у ног. Сандоз засыпала на поплавке, а Коди бдил на другом и внимательно следил за моими действиями, оставаясь на страже, пока у меня хватало терпения плавать по озеру. Псу нравилось путешествовать со мной, а я радовался, что он рядом и мы можем поговорить с ним.
Меня устроили в спальне на первом этаже, и я находился там один. «Боюсь, буду вертеться в кровати и причинять тебе боль», – так Фредди объяснила свое решение остаться в нашей комнате на втором этаже.
Я не возражал, хотя, отделенный от остальных, плохо представлял, что2 происходит в семье. Мои книги перенесли вниз и расставили по обеим сторонам камина. И у меня имелся легкий выход на берег через французское окно и внутренний дворик. Комета одобрила выбор, поскольку получила прекрасный обзор всей длины пляжа. К тому же здесь у нее появился товарищ по комнате – Коди. Хотя она по-прежнему настаивала, чтобы, выходя из дому, я каждый раз брал ее с собой, но когда видела, что я отвязываю «водный мотоцикл», возвращалась в спальню и прыгала на кровать. У меня сложилось впечатление, будто она не просто одобряла мое общение с Коди, а поощряла его.
Борзая становилась все более деловой – училась обходиться в медицинских учреждениях, куда меня записала Фредди и где работали мои давнишние врачи. Там была совершенно иная обстановка, чем в магазинах Седоны, где мы привыкали находиться среди людей. В Седоне собаке приходилось держать себя среди шумной толпы, здесь же все было тихо и спокойно. Пациенты терпеливо ждали в очередях и почти боялись разговаривать, глядя, как медики что-то шепчут другим больным. Парочки сидели понурившись и остерегались повысить голос. Льющаяся из динамиков музыка доводила многих чуть не до коматозного состояния.
С первого визита к врачам Комета усвоила, что следует вести себя с профессиональной сдержанностью. Не обращая внимания на замечания о своей красоте и служебном жилете, она, не глядя по сторонам, шествовала к конторке регистратуры. И напускала на себя скучающий вид, когда персонал приходил в замешательство, можно ли собаку пускать в смотровую или в помещение, где работает рентгеновский аппарат или сканер. Я обзавелся сводом положений о служебных животных, разъясняющих, где положено и где не положено находиться Комете. Чопорное поведение необыкновенной собаки требовало быстрого решения, и медики – нянечки, сестры и врачи – соглашались принять борзую в стерильных помещениях больницы.
Суровый вид медиков был только ширмой. Завидев Комету, все без исключения начинали сюсюкать. Сознание необходимости поддерживать порядок скрывало неподдельную любовь к животным, которую мы встречали в каждом медицинском учреждении. После первого потрясения достигалось молчаливое соглашение: мы не прогоняем Комету, пока она ведет себя так же профессионально спокойно. Но затем положения договора забывались – за несколько визитов к моим постоянным врачам Комета успевала очаровать их, и на нее больше не смотрели как на нежданного инспектора налоговой службы, а относились ласково, словно к знаменитости. Меня в регистратуре вспоминали лишь после того, как заглядывали в мою карту, ее же имя было у всех на слуху, как имя любимого спортсмена – Пеле, Нене, Комета.
Серия заключений осмотревших меня врачей подтвердила вывод, сделанный ранее Пам: мне становится хуже. «Прогрессирующая парестезия мистера Вулфа осложняется двусторонними мышечными болями в бедрах и ягодицах, а также разлитыми болями в поясничной зоне. Для лечения такого рода повреждений межпозвоночных дисков не существует ни медикаментозных, ни хирургических методик, вследствие чего он должен считаться полным пожизненным инвалидом». Таково было их мнение.
Я уже давно сознавал, что передо мной тупик и мое тело превращается в хлам; представлял свое положение вроде шоссе в Аризоне, той его части в Белых горах, которую местные жители прозвали дорогой в никуда. Асфальт петляет среди бесчисленных ущелий, где очень долго не встречаешь ни одной другой машины. Пассажиры начинают беспокоиться. Они сомневаются, что водитель знает, куда ведет дорога, и жалеют, что поехали с ним. Медицинская версия пути в никуда усугубляется ощущением вины и нарастающей депрессией. Дорога крутит и в итоге возвращается к началу. Грыжа межпозвоночного диска, дегидратированные диски, сужение позвоночного канала, разрушение структуры позвонков, образование рубцовой ткани, невропатия, остеофит, артрит суставов – в общем, хватает всего. Обычное лечение предполагает снижение веса, лед, покой, аспирин, физические упражнения, больше лекарств и дополнительные исследования. Заблудший в чаще отчаяния, человек носится кругами и никуда не попадает.
Но… в конце ведущего в никуда аризонского шоссе вдруг возникает курортная деревенька Грир – живописное место в восьми с половиной тысячах футов над величественной горной долиной, поросшей ароматными соснами. На плато над Гриром берет начало река Литл-Колорадо и зеркальной, полной форели лентой в двадцать пять футов шириной течет через центр поселения. Поесть теплого черничного пирога, украшенного шапкой ванильного мороженого, опираясь на парапет «Ресторана встреч», – несравненное удовольствие, которое испытали не многие. Красота такая, что, кажется, просачивается под кожу, природа погружена в покой, и человек невольно сознает: жизнь прекрасна, и он недаром проделал путешествие по горному серпантину. Ему не приходит в голову, что зимой здесь холодно и постоянно идет снег. Для того, кто испытал подобный летний день, превратности погоды – досадный пустяк.
Это-то я все последние годы пытался найти – мой собственный Грир и достаточно хороших дней, благодаря которым плохие воспринимались бы не слишком плохими. В шестнадцать лет начались мои неприятности с позвоночником, но тогда беду пронесло стороной, правда, хирург предупредил меня, что болезнь до конца не вылечена. Но до рокового матча в юношеской христианской ассоциации мне удавалось загонять боль в горы, а самому сплошь и рядом наслаждаться домашними пирожными жизни. И если препятствием к подобному десерту становится боль в спине всего на несколько делений сильнее очень сильной боли, что ж, цена не заоблачная и можно раскошелиться.
Но теперь иллюзии об уготованном мне будущем исчезли. Меня пригласил травматолог, чтобы побеседовать по поводу формуляра уровня жизни, который я регулярно заполнял.
– Взгляните, – предложил он, – еще недавно вы находились на десятом уровне.
Я заглянул в документ. Десятый уровень предполагал ежедневную работу по желанию больного. Нормальную ежедневную активность и участие в общественной жизни.
– Несмотря на все наши усилия, теперь вы опустились на второй уровень, если не ниже.
Уровень два: можно вставать с постели, но нельзя принимать душ и одеваться. Находиться весь день дома.
– Стив, нам надо менять тактику. У некоторых моих пациентов наступает улучшение после трансдермального введения фентанила. Считаю, нам надо попробовать…
– Это тот самый препарат, о котором я слышал в новостях? В двести раз сильнее героина? Его продают на улицах под названием «Белый китаец»?
Услышав, что я заговорил громче, Комета приблизилась ко мне и, потягиваясь, приглашала погладить ее. Я не стал. Знал: стоит мне до нее дотронуться, как мое возмущение потеряет накал. Но вмешательство борзой в разговор уже возымело эффект. Она сбила меня с толку, и я забыл, что только что собирался разглагольствовать о Боге, флаге и американских ценностях, несовместимых с наркотиками.
– Вот что, Вулф! – Резкий тон врача заставил меня прикусить язык. – Иногда боль полезна. Благодаря боли больной ложится отдохнуть или прекращает делать то, что для него вредно.
Затем он объяснил, что боль сродни состоянию мышц во время поднятия тяжестей. Нервы становятся более проводимыми и быстрее передают сигнал в мозг, и со временем мозг начинает болезненно реагировать даже на безобидный стимул. То, что раньше казалось вполне терпимым, становится разрушительным. Большинство лекарств не способны справиться с нарастающей болью без того, чтобы не вызвать побочных эффектов – язвы или повреждения почек. Зато сильные наркотики помогут.
– Мы отменим большинство лекарств, которые вам вредили, – продолжил врач.
Я принимал столько антидепрессантов, болеутоляющих и средств, противодействующих нежелательным побочным эффектам других лекарств, что стало непонятно, где кончаются проблемы, связанные с болезнью, и начинаются медикаментозные осложнения. Я понимал точку зрения врача.
– Не мучайтесь мыслью, что превратитесь в наркомана, – успокоил он. – Ваше тело нуждается в этом средстве, но вы не станете нарковампиром, которому требуется все больше и больше зелья.
Пришлось согласиться. Потребуется время для отвыкания от прежних лекарств и перехода на новый режим приема вызывающих омерзение фентаниловых «лепешек», какие должны были побороть боль, но у меня этого времени было достаточно.
После первого изнурительного курса назначенного врачом нового средства я стал чувствовать, что хоть я в жизни и не один, мне все равно одиноко. Несколько лет назад другой специалист по боли объяснил мне, что это тревожное явление заслуживает самого пристального изучения. Он заметил, что между страдающими от боли хрониками и их родными и друзьями образуется возрастающая душевная пропасть. Я этого не знал. Но оказалось, что моя с трудом сдерживаемая злость и неудовлетворенность от общения с ближними – распространенная психическая реакция. В людях, подобных мне, обреченных подолгу бороться с состоянием, которое незаметно глазу окружающих и даже не поддается определению словами, со временем что-то ломается.
Один хроник сформулировал суть того, что портит отношения больного с родными и друзьями, и в последующие годы будет постоянно преследовать меня. Это фраза: «Ну как, тебе не лучше?» Каким бы клеймом ни были отмечены люди с ампутированными конечностями, прикованные к инвалидному креслу или раковые больные, об этом принято молчать. Их недуг очевиден, и диагноз не вызывает сомнений. Что такое боль? Все, что касается позвоночника, – медицинские дебри, неизвестные большинству людей. Перерождение позвоночного диска. Ну и что? Мы все стареем. Осложнения после удаления дуг позвонка. Вот еще новости! Кифосколиоз и псевдоартрит. Да брось ты! А если никакая медицина не помогает, говорят: «Может, это все у тебя в голове?»
Больной все больше ощущает отчуждение. Если начинает говорить о своих болячках, рискует прослыть ипохондриком – вроде той пресловутой Дебби Хандры, которая, где бы ни появилась, тут же развалит любую теплую компанию. Однако если скрывать боль, на тебя начинают смотреть как на неисправимого стоика, отказывающегося от помощи, или как на человека, который не жалуется лишь потому, что недостаточно сильно страдает. Современные исследования не только подтверждают, что подобные рассказы не пустые разговоры: доказано, что навешивание ярлыков реально усиливает физические страдания больного. Неудивительно: депрессия и боль передаются одними и теми же нервными путями.
Я чувствовал, что ко мне относятся с антипатией, едва уловимой, но очевидной. Родные и друзья все больше уходили из моей жизни. Коллеги перестали звонить в ответ на мои звонки. Дочери не приезжали на выходные домой. Фредди допоздна задерживалась на работе. Друзья вечно играли в гольф или отлучались из города. Никто не говорил мне прямо в лицо, но я догадывался, что они думают: «Ты пристрастился к лекарствам… Превратил себя в развалину… Тебе нужно найти врачей получше… Ты не пробовал новые методы лечения… А то, чем ты лечишься, тебе только вредит… Ты просто не старался вылечиться». Неужели я действительно жалкий тип? Реальны ли мои подозрения? Ведь очень просто превратиться в параноика, если целыми днями думаешь об этой чертовой боли. Мне казалось, что моему обществу рады только Кометы, Коди и Сандоз.
Бедные собаки! Они стали моими постоянными компаньонами и психологами. Выслушивали мои жалобы, хотя с удовольствием пробежались бы по бережку. Терпеливо внимали, иногда поднимая брови и склоняя головы набок, пока я бубнил бесконечный список своих прошлых ошибок. Комета присутствовала на всех приемах у врачей и выхолащивающих душу тестах. А мой ущербный «водный мотоцикл» превратился в казино безумных мыслей о будущем, где заправлял верный Коди, тащившийся теперь к берегу почти так же медленно, как я.
Стыдно признаться, но именно Коди вывел меня из состояния самопоглощения. Однажды в три утра меня разбудил доносившийся с пола судорожный кашель. Этот кашель начался пару недель назад. Пес давился, и я подумал, что у него в горле застряла кость, но, засунув палец на всю длину его языка, не обнаружил посторонних предметов, а ощупав горло снаружи, не почувствовал никаких бугров. Ветеринару не пришло в голову назначать тринадцатилетней собаке рентген. Я купил пластмассовый шприц и начал перед едой брызгать Коди в пасть средство от кашля. Но в ту ночь звук изменился: пес не давился, а со свистом дышал, словно ему не хватало воздуха.
– Все в порядке, приятель, – успокоил я собаку.
Коди пытался подняться на лапы, но я осторожно уложил его на подстилку.
– Ну что с тобой? – спросил я, поглаживая его. И получил ответ, какого совсем не ожидал, – нащупал под шерстью на шее пониже горла круглое уплотнение.
Коди был нежнейшим, послушнейшим псом, которого я когда-либо имел счастье знать. Он сумел сам добрести до приемной ветеринара, но прыгнуть на смотровой стол ему не хватило сил. И безропотно позволил мне помочь ветеринару поднять его на поверхность из нержавеющей стали. Коди всегда доверял мне. Но на сей раз его черные глаза из-под крупных надбровных дуг умоляли увести его оттуда. Затем по следам слез на моих щеках он понял, что я не могу этого сделать. А надо было. Ком перекрывал ему дыхательные пути и мешал глотать. Мой верный друг словно не хотел знать свой диагноз – опухоль щитовидной железы. И пока не знал, мог тянуть сколько угодно долго. Но теперь проблема обозначилась и знание его как будто убило: не прошло и недели, как Коди ушел из жизни.
Через несколько дней после его смерти, несмотря на сильную, стреляющую в пальцы ноги боль, я долго плавал по озеру. Знал, что аккумуляторы на поплавках выдохлись почти так же сильно, как я сам, однако не мог исполнить последний долг. Казалось, что это не просто конец, а предел всему. Обгоревшие за день нос и плечи успели покрыться волдырями, а я по-прежнему не находил ответа, кроме одного – я в отчаянии. Прощание с близким существом не входило в мои планы на лето. Попробовал бы сейчас мне кто-нибудь сказать, что жизнь справедлива, и такие потери – часть нашего существования. Трудно было еще меньше хотеть жить. Я опустил прах Коди в озеро.
В то лето цвета будто померкли, словно я смотрел на окружающий мир сквозь тусклый фильтр. Ко мне давным-давно подкрадывалась старая с косой. А в итоге выбрала Коди. Надо было раньше уехать отсюда.
11
Середина сентября 2001 года. Аризона
Фредди бодро улыбнулась и махнула из окна автобуса. Когда он тронулся в путь, я поднял на прощание руку. На сей раз не было ни слез, ни настойчивых уговоров лучше о себе заботиться.
– Пусть! – сказал я вслух, когда мы с Кометой повернули назад и пошли обратно в наш дом в Седоне.
Но под кажущимся спокойствием таилось ворчливое недовольство. Отчужденность Фредди кольнула меня и особенно насторожила после того, как она назвала причину: получалось так, что я мог навсегда засесть в Аризоне. Мы стали далеки, как никогда, и я не знал, что с этим можно поделать.
В отличие от меня Комета пребывала в крепком здравии и предвкушала удовольствие от душистой аризонской осени. Эмили подросла, и у нее пропало желание прибегать по первому требованию гулять с собакой, поэтому у Кометы нашлось свое решение. Однажды, вздремнув днем, я отбросил простыни, намереваясь выпустить собаку на улицу, но Комета отказалась.