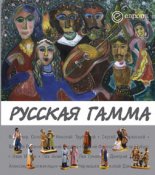Мифы о Китае: все, что вы знали о самой многонаселенной стране мира, – неправда! Чу Бен

Исторический ревизионизм всегда имеет свои пределы. Как справедливо утверждали сторонники реформ, в разные периоды консервативная политическая культура Китая приводила к удушению прогресса. Вслед за первопроходческими морскими походами Чжэн Хэ минские императоры прекратили контакты страны с внешним миром, решив более не снаряжать военно-морских экспедиций на дальние расстояния и даже специальным указом запретив торговлю со своим ближайшим соседом — Японией. В XIX веке цинские правители, каковы бы ни были на то внутриполитические причины, отказались от культурных контактов с Европой. Показательно, что до 1861 года в Пекине не было министерства иностранных дел, а запрет на миграцию был снят только в 1893 году. Императоры позднего периода также отличались самодовольством и высокомерием. Это умонастроение сыграло с ними жестокую шутку, когда в 1895 году китайские войска потерпели поражение от японцев, нации, на которую китайский правящий класс до того момента самонадеянно смотрел сверху вниз, считая ее низшей во всех отношениях.
Сторонники проведения реформ эпохи поздней империи наталкивались на яростное противодействие со стороны значительной части элиты, вызванное ее почти религиозной приверженностью традиции. Реформаторы пытались подсластить призывы к модернизации лозунгами вроде: «Китайское учение в основе, западное учение для решения прикладных задач». Другие не принадлежащие к западному миру империи XIX века, такие как Османская империя на восточных рубежах Европы, сумели добиться модернизации с гораздо меньшими усилиями. Япония с ее Реставрацией Мэйдзи также продемонстрировала способность восточного общества к реформированию.
Несмотря на все вышесказанное, не стоит обманываться скоропалительными выводами об обособленности «китайского менталитета», основанными на истории политического консерватизма элиты. На рубеже XX века, в период направленного против иностранцев и поддержанного императрицей Цыси боксерского восстания, десятки тысяч китайских бедняков, таких как мой прапрадед Чау Касам, эмигрировали в Северную и Южную Америку и страны Карибского бассейна в поисках работы. Империя уже не в состоянии была удерживать их взаперти, и они воспользовались открывшейся возможностью. Обыкновенные китайцы были открыты внешнему миру, пусть даже этого нельзя было сказать об их правителях в Пекине.
Необходимо также заметить, что письменность, этот оплот китайской культуры, значительно упростилась в наше время. Теперь изучение языка дети начинают с пиньинь, системы передачи звуков китайского языка с помощью букв латинского алфавита. Китайцы также используют пиньинь как вспомогательное средство для набора иероглифов при отправке сообщений на мобильные телефоны и печатании на компьютерах. В 1950х годах традиционная иероглифика была упрощена за счет сокращения количества составляющих иероглиф элементов. Несмотря на выражаемое некоторыми сожаление о прерванной этим упрощением культурной традиции, мало кто из китайцев, пользующихся новой системой письменности в повседневной жизни, желал бы веруться к прошлому.
Японцы также внесли свою лепту в формирование языка, и довольно значительную, как бы яростно ни отрицали этот факт многие современные китайские националисты. В период после Реставрации Мэйдзи японские ученые заимствовали множество выражений из классического китайского языка и использовали их для обозначения таких современных западных понятий, как «общество», «экономика» и «окружающая среда». В конце XIX века, когда китайцы стали ездить в Японию, чтобы изучать там новые научные дисциплины, они вывезли эти термины обратно в Китай. Современные китайские диалекты, кроме того, обильно пересыпаны английскими словами[6].
Итак, мы видим, что вопреки легенде китайская культура вовсе не произросла в уже полностью сформировавшемся виде на берегах Хуанхэ, на протяжении столетий она подвергалась влияниям извне. Она менялась исторически иногда путем адаптации различных элементов, иногда — вследствие революционных изменений в обществе. Современный национализм в сегодняшнем Китае является столь же мощной силой, как конфуцианство в древности. Лекции Сунь Ятсена «Три народных принципа» (кстати сказать, вдохновленные Геттисбергской речью Авраама Линкольна) сейчас являются частью китайской политической культуры ничуть не в меньшей степени, чем «Суждения и беседы» Конфуция. Китайская культура к тому же гораздо разнороднее, чем принято думать. Население различных частей этой громадной и разноликой страны имеет часто резко противоречащие друг другу традиции и мировоззрение. Таким образом, справедливее было бы говорить о множестве взаимодействующих культур Китая, нежели о единственной доминирующей системе ценностей или едином образе жизни.
Между тем отношение Китая к собственной истории весьма противоречиво. Порой страна отрекается от прошлого, в других случаях, наоборот, отождествляет себя с ним. Иногда правительство выказывает величайшую почтительность к национальному наследию, вынося смертные приговоры тем, кто контрабандно вывозит из страны древности и художественные ценности; в других обстоятельствах оно проявляет культурный вандализм, как в случае, когда пекинские власти снесли перед Олимпиадой 2008 года исторические переулки-хутуны. Не менее противоречивы и взгляды обычных китайцев. Они любят поговорить о том, какой они древний народ, и, казалось бы, поддерживают идею о собственном великом «чувстве истории», однако в другое время они будут подчеркивать «новизну» своей страны и говорить о необходимости преобразований, чтобы сравняться с Западом.
Важнее всего то, что в Китае нет единомыслия относительно культурного наследия. На протяжении многих лет шла полемика о том, что следует оставить, от чего отказаться, и по этой причине культура продолжает меняется. Подобно Хуанхэ, этому древнему символу Китая, она течет и делает повороты. Не лучше ли воздержаться от ленивых догадок о ее следующем витке?
Миф второй
Китайцы — неисправимые расисты
Хоу Дэцзянь совершенно не напоминал поп-звезду. В своих слишком больших очках, с пышной черной шевелюрой, двадцатидвухлетний бард скорее походил на прилежного студента, нежели на знаменитость. Тем не менее талант может явиться в любой, порой самой неожиданной форме. Несмотря на непримечательную внешность, Хоу со своим патриотическим хитом 1978 года «Наследники Дракона» пользовался неслыханной популярностью в Китае. Песня представляла собой проникнутый мистицизмом хвалебный гимн расовому единству Китая:
- На древнем Востоке есть Дракон, имя ему — Китай.
- На древнем Востоке есть народ, народ —
- наследник Дракона.
- Я рос в тени когтя Дракона,
- А когда я вырос, я стал наследником Дракона.
- Черные глаза, черные волосы, желтая кожа —
- Всегда и навеки наследник Дракона.
Хоу жил на спорной территории острова Тайвань, что делает его успех еще более удивительным. В то время официальные отношения между Тайбэем и Пекином все еще были заморожены. В 1949 году, после победы коммунистов в гражданской войне, националисты во главе с Чан Кайши бежали на Тайвань. На протяжении десятилетий Мао лелеял планы захвата отступнической провинции, находившейся под военной защитой Соединенных Штатов. В отличие от того, что мы видим сегодня, в те времена всякие контакты между двумя авторитарными государствами, капиталистическим и коммунистическим, были строжайше запрещены. Это означало, что Хоу, родители которого бежали на Тайвань вместе с Чаном, никогда не имел возможности побывать на воспетой им земле отцов.
Несмотря на это обстоятельство, выраженная в песне мысль о том, что все китайцы, где бы они ни жили, — «наследники Дракона», получила горячий отклик на обоих берегах Тайваньского пролива. Вскоре песня зазвучала повсюду. Хоу сделал музыкальную видеозапись, представ в ней в сверкающих традиционных желтых китайских одеждах; окруженный грациозными танцовщицами, он обращался к китайскому «могучему Дракону» с призывом: «открой свои очи, отныне и навечно открой свои очи». Казалось, Хоу по-новому сумел выразить то, что китайцы в глубине души знали всегда: что они представляют собой монолитную и великолепную человеческую расу.
Мы привыкли принимать на веру факт, что китайцы, пусть они и не наследники Дракона, все же являются на редкость унифицированной частью человечества. В XIX веке на Западе сложилось представление о расовой однородности китайцев. В своей статье о китайцах 1882 года американский социолог Геррит Лансинг писал, что «формирование общества из представителей одной расы, управляемого одним правительством, обитающего в постоянной среде и почти не подвергающегося влиянию извне со стороны чужеземных рас или наций, привело к его однородности». В начале двадцатого столетия Бертран Рассел описывал «не имеющую себе равных национальную сплоченность китайцев». В более позднее время историк Эрик Хобсбаум назвал Китай «редчайшим примером» нации «этнически почти полностью однородной». Для китаиста Люциана Пая «самоочевидно, что китайцы объединены одной кровью, одинаковыми физическими особенностями и одинаковой родословной». Мы готовы согласиться с Сунь Ятсеном, пламенным вождем республиканского движения, положившего в 1911 году конец тысячелетнему имперскому правлению, который провозгласил, что китайцы — это «единая чистая раса» с «общей кровью, общим языком, общей религией и общими традициями».
Расовое единство влечет за собой чувство расового превосходства, и общепринятое суждение таково, что, увы, этническая и биологическая однородность китайцев привнесла в их национальный характер черты отвратительного шовинизма, особенно по отношению к людям с темным цветом кожи.
Расизм с китайскими чертами
С коммунистической точки зрения на историю между Африкой и Китаем было много общего. В XIX веке им обоим пришлось стать объектами хищнической политики капиталистических государств. Теперь они сбрасывали с себя колониальные путы. После прихода к власти в 1949 году Мао Цзэдун стремился развивать отношения с Африкой на базе этой общности. В 1960х и 1970х большое количество молодых африканцев из дружественных стран приезжало по приглашению правительства учиться в китайских университетах. На поверхности все выглядело как демонстрация антиимпериалистической солидарности, хотя для Мао это было в большей степени средством утверждения главенствующей роли Китая среди стран с коммунистическими режимами, а заодно и возможностью насолить своим соперникам в России.
На практике солидарность в отношениях между простыми китайцами и их африканскими товарищами оказалась в большом дефиците. Чувство неприязни между темнокожими иностранцами и местными студентами копилось на протяжении десятилетий и усугублялось еще и тем, что зарубежные стипендиаты субсидировались гораздо более щедро, нежели собственная молодежь. В конце концов зимой 1988 года произошел взрыв. После ссоры на новогодней вечеринке в Нанкине сотни обозленных китайских студентов взяли в осаду общежития, в которых жили африканцы. Массовые студенчекие беспорядки, направленные против африканцев, вскоре охватили все основные университетские города, включая Пекин, Шанхай и Ухань. Многим испуганным африканским студентам пришлось искать убежища в своих посольствах и консульствах. Лозунги, скандируемые толпой в эту зиму студенческих волнений, вроде: «Долой черных чертей!» или «Черные черти, убирайтесь домой!» — не оставляли сомнений в природе происходящего: это была вспышка расовой ненависти.
Наконец китайские власти взяли ситуацию под контроль. Нескольких африканцев превратили в козлов отпущения, обвинив их в инициировании беспорядков и с поспешностью депортировав, однако внутри китайского общества, за внешне благополучным фасадом, расистские страсти кипят по-прежнему. Они вновь прорвались на поверхность в 2005 году, когда Кондолиза Райс, афроамериканка и в то время госсекретарь США, посетила Китай с официальным визитом. Китайский Интернет был переполнен злобными расистскими выпадами. «Как могло случиться, что в Соединенных Штатах на должность государственного секретаря назначили самку шимпанзе?» — писал один из анонимных комментаторов. Другие отзывались о Райс как о «черной суке».
Следующая волна расистской мути прокатилась по Китаю в 2009 году, когда студентка из Шанхая Лоу Цзин, чей отец был афроамериканцем, появилась на одном из многочисленных китайских песенных телешоу «Вперед, ангел». Обращение режиссеров передачи с хорошенькой двадцатидвухлетней девушкой было возмутительным. «Шоколадного цвета кожа подчеркивает жизнерадостность ее характера!» — восклицал ведущий. Однако реакция китайского Интернета была намного оскорбительнее. «Все произошедшие от смешения желтой и черной крови по-настоящему уродливы», — высказывается один из авторов. «На месте этой девушки я бы не высовывалась. Не могу представить, что я вышла бы на публику с таким лицом в поисках внимания и симпатии», — заявляет другая.
Враждебность по отношению к иностранцам в Китае простирается далеко за пределы сети Интернет. Ян Жуй, немолодой ведущий транслирующегося на английском языке на государственном китайском телевидении ток-шоу «Диалог», обычно производит впечатление трезвомыслящего и цивилизованного человека. Тем не менее в 2012 году на китайском сайте социальной сети Вэйбо, насчитывающей 800 000 его читателей, телеведущий разразился тирадой, ошеломившей многих живущих в Китае иностранцев из западных стран. «Американцы и европейцы, — декларирует Ян, — приезжают в Китай в целях торговли людьми, они вводят народ в заблуждение, подстрекая людей эмигрировать». Гневно заклеймив «иностранных шпионов», он заключает: «Мы должны заставить замолчать и изгнать из страны всех очернителей Китая». Человек, по статусу эквивалентный самым заметным фигурам в средствах массовой информации, таким, как Джереми Паксман в Великобритании или Ларри Кинг в Соединенных Штатах, впадает в раж демагогической ксенофобии. Тот факт, что Ян часто приглашает на свои ток-шоу иностранных гостей из западных стран, делает инцидент еще более настораживающим.
Пожалуй, наибольшую тревогу вызывает история о расизме китайцев, связанная с британским писателем Мартином Жаком. Его малайзийская жена, по национальности индуска, Хариндер Верайя, в первый день нового тысячелетия в результате эпилептического припадка попала в гонконгскую больницу Раттонджи. На следующий день она скончалась вследствие развившейся легочной недостаточности. Жак вспоминает, что в первые часы после поступления в больницу она жаловалась на пренебрежительно-расистское отношение и игнорирование ее со стороны врачей и медсестер. Несмотря на заключение патологоанатома об отсутствии доказательств небрежности врачей, Жак подал на больницу в суд, и в 2010 году, после длительной тяжбы, ему была присуждена компенсация. Этот болезненный эпизод привел Жака к заключению, что Гонконг и даже более того, китайская нация в целом заражены, по его выражению, «расовой спесью».
Жак — отнюдь не единственный представитель Запада, указывающий на глубоко укоренившуюся в сознании китайцев ксенофобию. В 2012 году Марк Китто, в прошлом издатель, проживший в Китае шестнадцать лет, объявил о своем решении покинуть страну. Одной из приведенных им причин было то, что «для китайцев все некитайцы — это чужаки, к которым они относятся слегка пренебрежительно». Китто также высказывает опасение, что в случае падения теперешнего режима одним из последствий этого станет насилие по отношению к иностранцам.
На ум приходит история боксерского восстания начала двадцатого столетия, когда разъяренная толпа китайцев из сельских районов устроила резню христиан и осадила терроризированных европейцев, живших в иностранных кварталах старого Пекина. Вместо того чтобы подавить восстание, цинские правители встали на сторону боксеров. Это привело к военному вмешательству интернациональной коалиции с целью защиты осажденных в столице европейцев. В наши дни некоторые задаются вопросом, не является ли кампания по «ужесточению визового режима для иностранцев», предпринятая в 2012 году пекинскими муниципальными властями и направленная на депортацию иностранцев с просроченными визами, предвестницей возрождения боксерских настроений.
Высказываются и подозрения иного рода. Для некоторых наблюдателей введенный пекинским режимом в 1979 году закон, запрещающий семьям иметь более одного ребенка, представляется частью политики, направленной на улучшение «качества» китайской расы. Пропаганда, сопутствующая закону, подчеркивает, что важно иметь пусть меньше, но зато «лучшего качества» детей. А в 1979 году власти издали евгенический по сути закон, предписывающий всем беременным женщинам в обязательном порядке проходить ультразвуковое обследование и в случае обнаружения у плода генетических отклонений делать аборт. Профессор психологии Ольстерского университета Ричард Линн утверждает, что в результате такой политики в течение двух ближайших десятилетий на свет появится суперумная китайская раса. Отношение к Линну в научном мире весьма противоречиво; будучи сам энтузиастом евгеники, он, безусловно, преследует здесь свои интересы. Как бы то ни было, мысль о том, что китайское общество отличает расовая нетерпимость, разделяется все большим числом людей. Один серьезный ученый полагает, что количество китайцев, зараженных расовым шовинизмом, «исчисляется миллионами, если не десятками миллионов».
Свой бестселлер 2008 года «Когда Китай будет править миром» Мартин Жак заключает словами: «Возвышение Китая как мировой супердержавы скорее всего приведет… к глубочайшей культурной и расовой реорганизации мира по китайскому образцу. Когда Китай затянет страны и континенты в свои сети… они не только превратятся в экономические придатки чудовищно могущественного Китая, но им также будет отведена позиция культурной и этнической неполноценности». Это уже звучит не как «социализм с китайской спецификой», а устрашающе, как «национал-социализм с китайской спецификой». Возможно ли, чтобы эти пугающие пророчества сбылись?
Расовая чистота?
Прежде всего надо заметить, что Сунь Ятсен был не прав. Население Китая никак не подходит под определение «единой беспримесной расы» с «общей кровью». Оно, напротив, чрезвычайно многообразно. Само государство официально признает существование по крайней мере 56 малых народностей, проживающих главным образом в приграничных районах Китая. Сюда относятся монголы из покрытых травой степей на севере, маньчжуры на северо-востоке вблизи корейской границы, тибетцы на западе в Гималаях и множество народностей, таких как мяо и чжуаны, на тропическом юге, на границах с Бирмой и Вьетнамом. Этнические различия между этими группами чрезвычайно глубоки, достаточно сравнить между собой уйгуровмусульман из Синьцзяна и исповедующий анимизм народ ли с острова Хайнань. Некоторые из этих народностей очень многочисленны. К примеру, в Китае живет вдвое больше монголов, чем в самой Монголии. О Китае не раз говорилось, что это не определенная нация, а скорее многонациональная империя, маскирующаяся под нацию.
Некоторые возражают, что общая численность национальных меньшинств составляет всего лишь 105 миллионов из 1300миллинного населения Китая и что 93 процента граждан страны относит себя к единой этнической группе — ханьцам. Тем не менее это утверждение также ошибочно, поскольку оно не принимает во внимание культурные и, более того, генетические различия между самими ханьцами. Из предыдущей главы видно, что между отдельными группами ханьцев в Китае не меньше языковых различий, чем между народами, населяющими континентальную Европу. Заявление, что ханьцы представляют собой монолитную в биологическом смысле группу, опять же не выдерживает критики. Ученые, обследовавшие разные группы населения на территории Китая, пришли к выводу, что ханьцы, живущие на севере страны, отличаются по своим генетическим особенностям от тех, кто проживает на юге; это заставляет предположить, что истоки их происхождения лежат в разных географических областях.
В некоторых местах расселения ханьцев встречаются интереснейшие вариации. Так, например, ханьцы, обитающие в Лицяне на границе пустыни Гоби, в засушливом северо-западном районе Китая, известны своими необычными зелеными глазами и светлыми волосами. Согласно легенде, в 53 г. до н. э., после поражения, нанесенного парфянами армии Красса в битве при Каррах, один из отрядов римских солдат бежал в Китай. В 1950х оксфордский профессор китайской истории Гомер Хазенпфлаг Дабс выступил с теорией, что этот затерянный римский легион оказался в конце концов в Лицяне. Дабс предположил, что некоторые необычные боевые построения, описанные в древнекитайских текстах, могли соответствовать римским методам ведения наступления. Достойно сожаления, что при раскопках не было обнаружено ни римских монет, ни латинских надписей в поддержку теории профессора. Тем не менее светловолосые китайцы из Лицяня служат подтверждением того, что генетическая история ханьцев более туманна, чем кажется многим.
Несмотря на то что ханьские китайцы могут быть сходны по определенным физическим признакам, идея о том, что они представляют собой единую «расу», не менее фантастична, чем заявление, что они все — потомки древнего Дракона. Подобно «англосаксам» или «латиноамериканцам», ханьцы являются целостным биологическим сообществом лишь в нашем воображении.
Рыхлый слой песка
Известно, что для людей часто то, во что они верят, важнее правды; убежденность китайцев в том, что они являются совершенно обособленной частью человечества, уходит корнями в далекое прошлое. Профессор истории Гонконгского университета Фрэнк Дикоттер приводит множество примеров широко распространенного враждебного отношения к чужакам, особенно к кочевникам с севера, со стороны интеллектуальной элиты задолго до непрошеного появления европейцев на территории Китайской империи в середине XIX века. В старых текстах о представителях северных племен постоянно говорится как о дикарях или как о домашней скотине. Китайские филологи, придумывая иероглифы для обозначения этих людей, даже использовали некоторые элементы иероглифов, называющих животных. Идея «окитаивания», то есть включения чужаков в китайское культурное пространство, приравнивалась к понятию очеловечивания. Поэтому, когда должностные лица осажденной цинской империи заявили, что европейские оккупанты принадлежат к той же низшей категории живых существ, что лошади и собаки, они попросту продолжили давно существовавшую традицию нетерпимости по отношению к иностранцам.
После крушения империи и перехода Китая к республиканскому правлению положение дел оставалось столь же неприглядным. Газеты и популярные литературные произведения первых десятилетий XX века были полны расистских ремарок и изображений, а в школьных учебниках то и дело встречались пассажи наподобие следующего: «Человечество подразделяется на пять рас. Представители желтой и белой рас довольно сильные и умственно развитые. Поскольку люди других рас слабые и тупые, белая раса их уничтожает. Только желтая раса способна соревноваться с белой расой. Это то, что называется эволюцией. Только желтая и белая расы могут называться высшими среди современных рас. Китай населен людьми желтой расы».
Несмотря на историю ксенофобии, имеющую истоки в далеком прошлом, китайцы сравнительно недавно стали воспринимать себя как «расу» в биологическом смысле. Ученые конца XIX века, такие как Томас Гексли и Герберт Спенсер, использовали вульгаризованную трактовку дарвиновской теории естественного отбора для обоснования собственной теории о различиях между человеческими расами и о естественном соперничестве между нациями. Труды Спенсера и Гексли попали в Китай в переводах китайского ученого, обучавшегося в Военно-морской академии в Гринвиче. Переводы, сделанные Янь Фу, привели к популяризации идеи о китайской расе и ее предполагаемой борьбе за выживание, борьбе, которая представлялась китайским интеллектуалам тем более осязаемой в свете разнообразных военных поражений, на протяжении столетия наносимых Китаю европейцами.
Несомненным упрощением было бы утверждение, что невинные китайские души были заражены европейским расизмом, тем не менее расистские идеи — это еще один пример усвоения китайцами западных интеллектуальных инноваций. Как ни трудно себе это сегодня вообразить, было время, когда теории расового и национального единства представлялись последним достижением прогрессивной научной мысли. Викторианское общество не видело в Спенсере и Гексли расистов, а, напротив, относилось к ним с почтением как к серьезным ученым и мыслителям. Вышесказанное можно отнести и к Китаю того времени.
Именно вследствие ассоциации расы с прогрессом это понятие занимает столь видное место в «Трех народных принципах», прославленном манифесте Сунь Ятсена, посвященном созданию устойчивого республиканского строя. Сунь считал воспитание расового самосознания у китайцев одним из основных механизмов модернизации государства. Разъезжая по миру с целью сбора средств для восстания, он постоянно думал о будущем Китая. Несмотря на декларированную идею пробуждения в китайцах чувства солидарности, основанного на первоначальных инстинктах общей крови и желтой почвы равнин Северного Китая, на деле Сунь пытался создать современное китайское государство по образцу бисмарковской Германии или мадзиниевской Италии. Сунь хотел скрепить китайскую нацию, определяемую им как «слой рыхлого песка».
Повторяющаяся агрессия со стороны Японии в годы, предшествовавшие и следовавшие за образованием Китайской республики, делала усилия по сплочению нации еще более актуальными. Токио пытался оправдать свое вторжение в Маньчжурию в 1930х фальшивой риторикой о стремлении просто помочь меньшинствам Тибета, Монголии и в особенности Маньчжурии сбросить с себя многовековое иго китайского владычества и достичь самоопределения. Угроза со стороны Японии еще более повысила в глазах националистических лидеров важность пропагандирования среди китайцев идеи о том, что они являются единой и монолитной расой. Казалось, что не только процветание страны, но даже просто ее выживание зависело от этого чувства расового единства. Как замечает историк Ван ГунУ, сплочение китайцев представлялось «единственным средством спасения страны от развала».
В определенном смысле националисты весьма преуспели. В наши дни китайцы порой называют себя «сыновьями и дочерями Желтого императора». Обычно эти слова произносятся с такой степенью убежденности, что нам представляется, что это народное верование, уходящее корнями в долгую историю Китая. На самом деле культ Желтого императора был создан в основном в начале XX века. Он являлся одним из центральных элементов пропагандистских усилий республиканского правительства Суня и его преемников. В период между революцией 1911 года и падением республики в 1949 году насчитывается шестнадцать официальных обращений, в которых Желтый император называется основателем китайского государства. Официальным лицам предписывалось собираться на месте предполагаемой гробницы божества в провинции Шэньси, чтобы выразить ему свое почтение. Мифическому персонажу даже присвоили день рождения, 4 апреля, и этот день был объявлен национальным праздником.
И все-таки попытки националистов возбудить чувство расового единства нации ривели к одной лишь путанице. Труды Сунь Ятсена, которые республиканское правительство трактовало почти как Священное Писание, выдвигают теорию, построенную вокруг идеи общей крови ханьцев. В этом китайском расовом единстве не было места для маньчжурского меньшинства, к которому относились императоры цинской династии и которое националисты обвиняли в продаже страны в полуколониальное рабство. Другие национальные меньшинства также не были включены. Здесь-то и крылась проблема: если эти группы не являются частью китайской монорасовой нации, у них нет причин оставаться в составе китайского государства. Тут был хороший повод для колониальных сил, и прежде всего для Японии, начать вторжение и расчленение китайской территории.
Националистический режим так и не смог прийти к единому решению этого концептуального вопроса. Некоторые ученые пытались доказать, что все население Китая, включая меньшинства, всегда было объединено общим происхождением. Другие утверждали, что множество различных народностей за многовековую историю «слились» в расово единый народ. Все эти теории, конечно, не могли быть правдой. Более того, обе идеи вступали в противоречие с суньятсеновскими неприкосновенными определениями расы.
В этой противоречивой неразберихе нет ничего удивительного, если принять во внимание, что программа китайской расовой категоризации определялась не наукой, а политикой. Целью этих ученых было не установление истины, а доказательство, что расползающаяся и многообразная империя, которую националисты унаследовали после революции 1911 года, основана на чем-то более прочном, нежели цепь произвольных военных завоеваний предшествовавших им цинских правителей.
Некоторые независимые ученые отвергали идею расового единообразия китайцев и настаивали, что правительство должно искать честные пути утверждения национального единства и сопротивления грабительским посягательствам иностранных держав. Например, историк-ревизионист Гу Цзеган подвергал критике «ложь» республиканского правительства о происхождении всех китайцев от одного предка. Он задавал вопрос: «Неужто, когда люди поумнеют, этот обман все еще будет вводить их в заблуждение?» Вопрос этот, как мы вскоре увидим, актуален в Китае по сей день.
Ханьские актеры на стадионе Птичье гнездо
Коммунисты, сменившие националистическое правительство в 1949 году, вначале придерживались иного, в каком-то смысле свежего взгляда на расовый вопрос. Следуя ортодоксальной марксистской теории, они отвергали расовую идею, считая ее буржуазной чепухой. Люди подразделялись на капиталистов и рабочих. Первые эксплуатировали вторых, и этим исчерпывались все существующие в мире различия между людьми. Ранняя риторика Мао Цзэдуна проникнута непоколебимо интернационалистическим духом. Председатель Мао превратил в великий символ солидарности Нормана Бетьюна, канадского врача, сражавшегося на стороне коммунистов против японской оккупации и погибшего в 1939 году. «Какая идея могла воодушевить иностранца беззаветно посвятить себя борьбе за освобождение китайского народа, как если бы это был его собственный народ? — вопрошал он в своей речи в тот год. — Это идея интернационализма, идея коммунизма, и на его примере должен учиться каждый китайский коммунист». Мао закончил речь призывом к объединению китайского «пролетариата» с пролетариями всех стран от Японии и Британии до Германии и Соединенных Штатов. Он доказывал, что только путем объединения рабочих всех стран можно одержать победу над мировым империализмом. Коммунисты подвергали критике националистические теории тех антропологов, которые выдвигали идею расовых отличий. Придя к власти в 1949 году, Мао пообещал независимость национальным меньшинствам, а спустя несколько лет предостерегал против опасности «ханьского шовинизма». Казалось бы, долгие дни владычества расистской идеологии клонились к закату.
Это, однако, оказалось иллюзией. Освоившись с властью, коммунисты нарушили свое обещание предоставить меньшинствам национальную независимось. В 1950 году Китай оккупировал Тибет, а вскоре и остальные малые народы были взяты в железные тиски. Даже после 1976 года, когда Китай стал восстанавливать контакты с миром, самоопределение оставалось для меньшинств абсолютно недосягаемым. Пекинские власти переселили в Тибет и Синьцзян десятки тысяч китайских ханьцев, рассчитывая, что, изменив демографический состав населения в этих стратегически важных районах, они тем самым укрепят там свою власть. Этот приток новых поселенцев в сочетании с политикой официально оказываемого новоприбывшим предпочтения послужил причиной массовых беспорядков и столкновений уйгуров с ханьцами в синьцзянской столице Урумчи в 2009 году. Правда, однако, и то, что в Китае сохраняются некоторые черты интернационалистической политики раннего периода коммунистического правления, выражающиеся в предоставлении национальным меньшинствам определенных льгот. Официальная риторика о единстве в многообразии также продолжается, примером ее может служить парад детей — представителей малых народностей на церемонии открытия Олимпиады 2008 года в Пекине. Тем не менее наглядной иллюстрацией фальши, скрывающейся за этим внешне благополучным фасадом, стало открытие, что дети в красочных костюмах национальных меньшинств, промаршировавшие тем вечером по арене стадиона Птичье гнездо, — это всего лишь ханьские актеры.
Национализм коммунистического правительства имеет и другие проявления. Начиная с 1955 года китайцам запрещено иметь двойное гражданство. В наши дни китайцы, желающие получить гражданство другой страны, должны эмигрировать. Неудивительно, что отказ властей признать, что гражданин может сохранять лояльность по отношению к двум государствам одновременно, вызывает у многих подозрение, что пекинские правители относятся к живущим за границей китайцам как к заблудшим овцам, отставшим от стада. Подобное отношение уходит корнями во времена империи, когда правительство настаивало, что все китайцы, в какой бы стране они ни жили и какое бы расстояние ни отделяло их от отечества, остаются китайскими подданными. То же восприятие сохраняется и сегодня. Даже в наше время многие представители китайской диаспоры опасаются, что если они решат посетить родные места в качестве законных туристов, им не позволят вернуться обратно.
Преемники Мао также заимствовали у своих националистически настроенных предшественников пропаганду расового превосходства китайцев. Например, они с одобрением отнеслись к неубедительной теории о том, что китайцы в отличие от всех прочих представителей человеческого рода берут свое начало вовсе не в Африке. В 1920х в пещерах Чжоукоудяня неподалеку от Пекина были найдены останки первобытного гоминида, жившего примерно 750 000 лет назад. Этот «пекинский человек» (синантроп) был объявлен прародителем китайцев; некоторые ученые приводят его в качестве доказательства особой природы происхождения китайской расы. В 2011 году коммунистическое правительство присвоило Чжоукоудяню статус «места воспитания в духе патриотизма». Государственные средства массовой информации в последние годы также отдают постоянное предпочтение освещению тех исследований, которые развивают теорию об исключительности происхождения китайцев.
Итак, как мы видим, современный нарратив о происхождении китайцев, основывающийся на понятиях крови и почвы, запутан и противоречив. Похоже, что китайцы одновременно являются сыновьями Дракона, сыновьями Желтого императора, а заодно и потомками «пекинского человека». И хотя не каждый гражданин Китая принадлежит к китайской расе, вся территория современного Китая, по всей видимости, исконно «китайская». Трудно отнестись к подобным утверждениям всерьез, однако любые попытки разобраться в этой странной идеологической сумятице приводят сегодняшние власти в состояние нервного напряжения.
Показателен в этом смысле пример таримских мумий. Согласно официальной точке зрения Пекина, китайские ханьцы жили на территории обширной западной провинции Синьцзян уже 2200 лет назад. Однако в XX веке археологи обнаружили в Таримском бассейне Синьцзяна некрополь с захоронениями четырехтысячелетней давност. Более того, черты погребенных казались скорее европейскими, нежели восточными. Генетический анализ подтвердил, что люди загадочного племени и впрямь имели западное происхождение. Это, в свою очередь, вызывает предположение, что европейцы путешествовали по Великому шелковому пути на сотни лет раньше, чем прежде считали историки; таким образом, велика вероятность, что европейцы появились в Синьцзяне еще до ханьцев. Предки теперешнего уйгурского населения Синьцзяна поселились здесь лишь в IX веке н. э., тем не менее таримские мумии грозили стать еще одним стимулом для современного сепаратистского движения. В 2011 году передвижная китайская выставка на территории Соединенных Штатов под названием «Тайны Великого шелкового пути» была внезапно закрыта. Организаторы выставки ссылались на плохую сохранность мумий, однако многими высказывалось предположение, что какой-то чиновник в Пекине решил, что не следует и дальше привлекать внимание к этому поразительному открытию, проливающему свет на раннюю историю спорной части китайской территории.
Карибский регги и малайзийская свинина
Некоторые европейцы и американцы имеют крепкую, почти пуповинную связь с Китаем. Сын двух протестанских проповедников Люциан Пай родился в провинции Шаньси в 1921 году. Он стал профессором Массачусетского технологического института и одним из известнейших в мире ученых-китаеведов. Пай, в частности, полагал, что расовый принцип является центральным в китайской культуре и философии. Он считал этот принцип определяющим не только для китайцев, живущих в Китае, но также и для самой большой в мире, насчитывающей примерно 50 миллионов человек, китайской диаспоры.
«Китайцы, — писал Пай, — считают себя настолько отличными от всех прочих народов, что, даже живя изолированно в отдаленных странах, они называют людей, на чьей земле живут, иностранцами». Этот взгляд на китайцев как на народ, отчужденный от других людей даже за границей, имеет долгую историю. На протяжении XIX века китайских кули, живущих в США, постоянно обвиняли в нежелании смешиваться с другими рабочими и в том, что они всегда держатся вместе. Это положение дел сохраняется и поныне. Часто можно услышать сетования, что команды китайских рабочих, посланные своим правительством в Африку для работы на строительных объектах, таких как дамбы, дороги и электростанции, не покупают ничего в местных магазинах и живут, отрешившись от окружающих, на похожих на крепости огороженных территориях, пока не окончатся работы и не настанет время возвращаться в Китай.
Но все же представители китайской диаспоры отнюдь не всегда соответствуют этому образу от природы замкнутых, шовинистически настроенных людей. В 1970х в Шеффилде поженились мои родители: китаец и англичанка. Семья моего отца не только не выразила своего неодобрения, но, напротив, его родители-иммигранты с радостью благословили этот союз, и это было лишь началом новой тенденции. Согласно переписи населения Великобритании за 2001 год, 20 процентов британцев китайского происхождения состоят в зарегистрированном или гражданском браке с представителями других рас. Более того, по прогнозам специалистов, перепись населения 2011 года покажет еще больший процент смешанных браков, в которые вступают британские китайцы. Практически все знакомые мне молодые китайцы, живущие в Великобритании, состоят в официальном или гражданском браке с некитайцами. В противоположность бытующему стереотипу о родителях-иммигрантах, враждебно воспринимающих браки детей за пределами своего этнического круга, старшее поколение, по моим наблюдениям, весьма одобрительно относится к смешанным бракам своих сыновей и дочерей.
Ассимиляция китайцев вовсе не является чисто британским феноменом. Американцы азиатского происхождения, среди которых китайцы составляют значительную долю, наиболее часто находят себе пару за пределами собственной этнической группы. Из общего числа браков, заключенных в 2010 году в США, 28 процентов американцев азиатского происхождения вступили в брак с лицами, принадлежащими к другим этническим группам. Для сравнения: то же относится к 9 процентам белых молодоженов, 17 процентам чернокожих и 26 процентам латиноамериканцев, образовавших семьи в 2010 году. Женщины чаще мужчин заключают браки вне собственной этнической группы: около 36 процентов невест азиатского происхождения вышли замуж за неазиатов.
В некоторых других частях света китайцы демонстрируют еще более высокую способность к ассимиляции. Чернорабочие-кули из Китая, чаще всего принадлежащие к группе хакка, эмигрировали на острова Карибского бассейна, где они работали на сахарных плантациях, в XIX веке. Эти приезжие рабочие быстро пустили корни на новом месте, часто вступая в браки с местными женщинами и используя всякую возможность открыть собственный бизнес. По некоторым оценкам, около 20 процентов жителей Ямайки имеют китайских предков. Потомки переселенцев утратили китайский язык, однако старые фамилии на острове сохранились. Например, потомок китайцев Рэнди Чин был ключевой фигурой в коммерциализации островной музыки регги, записывая в своей студии в Кингстоне, в числе многих других, молодого Боба Марли. Китайцы оставили заметный след в жизни Карибских островов. Так, у сэра Соломона Хочоя, ставшего первым генерал-губернатором Тринидада и Тобаго после провозглашения независимости страны, были китайские предки. Самая многочисленная китайская диаспора проживает в Юго-Восточной Азии. Среди жителей Индонезии, Таиланда, Малайзии, Сингапура, Бирмы, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Филиппин, вместе взятых, насчитывается от 18 до 20 миллионов этнических китайцев. Считается, что некоторые из них впервые появились в регионе более тысячелетия назад, во времена Танской династии, однако большинство эмигрировало из Южного Китая, спасаясь от беспорядков и гражданских войн девятнадцатого столетия. Эту группу часто характеризуют как «временных жителей», попутчиков, не имеющих никакого желания ассимилироваться в жизни или культуре принявшей их страны. Их также часто называют «евреями Востока» из-за доминирующей роли, которую они занимают в коммерции, и, как считается, преданности скорее международной этнической группе, нежели государству, гражданами которого они являются.
Тан Чжицян из Национального университета Сингапура, проведя обширные исследования среди китайской диаспоры региона, пришел к выводу, что в реальной жизни все гораздо сложнее и сильно отличается от клишированного образа неизменно отчужденного от остальных сограждан народа. Он замечает, что в Таиланде китайцы успешно интегрировались в местное общество, сохраняя при этом присущее им национальное своеобразие. «Сегодня большинство живущих в Таиланде китайцев владеют тайским языком, посещают тайские школы, вступают в тайские сообщества, отмечают тайские национальные праздники и считают себя гражданами этого государства, — пишет он. — Одновременно с этим в стране сохраняются китайские школы и общественные организации, по-прежнему широко практикуются китайские религиозные ритуалы, и большинство членов китайской диаспоры определяют себя как китайцев».
Кроме того, в Юго-Восточной Азии всегда были распространены межнациональные браки между этими, по утверждению некоторых, отчужденными «временными жителями» и представителями местного населения. Хосе Рисаль, национальный герой Филиппин, казненный в 1896 году испанскими колониальными властями, имел китайских предков. Прапрадед первой женщины-президента этой бывшей колонии Корасон Акино был китайским иммигрантом. А человек, титул которого вызывал постоянные насмешки в англоговорящем мире, кардинал Хайме Лачика Син, покойный архиепископ Манилы, был сыном торговца старьем из Сямэня. Прапрадед теперешнего премьер-министра Таиланда Йинглак Чиннават также был китайцем.
В Малайзии и Индонезии потомков китайских иммигрантов, вступивших в брак с местными женщинами, в ознаменование их местных корней называют «перанаканами», что означает «дети почвы». Малайзийские перанаканы говорят на малайском языке, но с включением в него китайских диалектизмов. И хотя их кухня по преимуществу малайская, они употребляют свинину — продут, запрещенный религиозными правилами для составляющего большинство мусульманского населения страны. Степень культурной ассимиляции и причины, по которым она сильнее в одних странах и слабее в других, остаются предметом для научной дискуссии, но идея о том, что китайцы Юго-Восточной Азии напрочь изолировали себя от коренного населения стран, где когда-то обосновались их предки, и что вызвано это их презрительным отношением к местным, не выдерживает никакой критики.
Похоже, что история повторяется и на новых рубежах эмиграции. Мы часто думаем, что Африка является объектом имперских замыслов для китайцев, что, несмотря на огромные капиталовложения в ее инфраструктуру и постоянный ежегодный приток рабочей силы с востока, китайцы практически не смешиваются с местным населением. И все же этот общепринятый образ не желающих ассимилироваться китайцев обманчив. Все возрастающее число китайских мелких торговцев в Африке женится на местных девушках, как делали когда-то их предшественники в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке. Никак не подпадая под стереотип народа, неспособного отказаться от образа жизни, принятого в оставленной ими стране, китайцы показали себя людьми, довольно успешно встраивающимися в жизнь государств, ставших для них новой родиной.
«Шоколадный город»
Спору нет, бытовой расизм и ксенофобия на уровне рефлексов — угнетающе обыденные черты в жизни современного Китая. На улице Тунсинь в Гуанчжоу, где живет мой двоюродный дед, воздух часто бывает пропитан дымными ароматами баранины, которую тут же жарят на шампурах на расположенных на углу лотках мусульмане в белых шапочках — представители народности хуэй. Несмотря на присутствие мусульман в этом большом торговом городе начиная с VII века, многие жители до сих пор относятся к ним с подозрением. Как-то вечером в Гуанчжоу, когда, выйдя из ресторана вместе с родственниками, мы остановились, продолжая разговор, на тротуаре, один из моих двоюродных братьев начал суетиться, требуя, чтобы мы поскорее возвращались домой и вообще присматривали за своими вещами. Поначалу я не понял, в чем дело, но вскоре до меня дошло, в чем была причина его беспокойства: на улице было много мусульман.
Пробираясь через лабиринт узких улочек в городском районе Сяобэй, можно набрести на ближневосточных торговцев, продающих дешевую одежду и мобильные телефоны. Однако самый большой процент иммигрантов в Гуанчжоу составляют африканцы; согласно официальной статистике, их в городе около 20 тысяч, в основном из Нигерии, Камеруна и Мали, но также и из множества других стран. И приезжают они в Китай не как продавцы, а как покупатели. Они закупают на фабриках провинции дешевую одежду, обычно второго сорта, и везут ее к себе на родину, где можно продать ее с хорошей прибылью. Эти современные купцы не оплачивают морские грузовые перевозки, как это делают транснациональные западные корпорации, использующие Китай в качестве своего цеха. Вместо этого они отправляют приобретенные товары коммерческими авиарейсами.
Почти ежедневно можно наблюдать африканцев, толпящихся в очередях в международном аэропорту Гуанчжоу. Огромные тюки одежды, туго обернутые в зеленый полиэтилен, балансируя, громоздятся у них на тележках. Это их «багаж», и они ждут очереди на его регистрацию. Это занятие кажется ужасно хлопотным, но импортирование дешевой одежды из Китая является прибыльным делом, и число прибывающих из Африки новых торговцев растет с каждым годом. Водители такси теперь называют Сяобэй «Шоколадным городом».
Как и к мусульманам, китайцы относятся к новоприбывшим с подозрением. По словам местных жителей, эти кварталы наводнены наркоторговцами, ворами, нелегальными иммигрантами и заразой. Похоже, что в сознании многих городских обитателей африканцы и преступность представляются синонимами. Летом 2009 года Шоколадный город дошел почти до точки кипения, когда нигериец по имени Эммануэль Окоро, спасаясь от преследования иммиграционной полиции, выпал из окна второго этажа. Его соотечественники отнесли находящегося в бессознательном состоянии Окоро в полицейский участок и устроили там импровизированный протест против притеснений, испытываемых ими со стороны властей. На протяжении трех часов движение по одной из восьмилинейных супермагистралей Гуанчжоу было заблокировано, что вызвало предсказуемые дебаты об «африканской проблеме» в китайских средствах массовой информации.
Большинство людей, почему-либо очутившихся в гонконгском районе Коулун, скорее всего проходили мимо Чункин-Мэншенз — обветшавшего здания, в котором размещаются дешевые гостиницы и магазинчики. Посетитель, отважившийся заглянуть в эту Вавилонскую башню двадцать первого века, обнаружит внутри индийские ресторанчики, где карри подается на пластиковые столы, африканцев, задешево сбывающих мобильники из своих тесных ларьков, до потолка забитые многоцветными тканями магазинчики, где продаются сари, и непальские заведения, торгующие самопальными компакт-дисками. Подобно Сяобэю, Чункин-Мэншенз пользуется дурной славой среди местных китайцев, которые считают это место рассадником наркомании и преступности. Полиция также особо пристально наблюдает за зданием.
Когда дело касается национальных вопросов, идея политкорректности чужда Китаю. Старое выражение «иностранные дьяволы», впервые вошедшее в употребление в XIX веке, до сих пор бездумно слетает с губ даже самых на первый взгляд просвещенных и вежливых китайцев. Распространено покровительственное отношение к представителям китайских национальных меньшинств и к японцам, или «япончикам», как их часто называют, используя еще одно пренебрежительное словечко, оставшееся в наследство от императорских времен. Можно столкнуться с поразительным отсутствием такта: например, в китайских универсамах до сих пор продается зубная паста «Негр» с изображением черного певца в цилиндре и со сверкающими зубами на упаковке. Многие африканские студенты жалуются на гнетущее чувство отчужденности. Имеются и сообщения об отказе в приеме на работу из-за «неправильного» цвета кожи.
Не следует преуменьшать все эти проявления расизма, однако важно рассматривать их в определенном контексте. В период между 1950 и 1970 годом Китай представлял собой закрытое общество. Председатель Мао превратил страну в гигантскую тюрьму, во многом подобную сегодняшней Северной Корее. Немногим иностранцам, которым удавалось проникнуть за ее высокие стены, не разрешалось оставаться здесь надолго, не говоря уже о возможности вступления в брак с местными гражданами. Несмотря на то что в наше время число постоянно живущих в Китае иностранцев растет, оно все еще сравнительно невелико: около одного миллиона. Старая привычка китайцев, уставившись, с любопытством разглядывать белых людей и других иностранцев, постепенно уходит в прошлое; в больших городах она исчезла уже некоторое время назад, но во многих местах все еще сохраняется. В 2012 году на курорте, расположенном на холмах над Шэньчжэнем, множество улыбающихся китайских туристов просили мою белую жену-англичанку попозировать рядом с ними для фотографий по той единственной причине, что она иностранка и выглядит поэтому необычно. Другие, более тактичные, делали снимки с некоторого расстояния.
В том же контексте не стоит забывать, что еще в 1950х Великобритания была страной необузданного расизма; дискриминация против темнокожих иммигрантов с Карибских островов и пакистанцев, касалось ли это расселения или работы, была каждодневным обыденным явлением. Это была эра вывесок на дверях сдававшихся меблированных комнат: «Владельцам собак и неграм не обращаться». А в Америке существовавшие во многих штатах законы «против смешения рас», запрещавшие межрасовые браки, были отменены Верховным судом США как противоречащие Конституции только в 1967 году. Западу потребовалось время для изменения законов и отношения публики к данному вопросу.
Почему то же самое не может случиться и в Китае? Некоторые, пусть еще робкие, знаки, что эти изменения происходят, уже видны. Профессор Гонконгского университета Барри Саутман на протяжении двух десятилетий изучает межрасовые отношения в Китае. Он провел серию интервю с африканскими студентами в Китае после беспорядков 1988 года, фиксируя случаи расизма и враждебности, испытываемые ими со стороны местного населения; он продолжал интервьюировать приезжающих в страну африканцев в последующие годы. Саутман отмечает заметное улучшение во взаимоотношениях, произошедшее с тех пор. В конце 1980х и в 1990е африканцы часто опасались посещать определенные места в городах, где они жили, из-за угрозы физического насилия со стороны местных жителей. Сейчас положение дел заметно улучшилось. «За последние годы не было ни одного из проинтервьюированных мной африканских студентов, кто считает, что в стране есть места, где они не могут чувствовать себя в безопасности», — рассказал он мне.
Это мнение подтверждает и Лоретта Эванс, американка африканского происхождения, уже восемь лет живущая в Китае. В 2012 году она поделилась своими впечатлениями в интервью на телеканале Си-эн-эн: «Да, иногда люди разглядывают меня в упор или прикасаются к моей коже, как будто хотят проверить, не сотрется ли с нее краска. Но по-моему, причина этому не враждебность, а простое любопытство». Она даже предположила, что в Китае отношение к неграм в каком-то смысле лучше, чем в Америке: «Здесь я не ощущаю негативного отношения из-за цвета кожи, как это бывает у меня на родине. Здесь мне удалось сделать кое-что, например, открыть собственную геофизическую фирму, чего, будучи чернокожей женщиной, я скорее всего не смогла бы осуществить, живя в Штатах. Китайцы относятся ко мне как к необычному человеку. Однако здесь я прежде всего другая и лишь потом черная».
Свидетельство Лоу Цзин, девушки из Шанхая, чей отец был негром, подвергшейся после выступления в телешоу расистским оскорблениям в Интернете, также заслуживает внимания. Она заявила, что была особенно потрясена расистскими комментариями в Интернете, поскольку, живя в Китае, никогда не испытывала на себе такой расовой ненависти. «До сих пор я никогда не ощущала себя отличной от других из-за цвета моей кожи, — рассказала она корреспонденту. — Мне приходилось иногда встречать на улице людей, указывавших на меня и говоривших, что у меня темная кожа, но их тон не был оскорбительным». Кстати, иногда в состязаниях талантов на китайском телевидении чернокожие участники добиваются хороших результатов. Либерийский певец занял второе место в конкурсе «Как стать звездой» на CCTV в 2006 году, а в 2007 году четвертое место занял гражданин Сьерра-Леоне. Оба они пользовались популярностью среди зрителей и были даже впоследствии приглашены на передачу в качестве судей.
Саутман и группа ученых из Университета Гуанчжоу провели в 2009 году исследования, посвященные изучению отношения местных жителей к африканским иммигрантам. Они обнаружили, что китайцы, работающие вместе с неграми, например, торговые посредники и владельцы магазинов, относятся к ним гораздо лучше, чем те, кто не имеет с ними контактов. Чем больше времени проводят китайцы вместе с африканцами, тем меньше остается у них предрассудков по поводу якобы связанной с неграми преступности.
Благодаря результатам своих исследований Саутман испытывает определенный оптимизм относительно будущего межрасовых отношений в Китае. «Не существует данных об усилении с течением времени ксенофобских настроений среди китайцев. Так же, как нет данных о том, что китайцев отличает большая степень ксенофобии по сравнению с другими народами», — пишет он. Это мнение перекликается со взглядами профессора политологии из Городского университета Нью-Йорка Янь Сунь, полагающей, что расширение контактов приведет к реформированию отношений. «По мере того как рыночные отношения и процесс глобализации будут заставлять китайцев вступать в более тесные контакты с иностранцами, конфликты окажутся неминуемы, — утверждает она, — но одновременно будет происходить и улучшение отношений».
Сейчас можно наблюдать все больше признаков этого улучшения. Если можно судить по отзывам в китайском Интернете, с момента избрания Обамы президентом в 2008 году отношение к неграм стало более благоприятным. Когда на съезде демократической партии 2012 года Мишель Обама произнесла речь в поддержку мужа, многие пользователи китайского Интернета отзывались о ней с восхищением, замечая, что невозможно представить жен их собственных руководителей публично произносящими подобные речи. «Китай, когда наконец и у нас появится такая же первая леди?» — вопрошал один из них. Эти эмоции не имели ничего общего с ушатом оскорблений, выплеснутых в Интернете на другую афроамериканку, Кондолизу Райс, семью годами ранее.
Любовь, в свою очередь, также сокрушает барьеры. Количество межэтнических браков в Китае растет, особенно в крупных городах. Количество китайских граждан, сочетающихся узами брака с иностранцами, более чем удвоилось по сравнению с 1985 годом: 22 тысячи браков тогда и 49 тысяч в 2010 году. Вот один из примеров на высоком уровне. Единокровный брат Барака Обамы женат на уроженке провинции Хунань. Марк Окот Обама Ндесандьо, свободно говорящий по-китайски финансовый консультант, живет в расположенном на юге городе Шэньчжэнь и, как кажется, доволен приемом, оказанным ему в Китае. Незадолго до воссоединения братьев в 2009 году он поведал корреспонденту журнала «Тайм»: «Я так рад приезду моего брата в Китай, потому что сам я имел возможность ощутить на себе теплоту и великодушие китайского народа».
Мои собственные родственники с удовольствием рассказывали мне о некоем старом человеке из деревни в Гуандуне, откуда происходят наши предки, внучка которого вышла замуж за врача-африканца, работающего в больнице в Гуанчжоу. Истории такого рода можно слышать в Китае все чаще, и внутренний голос подсказывает мне, что они довольно быстро перестают шокировать местное население.
Желтая раса
Наивно было бы утверждать, что расширение контактов с людьми извне само по себе может искоренить свойственный китайцам расизм. Во времена британского владычества Гонконг представлял собой перевалочный пункт для людей всех национальностей. Перед глазами его семимиллионного населения в течение долгого времени проходили представители разных рас и религий со всего света. Европейцы, индийцы, пакистанцы, филиппинцы, индонезийцы, тайцы, южноафриканцы и непальцы составляют почти 5 процентов от общего населения Гонконга. Они являются неотъемлемой частью местной жизни и культуры. Легендарная паромная компания «Стар ферри», перевозящая пассажиров между Коулуном и островом Гонконг на своих весело раскрашенных бело-зеленых судах, была основана индийским купцом в 1888 году. И тем не менее после перехода территории в 1997 году под контроль пекинского правительства гонконгская администрация отговаривала индийцев от принятия китайского гражданства. Многие уроженки Южной Азии, работающие горничными в домах богатых горожан, постоянно жалуются на переживаемые ими притеснения на расовой почве. Система привилегированных частных школ отвергает детей, принадлежащих к национальным меньшинствам, из-за их недостаточного владения китайским. Фраза «гуэй ло», означающая на кантонском диалекте «человек-привидение» и использовавшаяся для обозначения белых людей, настолько распространена, что большинство людей даже не осознает оскорбительности ее этимологии.
И однако же бывшая колония может служить примером того, что перемены в Китае на самом деле возможны. Огласка истории Хариндер Верайя, скончавшейся в больнице Раттонджи и перед смертью жаловавшейся на пренебрежительно-расистское отношение к себе, вызвала такое публичное негодование, что власти в конце концов приняли в 2008 году антирасистский закон против дискриминации. Закон этот далеко не совершенен, не в последней степени потому, что его положения не регулируют работу правительственных организаций, в том числе полиции, но участники кампании за его принятие считают, что это только начало. К примеру, теперь незаконным считается отказ домовладельцев сдавать жилье людям на основании цвета их кожи. Вот таким путем, путем гражданских протестов и просвещения народа, прогресс должен наконец прийти в Китай. В конце концов, именно так наше собственное общество в свое время объявило ршительную войну расизму на родной почве.
Обнадеживает, что проявления расизма в материковом Китае теперь не остаются без ответа. После истории с Лоу Цзин обозреватель газеты «Чайна дейли» Рэймонд Чжоу заявил читателям: «Настало, наконец, время ввести какое-то обучение корректному поведению в ситуациях, затрагивающих чье-либо расовое или национальное достоинство, если мы хотим войти в орбиту глобализации. Люди должны понять, что если, по их мнению, у них есть право дискриминации против представителей другой расы, они тем самым автоматически предоставляют другим право дискриминации против них самих».
Можно иногда встретить упоминания о том, что за направленными против африканцев студенческими беспорядками зимы 1988 года последовала волна студенческих выступлений в поддержку демократии в 1989 году. Часто те же самые студенты, которые скандировали призывы убрать «черных дьяволов», спустя шесть месяцев выкрикивали лозунги в поддержку свободы слова и прав человека. Некоторые даже утверждают, что таким образом в основании китайского движения за демократию лежит первородный грех расизма. Эти заявления игнорируют тот факт, что выступавшие за реформы активисты также не раз бросали вызов проявлениям китайского расизма. Когда в 2005 году Кондолиза Райс подверглась оскорблениям на страницах китайского Интернета, герой событий на площади Тяньаньмэнь Ли Сяобо написал статью, проникнутую страстным осуждением расовой нетерпимости, проявленной его соотечественниками.
Ободряет и растущая тенденция критики расизма среди других пользователей Интернета. Многие из них выступили в защиту Лоу Цзин. «Откажитесь от дискриминации, все люди равны», «Послушайте, не надо говорить о ней в таком тоне», «Она наша, родилась и выросла в Шанхае», — вот всего несколько комментариев в ее поддержку. Это демонстрирует тот факт, что внутри китайского общества происходят дебаты о расовых предрассудках. Вопреки нашим представлениям расисты в этих спорах далеко не всегда одерживают верх.
Современные поп-музыка и культура выставляют господствующие в Китае настроения относительно расовых вопросов в весьма двусмысленном свете. Се Тинфэн хорош собой, каким и следует быть классическому идолу Кантопопа — под таким названием известна гонконгская музыкальная индустрия. На протяжении последнего десятилетия он был в основном известен тем, что заводил романы с актрисами и разбивал свои дорогостоящие машины, но во время подготовки к пекинской Олимпиаде 2008 года он принял новый образ поборника националистических идей, выступив с помпезной песней под названием «Желтая раса». В видеоролике терракотовые воины выходят из своей гробницы, выстраиваются в могущественную армию и под предводительством Се идут на камеру. Песня включала в себя фразы: «желтая раса спустилась на Землю, расправь свою грудь» и «только мы, китайцы, самоотверженно напрягаем все силы». Зрелище, казалось, было создано для того, чтобы подстегнуть нашу паранойю по поводу свойственного китайцам чувства расового превосходства.
Тем не менее из виду очень часто выпускается другой момент, относящийся ко взглядам китайцев на расовый вопрос. Эти взгляды отнюдь не всегда столь воинственны, как в примере с Се. Порой на сцену выступает попытка самоанализа, желание разобраться в себе. В 2001 году гонконгская хип-хоп группа «Lazy Mutha Fucka» (LMF) выпустила «1127» — песню о мастере боевых искусств Брюсе Ли. Ли — первый китайский актер, ставший голливудской звездой. В песне (названной так по дню рождения Ли, приходящемуся на 27 ноября) LMF восхваляет его за то, что своим успехом в западной киноиндустрии, где китайцев традиционно изображали злодеями, он пробудил в соотечественниках чувство гордости, а также за утверждение позитивной философии экспериментирования и веры в свои силы. У меня перед глазами картина: в номере гостиницы южного города Дунгуань приятель проигрывает песню в виде караоке. Он не нуждался в субтитрах. Каждое слово было впечатано в его память.
«Хотите вы того или нет»
Покойный китайский премьер и правая рука Председателя Мао, Чжоу Эньлай, хвастался как-то по поводу «однозначного отсутствия» расизма в Китае. Как всегда, это был самообман и самодовольная чушь. Китай времен императоров был пропитан ксенофобией, а после падения империи националистическая пропаганда, вдохновляемая идеями Сунь Ятсена об участии Китая в глобальной межрасовой борьбе, способствовала усилению этих настроений. Сегодняшние коммунистические руководители более тонко, но не менее коварно способствуют поддержанию в народе все тех же предрассудков.
Тем не менее страхи, что китайцы в глубине души — это нация свирепых «боксеров», только и ждущих первой возможности заняться истреблением иностранцев, — не более чем параноидальный бред. Как бы ни были несимпатичны и неуклюжи организуемые властями в последние годы рейды по поимке предполагаемых нарушителей визового режима, стоит помнить, что подобные кампании по принудительному обеспечению соблюдения закона обычны во вроде бы свободных от расовых предрассудков странах Запада. Более того, нет оснований предполагать, что живущая в народе ксенофобия не может быть преодолена. «Научный» расизм охватил Китай тогда же, когда он охватил Европу и Америку. И подобно тому, как это произошло на Западе, положение дел можно исправить путем проведения кампаний по просвещению общества и применением закона. Невозможно отыскать в китайской культуре уникальные, присущие лишь ей черты, делающие расизм неискоренимым.
Конечно, Китаю предстоит еще многое сделать в этом направлении; на протяжении десятилетий страна была изолирована от движения людей и идей в мире, и в этом одна из главных причин проблемы. В то же время по сравнению с западными странами Китаю в каком-то смысле потребуется меньше усилий для искоренения расовых предрассудков и связанных с ними зол. В отличие от Европы и Америки XX века Китаю никогда не был свойствен системный политический расизм. В истории страны не было преступлений, сравнимых по масштабам с трансатлантической работорговлей, истреблением и обречением на жизнь в резервациях американских индейцев, расовой сегрегацией в южноамериканских штатах или холокостом. Тот факт, что китайские власти освободили национальные меньшинства от соблюдения государственного закона об «одном ребенке», свидетельствует о внедрении сегодняшним Пекином большой программы по «исправлению» ошибок в национальной политике.
Понимание вопроса в контексте также необходимо. Китайский Интернет часто напоминает расистскую сточную канаву, но то же самое можно сказать и об огромной части кибернетического пространства других стран. Отношение к расовым проблемам в западном обществе отнюдь не столь просвещенное, как нам хотелось бы думать. Социологический опрос 2009 года показал, что 51 процент белых американцев считает, что расизм все еще широко распространен в США. Около 59 процентов латиноамериканцев и 78 процентов американских негров разделяют это мнение. Это ни в коем случае не служит оправданием китайского расизма, но лишь напоминает нам, что в нем нет ничего уникального.
Экономические силы также оказывают позитивное воздействие на реформирование Китая в этой области. Китайское правительство делает все, чтобы убедить заграничных бизнесменов в выгоде прямых инвестиций в экономику страны, а также чтобы привлечь для работы в Китае большее количество высококвалифицированных иностранных специалистов и инженеров. Реформистское крыло партийной верхушки считает, что оба эти фактора чрезвычайно важны для модернизации китайской экономики. Страна с отсталыми, непреодоленными расистскими взглядами не кажется особенно привлекательной. Лозунг, использовавшийся для подготовки китайцев к наплыву иностранцев во время Олимпиады 2008 года, — «Не правда ли, радостно, когда друзья приезжают издалека?» — является древней фразой, заимствованной из первой главы «Суждений и бесед» Конфуция, но его настроение также выражает очень современный экономический императив.
Удивительным образом пример Хоу Дэцзяня демонстрирует возможность перемен. Вслед за успехом песни «Наследники Дракона», в начале 1980х, певец эмигрирова в Китай, вызвав тем самым ярость тайваньских властей. Однако вскоре Хоу стал также выводить из себя хозяев принявшей его страны. Вместо того чтобы почивать на лаврах певца расового превосходства, Хоу присоединился к студенческому движению протеста. Он стал одним из неофициальных лидеров демонстрации 1989 года на площади Тяньаньмэнь. И там, в этом горниле общественно-демократической активности, Хоу познакомился со многими представителями национальных меньшинств Китая. Тогда он осознал, что отнюдь не все наследники Дракона наделены «черными волосами, черными глазами, желтой кожей». «Наследники Дракона» по-прежнему были невероятно популярны и стали одним из гимнов студентов тяньаньмэньского протеста; летний бриз разносил песню по широкому простору пекинской площади. И поэтому Хоу решил внести изменения в свои знаменитые стихи: строка «черные глаза, черные волосы, желтая кожа — всегда и навеки наследник Дракона» преобразовалась в «хотите вы того или нет, всегда и навеки наследник Дракона». Песня, начавшая свою жизнь как примитивная фантазия на расовую тему, приобрела более сложное значение. И этот пример может стать уроком для Китая.
Миф третий
Китайцам не нужна свобода
В первые месяцы 2011 года сотни тысяч обыкновенных людей в арабском мире довольно неожиданно для всех восстали и опрокинули авторитарные режимы, властвовавшие над ними на протяжении десятилетий. Тем самым они заодно опрокинули и догму: убежденность многих в том, что люди в этих странах не нуждаются в самоуправлении. Арабская весна продемонстрировала правоту веривших в победу демократии оптимистов: обыкновенные люди могут находиться под гнетом очень долго, но это состояние не может длиться вечно; однажды они выйдут на улицы с требованием свобод. В этой пьянящей атмосфере борьбы за справедливость некоторые осмеливались утверждать, что вскоре мы увидим падение следующего авторитарного режима, величайшего из них всех — Китая.
Некоторые китайские борцы за демократию определенно на это надеялись. «Сегодня мы все египтяне, — написал в своем микроблоге в Твиттере художник и правозащитник Ай Вэйвэй в момент, когда толпы людей на площади Тахрир в Каире праздновали окончательную победу над диктаторским режимом Хосни Мубарака. — Всего 18 дней потребовалось для сокрушения военного режима, бывшего у власти на протяжении 30 лет и казавшегося гармоничным и стабильным. Для этой штуки [коммунистической партии], правившей 60 лет, может понадобиться несколько месяцев». Это была, конечно, шутка, но в то же время его слова были вдохновляющим электронным призывом к Китайской весне. И на призыв откликнулись. Активисты Интернета провозгласили 19 февраля днем «Жасминовой революции». Было объявлено, что в крупных городах Китая по всей стране пройдут мирные демонстрации. Надежда была на то, что уличные протесты перейдут в массовое движение, как это случилось на Ближнем Востоке, и в конечном итоге воля народа приведет к свержению власти коммунистической партии.
Что же произошло потом? Да в общем-то ничего особенного. Около двух сотен людей собрались в районе пекинской торговой улицы Ванфуцзин. По словам присутствовавших при этом репортеров, демонстрантов трудно было отличить от покупателей, снующих в тени гигантских рекламных щитов в поисках выгодных покупок. Возможно, человек сто вышли на Народную площадь в Шанхае. Во многих городах полиция и иностранные журналисты превосходили числом демонстрантов. Активисты скандировали свои лозунги. Полиция арестовала нескольких человек. Ай Вэйвэй был посажен в тюрьму за попытку организовать политический переворот. И жизнь покатилась дальше. Демократическая весна в Китае не наступила, жасмин не зацвел.
Высказывались предположения, что вся история является доказательством отличия Китая от других стран. «В обозримом будущем революции в Китае не будет», — таков был вердикт Мелиссы Чан на англоязычном телеканале «Аль-Джазира». «Отчего китайцев не вдохновили египетские события» — заголовок в «Файнэншл таймс». В то время как мощный революционный подъем пробудил угнетенных людей на Ближнем Востоке, Китай остался незатронутым этим движением. Почему? Значит ли это, что большинство китайцев не нуждаются в демократии? Было ли движение, приведшее к событиям 1989 года на площади Тяньаньмэнь и беспощадно подавленное, всего лишь курьезным отклонением от нормы? Действительно ли китайцам не нужна свобода?
Дух раболепства
Наша убежденность, что китайцам нравится, когда им указывают, что делать, формировалась веками. Немецкому философу XIX века Георгу Гегелю о мировом духе, «Weltgeist», было известно все. Его представление об истории как о разворачивающемся процессе, приводимом в движение грандиозной диалектикой духовных сил и идей, было заимствовано Карлом Марксом, поставлено с ног на голову и преобразовано в более влиятельную теорию диалектического материализма.
Гегель никогда не бывал в Китае, но это не помешало ему выработать поразительно четкое мнение о китайском характере. «Им вовсе не кажется ужасным, — пишет он в своих лекциях, посвященных философии истории, — продать себя в рабство и питаться горьким хлебом рабства». Гегель подхватывает тему, выдвинутую в XVII веке Монтескье, утверждавшего, что «в Азии правит дух раболепства, от которого они никогда не смогут избавиться, и что невозможно найти во всей истории этой страны [Китай] хоть одну строку, которая указывала бы на свободу духа; мы не увидим здесь ничего, кроме неумеренного рабства».
Откуда появилась у Монтескье эта идея? Как и Гегель, он никогда не бывал в Китае и не умел читать по-китайски. Возможно, он заимствовал эту мысль у древнегреческого философа Аристотеля, говорившего, что «жители Азии умны и изобретательны, но им не хватает силы духа, и поэтому они всегда находятся в положении подчинения и рабства».
Не исключено, что Гегель, как и все в Европе в ту эпоху, находился также под впечатлением донесений Маттео Риччи, иезуитского миссионера, жившего в XVII веке в Китае. Риччи, служивший при дворе минского императора, описывает народ, не имеющий претензий к своим правителям. «Они совершенно удовлетворены тем, что имеют, — замечает он. — В этом отношении они отличны от европейских народов, часто недовольных собственными правительствами».
Протестантские миссионеры XIX века вторят этому мнению, замечая, что китайцы всегда готовы склониться перед властью. В их отчетах низкий поклон, при котором кланяющийся касается головой земли, предстает типично «китайским» жестом. Хотя Карл Маркс и отвергал идеалистическое гегельянское учение, его собственная теория «азиатской модели производства», изображавшая Китай страной, застрявшей на дофеодальном уровне принудительного труда, не оставляет места для стремления китайцев к свободе.
Каким бы образом ни родилась эта идея, на протяжении веков западные философы были убеждены в свойственной китайцам от природы политической пассивности. Для некоторых, как для Гегеля и Монтескье, это раболепие было синонимом отсталости и вызывало отвращение. Другие, напротив, восхищались этим свойством китайцев. В своей пользовавшейся популярностью работе «Деспотизм в Китае» французский экономист XVIII века Франсуа Кенэ призывает французских монархов учиться у философов и государственных институтов страны, которую он называет «самым процветающим королевством из когда-либо известных».
Теория о том, что китайцы не нуждаются в свободе в той же мере, что и мы, сохранилась и после падения империи. «У китайцев всегда были хозяева и всегда будут», — эти слова Уильям Сомерсет Моэм вложил в уста лицемерного социалиста по имени Хендерсон — героя своих рассказов, вдохновленных поездкой писателя в Китай. Мнение Хендерсона перекликается с более поздним высказыванием американского китаиста Люциана Пая, заявлявшего, что «китайцам недостаточно жить под управлением закона, они хотят иметь над собой правителей». Согласно Паю, китайцы считают, что «власть должна исходить сверху… факт, признаваемый всем населением».
«Пусть правитель будет правителем, подданный — подданным, отец — отцом, а сын — сыном», — провозглашает Конфуций в своих «Суждениях и беседах». По утверждению Пая, это учение великого китайского мудреца всегда находит отражение в китайской политической практике. «Неослабная настойчивость в воспитании почтительности к родителям приучает китайцев с первых лет жизни воздерживаться от выражения агрессии в отношении лиц, обладающих властью, данной самой природой», — пишет он. Китайцы послушно следуют указаниям своих лидеров, поскольку политические правители являются «гиперболизованным выражением конфуцианской модели отца как средоточия всеобъемлющей власти в семье». По словам политолога Сэмюэля Хаттингтона, чью теорию «Столкновения цивилизаций» многие до сих пор находят убедительной, «Конфуцианская демократия — понятие, несомненно несущее в себе внутреннее противоречие».
Еше один американский китаист, Ллойд Истман, также разделяет эту точку зрения, добавляя, что при любых китайских экспериментах с демократическими структурами результаты всегда оказывались катастрофическими. «Вследствие самой природы китайского общества и свойственной ему политической традиции, по-видимому, причиной одной из пережитых Китаем трагедий XX века была попытка, в поисках жизнеспособной политической системы, ввести демократические институты», — пишет он в 1970х. К какому же выводу он приходит? «В своей основе англо-американский тип демократии оказался совершенно неподходящим для Китая». По мнению Истмана, китайцам следует придерживаться органичной для них формы правления, а именно — автократии. Такая правительственная система в Китае была «лучше приспособлена для того, чтобы принести наибольшее благополучие наибольшему числу людей».
Все эти идеи о несовместимости китайцев и свободы стали в конце концов общепринятыми. В серии телепередач 2012 года, посвященных Китаю, историк Нил Фергюсон приходит к заключению: «Китайцы мыслят в той же степени отлично от нас, насколько их письменность отличается от нашей». Он добавляет: «Все базовые идеи, впитанные мной с детства, в особенности идея свободы индивидуума, здесь просто неприменимы».
На Западе правительства приобретают легитимность, выиграв выборы. В Китае это, по всей видимости, не так. Профессор политической философии Университета Цинхуа Даниел Белл утверждает, что коммунистическая партия «недемократическими методами» добивается народного признания. Партия обладает «легитимностью производительности», поскольку под ее руководством на протяжении последних трех десятилетий жизненный уровень населения растет. А оттого что партия является «политической меритократией», позволяя одаренным расти и занимать высшие посты, китайцы признают за ней право на управление страной. «Китайцы более озабочены тем, чтобы иметь высококлассных политиков, нежели самой выборной процедурой», — объясняет Белл. И нужна ли китайцам в принципе свобода западного образца? Порой можно слышать, что китайцы, не связанные бюрократией и многочисленными правилами, принятыми в развитых странах, на деле пользуются гораздо большей личной экономической свободой, чем мы, даже если они и не могут выбирать правительство.
По мнению некоторых, формы политического управления в Китае всегда оставались примерно одинаковыми, и таковыми они будут всегда. В 1957 году Карл Виттфогель, историк, эмигрировавший из нацистской Германии, назвал древний Китай «гидравлической империей». Это означает, что во времена империи формирование государства находилось в прямой зависимости от воды, значение которой в экономике было первостепенным. Засушливый климат Северного Китая требовал проведения колоссальных ирригационных работ — строительства каналов и дамб и рекрутирования для этого населения, без чего невозможно было обеспечить необходимый для страны уровень производства сельскохозяйственной продукции. Эти ирригационные работы были столь грандиозны, что могли быть осуществлены только правителями, порабощавшими крестьян и заставлявшими население работать на нужды государства. Эту систему подневольного труда можно было эффективно координировать только путем действенной бюрократии. А действенная бюрократия, в свою очередь, позволяла правителям в зачатке подавлять любые независимые гражданские институты, такие как профессиональные объединения и купеческие гильдии, которые потенциально могли бы стать угрозой для их личной власти.
Виттфогель, бывший яростным противником коммунизма и писавший свой труд на пике «холодной войны», отмечал сходство между древними гидравлическими империями и бюрократическим тоталитаризмом современных ему Китая и России. «Подобно тигру, источник власти должен обладать физическими средствами для уничтожения своих жертв, — пишет он. — И сельскохозяйственно-административный деспот в высшей степени обладает такими средствами. Он осуществляет неограниченный контроль над армией, полицией и секретными службами; к его услугам — тюремщики, истязатели и палачи и все необходимые механизмы, чтобы поймать, обезвредить и уничтожить подозреваемого». Таким образом, методы императоров прошлого и современных автократов были на редкость похожи; и те и другие были представителями, по терминологии Виттфогеля, «восточного деспотизма». Соответственно маоистская компартия, несмотря на все свои современные внешние атрибуты, была, как считал Виттфогель, не более чем позднейшей правившей Китаем императорской династией.
Реформы представлялись очень отдаленной перспективой. В свое время считалось, что либерализация китайской экономики повлечет за собой также и политическую либерализацию, что по мере выхода средних классов из состояния изнуряющей бедности они неизбежно начнут требовать больших политических свобод. Эта идея, известная как «теория модернизации», в наше время считается выдачей желаемого за действительное и повсеместно отвергается. Американский политолог Роберт Каган доказывает, что на практике произошло нечто прямо противоположное. «Чем богаче становится страна, тем легче будет для автократов удерживать власть, — полагает он. — Буржуазия удовлетворена растущим богатством и не возражает против действий правительства, устраивающего облавы на незначительное число недовольных, выражающих свои чувства в Интернете». Чарлз Купчан, профессор по международным отношениям Джорджтаунского университета, также считает китайский средний класс «опорой существующего порядка, а отнюдь не силой, стремящейся к политическим переменам». Во время своей поездки в Китай в 2012 году телеведущий Би-би-си Джереми Паксман обратил внимание на отсутствие жажды политических реформ среди молодых людей, с которыми ему пришлось общаться в Пекине. «Я не встретил ни одного представителя молодежи, который, хотя бы спьяну, завел разговор о революции», — замечает он. Паксман приходит к выводу: «В настоящее время у большинства дела идут слишком хорошо для возникновения подобных мыслей».
Прошли дни, когда наши интеллектуалы уверенно предрекали конец компартии и рождение демократии в Китае. В наше время вы скорее услышите предсказания об экспорте пекинской модели авторитарного капитализма в другие развивающиеся страны, нежели о либерализации Китая изнутри. В горах аналитических отчетов, составляемых консалтинговыми компаниями по экономике, возможность политического землетрясения в Китае, как правило, не упоминается. Продолжающееся однопартийное правление подразумевается как данность.
Даже поборники реформ внутри Китая придерживаются столь же пессимистических взглядов. Хань Хань, один из популярнейших в стране блогеров, считает, что китайцы если не раболепны, то, во всяком случае, эгоистичны. «Большинству китайцев безразлична жизнь других людей, — утверждает он. — Они поднимают крик, только если сами становятся жертвой злоупотреблений. Они никогда в жизни не смогут объединиться… С точки зрения вероятности революции Китай явно находится на последнем месте среди других стран мира».
В понимании Хань Ханя демократия — это всего лишь фетиш для горстки утративших связь с действительностью интеллектуалов: «За многие годы я побывал более чем в сотне разнообразных провинциальных городов. Их нельзя назвать особенно бедными или изолированными. Там мне приходилось беседовать с очень разными людьми. Их стремление к свободе идемократии вовсе не столь горячо, как это воображают интеллектуалы… Им наплевать на идеи ограничения полномочий властей или контроля за их действиями; они прибегают к фразеологии на тему демократии и свободы, лишь когда у них случаются неприятности и им необходимо ходатайствовать по собственным делам. Они будут всем довольны, если правительство обеспечит их хорошим заработком».
Хань Хань вовсе не является рупором идей партийной власти. Он многократно высмеивал их в своем блоге, к тому же он неизменно выступает за предоставление свободы прессе. Тем не менее даже он считает, что введение свободных выборов и разрешение оппозиционных политических партий в Китае «нереалистично».
В Китае подобные взгляды очень распространены. Вы постоянно слышите, что представительная демократия непременно вызовет насилие и хаос. Свободные выборы откроют дорогу для опасного популизма, а может, даже приведут к возвращению маоизма и к еще большему ущемлению прав человека. При этом часто ссылаются на демагогию секретаря партии Чунцина Бо Силая, возродившего маоистскую риторику и стимулировавшего культ собственной личности; в 2012 году пекинские соперники Бо Силая безжалостно с ним расправились. Этот случай многие используют как пример того, что может случиться со страной, если открыть ворота для широких политических реформ. Повсеместно также высказывается опасение, что в случае победы демократии Китай может повторить путь России, захлестнутой после распада Советского Союза волной гангстеризма и переживающей глубокий социальный кризис. Профессор политологии Пекинского университета Пань Вэй предрекает «распад» Китая в случае, если в стране будут введены свободные выборы. Некоторые считают, что введение демократии откроет шлюзы для ксенофобии и сделает Китай агрессивной страной, опасной для соседей и подрывающей стабильность всего Азиатского региона. Все эти пророчества суммировал в своей речи, произнесенной на острове Хайнань в 2009 году, звезда комедий кунг-фу актер Джеки Чан, заявивший аудитории, что в отличие от прочих народов китайцам просто нельзя предоставлять свободу. «Я не знаю, хорошо это или плохо: иметь свободу, — признался он. — Я постепенно прихожу к выводу, что нас, китайцев, следует держать под контролем».
Непрерывная автократия?
Стоя на северной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине, вы как будто оказываетесь на линии исторического разлома, разделяющей два Китая. На север от вас — пышный, окруженный выкрашенными в киноварь стенами Запретный город, гигантский дворцовый комплекс, возведенный в XV веке по приказанию императоров династии Мин. На юг простирается почти столь же обширное бетонное пространство площади Тяньаньмэнь, одной из самых больших площадей мира, построенной по приказу Мао Цзэдуна. Архитектура того и другого относится к двум совершенно различным эпохам — императорской и коммунистической, и тем не менее, взглянув сперва на север, а затем на юг, вы испытаете довольно похожие ощущения. Масштаб обоих — площади и дворца — пугает. Оба они, каждый по-своему, служат отражением холодной и безжалостной силы. Оба вызывают в человеке чувство собственной малости и незначительности. На этом месте идея Виттфогеля о том, что политическая история Китая представляет собой долгую и непрерывную историю автократии, кажется правдоподобной. Мы по-прежнему придерживаемся взгляда, что авторитарные лидеры, управлявшие Китаем с 1949 года, — это лишь современное олицетворение древнего строя. В западной печати Мао до сих пор часто называют «последним китайским императором». Ничего удивительного тут нет, ведь и самому Председателю нравилось это сравнение. Мао открыто высказывал восхищение фигурой первого китайского императора, Цинь Шихуанди, который, как мы уже видели, был известен своей жестокостью. Но речь идет не об одном лишь Мао. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что вычищенный из партийных рядов Бо Силай потенциально мог стать еще одним «плохим императором» и что его смещение более здравыми элементами партийного руководства было необходимо. Анализируя современное состояние политики, журналисты также постоянно находят аналогии в далекой истории Китая. В 2010м The Economist напечатал на первой полосе статью, посвященную восходящему партийному лидеру Си Цзиньпину, под жирным заголовком «Следующий император». Выглядело это, как если бы последняя цинская династия вовсе не была свергнута в 1911м, а продолжила свое существование в несколько видоизмененной форме.
И все-таки в этой тенденции анализировать реалии Китая XX века, глядя на него через лупу прошлого, кроется определенная опасность. Биохимик и синолог Джозеф Нидхэм написал авторитетный семитомный труд, посвященный истории научных достижений Китая. Он документально доказал, что среди прочего такие вещи, как стремена, печатание, компас, порох и плуг, прежде считавшиеся западными изобретениями, впервые появились в Китае. Нидхэм не принимал аргументов Виттфогеля о том, что среди раннекитайских изобретений был и бюрократический тоталитаризм XX века. Он указывал, что мандаринам старого китайского двора часто дозволялось возражать императору и что вплоть до XV века в Китае существовал уровень интеллектуальной свободы, достаточный для обеспечения поразительного прогресса местной науки. «Цивилизация, подвергающаяся столь яростной атаке со стороны профессора Виттфогеля, в свое время набирала должностных лиц из поэтов и ученых», — протестовал Нидхэм… А был ли древний Китай и в самом деле тоталитарной гидравлической империей? Ирригационные работы в долине Желтой реки в ту эпоху вовсе не были столь уж грандиозными. Чем пристальнее вглядываемся мы в виттфогелевскую гипотезу, тем больше обнаруживается в ней дыр.
Однако теория Виттфогеля вводит нас в заблуждение в более глубоком смысле, так как она минимизирует новизну аппарата террора и контроля, созданного коммунистами в Китае, которые, в свою очередь, были вдохновлены на это аналогичными структурами, выстроенными большевиками в России. Несомненно, в истории Китая можно найти ужасающие примеры деспотизма, как, например, кастрация ученых; ей подвергся придворный историк Сыма Цянь, осмелившийся подать голос в защиту обвиняемого. Цинь Шихуанди использовал труд рабов для постройки оснований стены, предшествовавшей Великой Китайской стене, что наводит на аналогии с трудовыми лагерями времен культурной революции. Первый минский император Хун У за время своего правления уничтожил около ста тысяч человек, включая сюда не только неверных ему чиновников, но и их семьи. Имперская бюрократическая система была действительно очень изощренной и часто репрессивной, тем не менее императоры древности никогда даже близко не подошли к такой тотальной реконструкции всех аспектов жизни китайского народа, как это удалось сделать автократам, пришедшим к власти в 1949м.
Масштаб общественных потрясений, вызванных коммунистической директивной экономикой XX века, не имеет себе равных во всей предыдущей истории Китая. Осуществить эти изменения возможно было лишь с помощью современных коммуникационных технологий — газет и радио, а также с использованием нового репрессивного госаппарата и в особенности жесткой партийной иерархии. Маниакальная политика Большого скачка, когда крестьянам приказывали плавить собственные кастрюли в печках на заднем дворе для «производства» стали и прочесывать сельскую местность, убивая воробьев, чтобы те не склевывали посеянные семена, беспрецедентна. Кромсающий общественную ткань террор времен культурной революции, при котором учащихся подстрекали к избиению преподавателей, а бывших землевладельцев подвергали мучительным пыткам, также является совершенно новым в китайской истории. Культ личности Мао не имеет аналогов среди императоров древности. Как бы ни были жестоки правители старого Китая, они никогда не переворачивали общество с ног на голову, заставляя людей, как это делал Мао, подвергать уничтожению все, связанное с культурой прошлого.
Занимаясь поисками древних корней китайского тоталитаризма XX века, мы рискуем неправильно понять как прошлое, так и настоящее. Мао нравилось сравнивать себя с древними правителями Китая, однао почему мы должны придавать значение тому, каким воображал себя этот тиран и убийца? Мао не был императором. Стиль его правления гораздо ближе к Иосифу Сталину, нежели к Цинь Шихуанди. Что же касается шайки автократов, каковой является сегодняшнее Политбюро компартии, то как бы громко ни разглагольствовали они о достоинствах «гармонии», они — не конфуцианцы. Их тоталитарное однопартийное правление имеет гораздо больше общего с жесткими лидерами Северной Кореи, чем с учеными бюрократами эпох Цин и Мин.
Вглядываясь в историю, можно прийти и к совершенно другим выводам, весьма отличающимся от вышеизложенных. До XX века в Китае не существовало независимых и влиятельных общественных организаций, подобных тем, что способствовали росту демократии на Западе. Не было ни исполненных чувства собственного достоинства купеческих гильдий, ни буржуазии, способных обращаться в независимый суд с требованием защиты от произвола официальных властей. Не было популярных задиристых газет, чтобы бросать вызов государственным институтам и дразнить их; не было кофеен, где шел бы обмен либеральными идеями. И тем не менее представлять историю китайской философии в виде долгой и непрерывной апологии тирании, как это делали Гегель и Монтескье, было бы карикатурным искажением фактов. Мы находим у Конфуция и в других классических трудах не только почтительность к власти, но также и гуманистические принципы, проповедующие уважение к человеку. Книга «Мэнцзы», один из древнейших классических философских трактатов Китая, ясно указывает на право людей восставать против правителей, нарушающих «волю неба». В интерпретации ученого цинской эпохи Кан Ювэя Конфуций предстает отнюдь не реакционером, а реформатором для своего времени. Мы зашли бы слишком далеко, представив Конфуция и Мэнцзы в виде протодемократов, однако важно, что сами китайцы восприняли эти тексты по-новому. Они не приняли канонические сочинения в качестве морального оправдания репрессивного правления.
Как бы то ни было, с конца XIX века демократия становится центральным элементом китайской политической дискуссии. Будучи всего-навсего купцом, Чжэн Гуаньин не пользовался известностью в кругах чиновников и интеллектуалов. Однако этот самоучка, занимавшийся посреднической торговлей в Шанхае, в поздний цинский период, после выхода в 1893 году из печати его трактата «Предостережение веку процветания», приобрел известность как поборник реформ. Заглавие книги источает иронию, ибо Китай того времени, разграбляемый иностранными государствами, расколотый опустошительной гражданской войной, никак не подходил под определение «процветающего». Тем не менее призыв Чжэна к внутренним политическим реформам был абсолютно серьезен и сразу же нашел широкий отклик. Среди тех, на кого реформаторские идеи Чжэна произвели глубокое впечатление, были Кан Ювэй и его протеже Лян Цичао. Это была довольно странная пара: мечтатель-утопист Кан и радикальный журналист Лян. И все же в период Ста дней реформ 1898 года эти двое предприняли дерзкую попытку трансформировать Трон Дракона в конституционную монархию с ограничением императорской власти. Кан и Лян получили поддержку со стороны молодого императора Гуансюя, понимавшего, что времена империи клонятся к закату. Заручившись одобрением императора, Кан и Лян засели за проект реформ, ведущих к значительной либерализации страны.
Реформаторы были смяты силами заговорщиков: вдовствующая императрица Цыси возглавила клику консервативных маньчжурских аристократов. Однако реакционеры лишь ненадолго отсрочили неизбежное. Более того, их сопротивление постепенным реформам привело к полному разрушению системы. Борцы за установление республики, ведомые революционером Сунь Ятсеном, который, так же как Чжэн, Кан и Лян до него, был убежден в необходимости реформ для спасения Китая, нанесли империи последний удар в 1911 году. Учрежденная Сунем временная конституция была создана по модели либеральной демократии и гарантировала неподцензурную печать, независимое судопроизводство, свободные профсоюзы и возможность состязания для политических партий. Конечно, избирательное право распространялось только на грамотных, обладающих собственностью мужчин, но такова была практика во всех демократических странах Европы той эпохи.
Провозглашенная Сунем либеральная демократия вскоре развалилась, дав путь пришедшим к власти авторитарным военным лидерам, но тем не менее основополагающие либеральные республиканские принципы никогда формально не отрицались. Тот факт, что формы конституционного правительства сохранялись, даже когда за ними ничего не стояло, является молчаливым подтверждением их легитимности, подобно тому как лицемерие является данью, которую порок платит добродетели. И голоса, требовавшие политических реформ, не ослабевали. В 1920х Движение за новую культуру, возглавленное учившимися за границей китайскими студентами, сделало политические реформы своей путеводной звездой и призывало к замене «Конфуция и сыновей» на «Госпожу Науку» и «Госпожу Демократию».
Даже китайские коммунисты, по крайней мере теоретически, поддерживали государство, основанное на независимой воле народа. В юности Мао Цзэдун находился под сильным впечатлением от трудов Кан Ювэя. Когда вскоре после прихода к власти в 1949 году его спросили во время интервью, каким образом коммунисты смогут избежать упадка вследствие коррупции, как это случалось со всеми предыдущими китайскими правительствами, Мао ответил: «Мы нашли новый путь, который выведет нас из заколдованного круга. Этот путь называется «демократия». Когда народ контролирует действия правительства, правительство успешно делает свою работу».
В принятой после 1949 года Конституции Народной республики мы находим многократно повторяющееся упоминание демократии. И в наши дни преемники Мао часто обращаются к разговорам о том, что народовластие является краеугольным камнем их политики. «Модернизация не может быть осуществлена без демократии», — подчеркивал в 2006 году бывший Председатель КНР Ху Цзиньтао. «Жажда демократии и свободы и потребность в них народа непреодолимы», — вторит ему в 2010 году его премьер Вэнь Цзябао. Такого рода речи, исходящие от партии, удерживающей монополию на политическую власть и даже близко не подпускающей к ней оппозицию, конечно, приводят на память оруэлловское двоемыслие, и все-таки сквозь все эти риторические построения проглядывает призрак искренности. Коммунистическая партия появилась на свет в той же среде, что и реформаторы Ста дней и Движение 4 мая, для которых политические реформы были необходимым условием модернизации Китая. Основателем КПК был Чэнь Дусю, один из вождей Движения 4 мая. Цель моих аргументов — не попытка оправдать коммунистов, предавших обещанную ими народу демократию, но стремление опровергнуть представление о том, что идея самоуправления чужда негибкому и раболепному сознанию китайцев. Напротив, требование демократии находилось в самом сердце реформаторского движения, послужившего идеологическим основанием современного китайского государства.
Недовольство и маостальгия
В конце 2011 года ничем не примечательная рыбацкая деревня под названием Укань, затерявшаяся между покрытых буйной тропической растительностью холмов южной провинции Гуандун, внезапно превратилась в самую значимую точку на карте Китая. Жителям Укани стало известно о намерении партийных чиновников заключить сделку с некими застройщиками о продаже им принадлежащей деревне общественной земли. Обитатели деревни решили, что, как это уже не однажды случалось, чиновники, вместо того чтобы потратить деньги на общественные нужды, попросту положат их к себе в карман. Однако на этот раз жители не собирались мириться с таким положением дел. Большая группа людей собралась около двух местных представительств власти: у здания партийного комитета и возле полицейского отделения. Разъяренная толпа разгромила оба здания.
Власти отреагировали мгновенно. Тихий человек по имени Сюэ Цзиньбо нехотя согласился на просьбы односельчан вести от их имени переговоры с властями. В один из вечеров его окликнули из микроавтобуса без опознавательных знаков и затем, связав, запхнули внутрь и отвезли в полицейский участок. Живым оттуда Сюэ уже не вышел. Полиция заявила, что он скончался от инфаркта, но явившимся, чтобы забрать тело, членам его семьи было очевидно, что причиной смерти Сюэ стали жестокие побои. Жителей деревни охватил гнев. На этот раз они вывезли из деревни всех партийных чиновников и полицейских и забаррикадировали ведущие к деревне дороги. Власти стянули силы снаружи и прекратили подвоз в деревню продовольствия. Укань оказалась в осаде. Каждому было ясно, что за этим последует. Наверняка государственная машина пустит в ход превосходящие силы и подавит мятеж, подобно тому как это произошло на Тяньаньмэнь в 1989м.
Однако Укань не была разгромлена. Напротив, требования жителей деревни были удовлетворены. Партбосс провинции Гуандун, честолюбивый человек по имени Ван Ян, сконфуженный широким откликом мировых средств массовой информации на события в Укани, пообещал провести расследование первоначальной земельной сделки, ставшей причиной бунта. Обитателям деревни также было разрешено провести новые выборы. Со времени роспуска маоистских коммун в начале 1980х в китайских деревнях регулярно происходили выборы, однако это был всего лишь фальшивый ритуал, призванный изображать демократию на местном уровне, с кандидатами, которых партийные чиновники заранее проверили на благонадежность. Уканьские выборы не походили на эту модель: они были свободными и честными. Жители сделали новые деревянные урны для голосования, и 85 процентов из семи тысяч зарегистрированных избирателей явились для голосования на избирательный участок. Если принять идею о традиционной непредрасположенности китайцев к демократии, энтузиазм населения Укани по поводу осуществления своих избирательных прав кажется поистине удивительным.
Среди всех нелепостей, воображаемых нами в отношении современного Китая, самая большая глупость — идея о том, что все китайцы как один довольны и бесконечно благодарны коммунистической партии за растущий уровень собственного благосостояния. В уканьских событиях необычен был не мятеж как таковой, а то, что мятежники сумели сообщить о происходящем в средства мировой массовой информации, опередив карательные акции властей. Протесты отчаявшихся обитателей китайских деревень против действий властей становятся по всей стране все более частыми. По понятным причинам точное их количество держится в секрете, однако не вызывает сомнения тот факт, что ежегодно происходят десятки тысяч бунтов, большинство из которых, как и в Укани, вызвано коррумпированностью местных органов власти. По данным Китайской академии общественных наук, в 2006 году произошло более чем 90 000 «массовых инцидентов», в десять раз больше, чем за предшествующее десятилетие. В 2010 году профессор университета Цинхуа Сун Липин подсчитал, что за год произошло около 180 000 случаев массовых беспорядков, то есть примерно 500 в каждый отдельно взятый день. Во многих из этих мятежей участвуют люди, доведенные до такой степени безысходности, что и угроза потери средств к существованию или даже самой жизни не останавливает их перед выражением своего гнева. Добавьте к этому многие миллионы тех, кто молча кипит от отчаяния из-за притеснений, которые им приходится терпеть от коррумпированной партийной власти на местах.
Растущее общественное недовольство в Китае захватывает далеко не одних лишь деревенских жителей. За последнее тридцатилетие Китай превратился из общества, в котором практически каждый был беден, в страну, где разница между доходами разных групп населения — одна из самых больших в мире. Сейчас в Китае насчитывается более миллиона миллионеров в долларовом эквиваленте, на пересчет в долларовой валюте США. В то же время около 170 миллионов человек перебиваются меньше чем на 2 доллара в день. Средние классы при этом не менее, чем самые нищие, рассержены из-за стремительно нарастающего неравенства, поскольку им хорошо известно, что источник доходов китайских супербогатых кроется не в неустанном труде, а в непотизме и коррупции.
Я с особенной ясностью осознал это во время посещения Гуандунского музея изобразительных искусств в 2012 году. Одна из поразивших меня современных скульптурных композиций представляла собой золотой кирпич, парящий над грудой обломков. Я не сразу понял, в чем смысл этой работы, но стоявшие рядом со мной китайские друзья уловили его мгновенно. Это обличение того, что происходит в жизни современного Китая, пояснили они мне; художник изобразил золотое меньшинство, оторвавшееся от большинства и оставившее народ существовать на куче мусора. Никогда ранее мне не приходилось наблюдать, чтобы произведение современного искусства оказывало на зрителей столь глубокое впечатление.
Всепроникающее чувство экономического неравенства и несправедливости оказывает на некоторые слои общества довольно странное воздействие. Многие побывавшие в Китае люди были заинтригованы, более того, встревожены поднявшейся в последние годы волной ностальгии по временам Мао. «Цитатник», состоящий из высказываний Председателя, призванных поднимать людей на подвиг, был в Китае бестселлером на протяжении 1960х и 1970х годов. Каждый гражданин во избежание неприятностей должен был приобрести эту книжицу, в чем и заключалась причина ее необыкновенной популярности. Благодаря доходам от авторских прав Мао, хотя это и не афишировалось, был богатым человеком в своей нищей и часто голодающей стране. И вот в последние годы продажи «Цитатника» выросли, несмотря на то что никто теперь не заставляет китайцев отдавать дань культу личности. Зарегистрировано резкое увеличение числа посетителей родной деревни Мао в Хунани. Открылись даже так называемые красные рестораны с представлениями кабаре на сюжеты культурной революции, в которых актеры в костюмах той эпохи разоблачают злодеевпомещиков. Большинство китайцев, с которыми мне приходилось обсуждать происходящее, считают, что причиной неожиданного всплеска любви к человеку, принесшему китайскому народу столько бедствий, является не реальное стремление вернуться обратно во времена коммунизма, а растущее недовольство коррумпированностью властей, приведшей к колоссальному неравенству в обществе.
Решающее значение имеет размах неравенства. В период правления Бо Силая в Чунцине наблюдалось значительное возрастание маоистских настроений среди населения, хором распевавшего вытащенные на свет из небытия революционные гимны. Одним из объяснений этого может служить то, что Бо обильно сдабривал маоистской риторикой популярные местные начинания, призванные помочь беднейшим слоям населения, как, например, предоставление нуждающимся дешевого жилья.
Писатель Юй Хуа, сам бывший хунвейбином («красным охранником») в мрачные дни культурной революции, считает, что стимулом современной маостальгии является тоска по равенству. «Несмотря на то что жизнь эпохи маоизма была нищей и полной ограничений, — говорит он, — в те времена не существовало широкоохватного, жестокого соревнования за выживание, была просто не наполненная реальным смыслом «классовая борьба». Поскольку на самом деле классов тогда не было, вся «борьба» заключалась попросту в скандировании лозунгов».
Можно ли, однако, считать, что народное недовольство способно повлечь за собой революцию? Жители деревни Укань восстали против местных партийных чиновников, но при этом они не призывали к свержению компартии вообще. Они, напротив, обращались к пекинским властям с просьбой о защите от произвола местных чиновников. Некоторые утверждают, что с очагами мятежа всегда в конце концов удается справиться и что, несмотря на возмущение в народе, позиции компартии ничто всерьез не угрожает. Тем не менее мне кажется, что подобный взгляд не учитывает накопившегося в обществе глубочайшего недоверия к политической системе в целом. Личный опыт говорит мне, что мало найдется китайцев, которые, как бы осмотрительны ни были их высказывания на публике, на самом деле столь наивны, что считают единственной причиной всех зол в стране неправомерные действия отдельных чиновников на местах. Они знают, что коррупция пронизывает всю структуру компартии снизу доверху, оставив лишь пустую оболочку от ее клятв беззаветно посвятить себя служнию народу. Интернетный опрос, проведенный в 2010 году газетой «Жэньминь жибао», подтверждает это мнение. Согласно опросу, 91 процент респондентов считает, что все китайские богачи так или иначе связаны с политическими структурами. «У кого больше власти: у бизнесменов или у политиков?» — спросил я как-то у своей тетушки. «У политиков ее, конечно, намного больше», — ответила она, не задумываясь.
Суммарное состояние 70 самых богатых депутатов Всекитайского собрания народных представителей оценивается примерно в 90 миллиардов долларов США. Для сравнения: состояние 660 высших представителей американской администрации составляет в сумме 7,5 миллиарда долларов. Сюда входит не только законодательный корпус, но также исполнительные и судебные структуры. Явившийся на Землю с визитом инопланетянин будет озадачен, узнав, что из этих двух стран именно Китай представляет собой коммунистическую систему.
Разоблачение серьезных злоупотреблений, в которых была замешана семья Бо Силая, вновь напомнило китайцам о поразившей страну коррупции. Вплоть до 2012 года Бо был восходящей звездой на партийном небосклоне: он пользовался репутацией руководителя, успешно борющегося с преступностью, справедливо перераспределяющего материальные блага и обеспечивающего необыкновенно быстрое развитие Чунцинского округа. Вдобавок ко всем вышеперечисленным достоинствам он обладал несомненной харизмой — качеством, редко встречающимся среди высших партийных чиновников. Тем не менее все рухнуло, когда Бо поссорился с начальником полиции Ван Лицзюнем. Опасавшийся за свою жизнь Ван попытался получить убежище в американском посольстве, где он, как сообщают, обвинил семью Бо в многочисленных случаях коррупции и других преступлениях. Разгневанные позорной ситуацией пекинские власти без промедления открестились от Бо. Его сместили с занимаемой должности. Жену его суд нашел виновной в убийстве британского бизнесмена. Самого Бо также ожидает суд.
Никто не знает, сколько лжи обрушил режим на семейство Бо с целью очернить его репутацию, однако всплывшие в ходе следствия подробности несомненно выглядят удручающе. Официально месячная зарплата Бо на посту секретаря партийного комитета Чунцина равнялась 1600 долларам США, но при этом его семья владела собственностью на сумму более 100 миллионов долларов. Еще недавно Бо превозносили как борца за счастье и благоденствие народа. Высшие партийные деятели приезжали в Чунцин из Пекина и восхваляли результаты его работы. И вот внезапно он опозорен и посажен в тюрьму. Китайцы не идиоты. Они понимают, что превращение Бо из героя в злодея не могло произойти за один день. Если он был коррумпирован, значит, такой была и система, позволившая ему подняться столь высоко. Если же он ни в чем не повинен, то виновата поглотившая его коррумпированная система.
Действительно ли Китай, как утверждает Хань Хань, — это последняя по вероятности революции страна в мире? С этим трудно согласиться, глядя на так называемых голых начальников. Так народ именует чиновников, умудрившихся отослать за границу почти все свои накопления и родственников. Подобное поведение вряд ли свидетельствует о крепкой вере в стабильность режима. Согласно статье в одном из гонконгских журналов, примерно у 90 процентов членов находящегося у власти Политбюро члены семей живут или работают за границей. Между 1995 и 2008 годом почти 18 000 чиновников покинули страну, вывезя с собой средства на сумму 130 миллиардов долларов США, что эквивалентно 1 проценту ВВП Китая за 2012 год.
Богатые также смотрят в сторону границы. По результатам обследования 2011 года, 14 процентов китайских долларовых миллионеров уже эмигрировали или находились в процессе оформления документов на выезд. Половина рассматривала возможность отъезда. И треть уже имела собственность за границей в форме недвижимости или денежных вкладов. Один проживающий в Великобритании китайский бизнесмен рассказывал мне, что, приезжая на родину, он постоянно сталкивается с богачами, охваченными своего рода паранойей. «Они беспокоятся, что в Китае может произойти что-либо подобное событиям на Ближнем Востоке и все их накопления конфискуют, — объяснил он. — Поэтому они покупают недвижимость за границей, чтобы в случае неблагоприятного развития событий у них по крайней мере были средства к существованию».
Не одни лишь супербогатые ищут способы покинуть страну. У меня есть несколько молодых приятелей, работающих в Европе, Америке и Канаде и изучающих возможные пути для эмиграции из Китая своих родителей. Попробуйте спросить у них, почему их родители хотят оставить страну, у которой, как нам постоянно рассказывают, такие замечательные перспективы, и в ответ вас наградят изумленным взглядом. Мне никогда не приходилось встречать китайцев, которые бы утверждали, что жизнь в Китае, каким бы впечатляющим ни был рост китайской экономики, лучше, чем в демократических странах Европы и Америки.
Лошадь Трихомудского
По правде говоря, Го Цзинмин совершенно не походит на революционера. 27летний юноша с тонкими чертами лица — один из наиболее востребованных современных китайских авторов; позирование для журнальных обложек и репортажей интересует его гораздо больше, чем противостояние политике компартии. «Я не понимаю того, что произошло 4 июня[7], — говорит он. — Я мало что про это знаю. Меня не занимает ни история, ни политика. Для меня важна успешная карьера и процветание принадлежащей мне компании». В книгах Го нет места политике, и, по-видимому, это вполне устраивает армию юных поклонниц его сочинений. После чтения его историй о сердечных муках молодых влюбленных, перемежающихся упоминаниями одежды модных дизайнерских брендов, складывается образ в высшей степени индифферентной современной молодежи Китая.
Принято считать, что теперешнее, лишенное братьев и сестер поколение молодежи, продукт государственной политики, разрешающей иметь не более одного ребенка в семье, не унаследовало ничего от радикального настроя студенчества, оккупировавшего в 1989 году площадь Тяньаньмэнь. Смерть низложенного коммунистического лидера Ху Яобана, известного своими либеральными взглядами, спровоцировала массовые демонстрации протеста среди молодежи, сотни тысяч представителей которой вышли на гигантскую пекинскую площадь с призывом к политическим реформам. Они воздвигли статую «Богини демократии» и выступили с требовованием политических прав и свобод. Протест охватил около четырехсот городов Китая. Поддержка студенческого движения росла, к нему присоединились фабричные рабочие. Мнения среди коммунистического руководства разделились, в какой-то момент казалось, что демократия победит. Однако сторонники жесткой линии во главе с обладавшим верховной властью Дэн Сяопином восторжествовали над своими более либерально настроенными товарищами по партии. 4 июня Дэн отдал войскам приказ силой очистить площадь и прилегающие к ней улицы. Невооруженные демонстранты были расстреляны и смяты танками. Окончательное количество погибших неизвестно, но скорее всего оно исчисляется сотнями. В результате этих событий демократическое движение вынуждено было уйти в подполье.
Кому все это теперь нужно? Сегодняшнее молодое поколение растет в тепличных условиях; растущее благосостояние, кажется, освободило их сознание от какого-то ни было политического идеализма. Деятельность уцелевших после событий 1989 года пятидесяти с чем-то известных диссидентов, таких как Лю Сяобо, вызывает у них лишь пожимание плечами или, может быть, зевоту. Всем хорошо известные факты нарушения прав человека в современном Китае, как, например, насильственная стерилизация сельских женщин, посмевших нарушить правило единственного ребенка, пытки, применяемые к членам Фалуньгун, разрушение традиционной культуры Тибета и т. д., их никак не затрагивают. Равно как и факт, что они не имеют права сами выбирать своих политических лидеров.
Корреспондент телекомпании «Аль-Джазира» Мелисса Чан отмечает присущее китайской молодежи комфортное безразличие. «Китайские студенты, возможно, устроят бунт, если у них отберут их смартфоны с компьютерной игрой «Зые птицы», но вряд ли они восстанут в защиту прав человека, — говорит она. — Причина этого в том, что студенты относятся к привилегированному сословию. Они принадлежат к среднему классу и вполне удобно устроены, им есть что терять, поэтому они не будут поднимать шум». Мы привыкли считать, что это поколение не только апатично, но и имеет склонность к самоцензуре. Они не говорят о политике, поскольку перед ними было поставлено условие не затрагивать эту тему. Как замечает двадцатитрехлетняя Цзян Фанчжоу, чья первая книга была опубликована, когда юной писательнице было всего 9 лет, «они не отступят от ортодоксальных взглядов ни на миллиметр, даже все еще находясь на расстоянии 10 метров от опасной черты».
Вглядитесь, однако, в скрытое за фасадом, и образ недалекой, аполитичной молодежи начнет рассеиваться. В особенности любопытно взглянуть на Интернет. Интернет через посредство микроблогов, таких как, например, Вэйбо, стал невиданным ранее средством для выражения инакомыслия, и в первую очередь именно китайская молодежь ухватилась за эту возможность. Правда, восхваляемая государственной системой «Великая Китайская огненная стена», препятствующая доступу к западным новостным сайтам и блокирующая «Твиттер» и «Фейсбук», затрудняет свободу высказываний в Интернете. То же можно сказать и об официальных алгоритмах, отыскивающих и прикрывающих веб-страницы, на которых идет обсуждение спорных тем вроде «Тяньаньмэнь». Попробуйте ввести в китайскую поисковую систему имена высших политических деятелей, и вы не получите никаких результатов. По слухам, 30 000 киберполицейских отслеживают дискуссии в Интернете с целью вылавливания политически крамольных или сексуально откровенных комментариев, что, конечно, делает жизнь скучной. И все же любой технически подкованный молодой китаец может без особого труда проникнуть через сетевой экран с помощью промежуточного сервера. Есть и другие, более тонкие способы одурачить эту огромную армию цензоров и ускользнуть от них. Несколько лет назад китайский Интернет заполонили существа под названием «лошадь Трихомудского» (по-китайски «цаонима», буквально «лошадь в траве и глине»). На вид они напоминали лам. Но весь смысл заключался в звучании этих слов. Изменив тоновое ударение, вы получите: «** твою мать». «Мы обсуждаем наших политических лидеров, используя игру слов, которую цензоры не смогут выловить, — пояснил мне один юный китаец. — Мы практически можем сказать все, что хотим. Иногда, чтобы выразить свое отношение, мы просто размещаем изображение «травяной лошадки» рядом с фотографией политического деятеля».
Также благодаря Интернету стала возможна откровенная дискуссия о трагедиях китайской истории XX века — вещь невообразимая в предшествующие десятилетия. В 2012 году в Интернете прошло широкое обсуждение Великого голода конца 1950х и ответственности компартии за происходившее тогда. Интернет помог донести до публики запрещенные властями страницы истории. Молодые пользователи Интернета получили возможность прочитать свидетельства очевидцев, людей, которым от голода приходилось есть грязь и древесную кору, и тех, на глазах у которых умирали от истощения родные.
Микроблоги, тексты в которых по своему объему не могут превышать 140 знаков, идеально подходят для китайского языка. 140 знаков по-английски — это примерно одно предложение, но на китайском это уже будет полноценный текст. В Европе и Америке микроблоги обычно являются порталом к более содержательным блогам, но в Китае они, как правило, сами по себе содержат информацию. По мнению Чжао Цзина, блогера, пишущего в китайском Интернете под псевдонимом Майкл Анти, «это первый общественный форум в истории Китая. Он воспитывает гражданственность, готовит народ к будущей демократии».
В каком-то смысле именно в киберпространстве сейчас разворачивается битва за политическое будущее Китая. Одну из сторон представляют блогеры, выражающие либеральные идеи, на своих сайтах они страстно выступают за радикальные политические реформы; нечего и говорить, что подобные тексты никогда не будут опубликованы в верноподданнических официальных изданиях. Им противостоят реакционно настроенные блогеры, защищающие статус-кво. Последних поддерживает «пол-юаня партии», заполняющие дискуссионные сайты хвалебными комментариями о действиях правительства. Прозвище для этих людей было пущено в ход либералами, обвиняющими своих оппонентов в том, что те получают от правительства по пол-юаня за каждый размещенный ими в Интернете лояльный отзыв.
Виртуальные схватки порой продолжаются уже в реальном пространстве. Летом 2012го, после особенно злой перепалки в Интернете, в пекинском парке Чаоян произошла стычка между либеральными и реакционными блогерами. Некоторые полагают, что причиной того, что попытки вызвать в Китае Жасминовую революцию закончились неудачей, является факт, что возглавляли движение китайские активисты, живущие за границей, и что использовавшиеся ими веб-сайты до сих пор труднодоступны внутри страны. Могло ли все обернуться иначе, если бы демонстрации были организованы на местной почве? Учитывая, что китайская блогосфера быстро расширяется — в 2010 году было зарегистрировано 40 миллионов пользователей Вэйбо, а сейчас их уже более 300 миллионов, — можно сказать, что вероятность организованных выступлений растет. Майкл Анти доказывает, что это только начало. «С каждым днем все большее число китайцев осознает, что свобода слова и права человека — это не некая импортированная американская привилегия, а право, принадлежащее им от рождения», — пишет он.
Мы уже становимся свидетелями того, как новые технологии и народное возмущение, соединяясь, приводят к мощным результатам. В 2007 году было решено соорудить химический завод в Сямыне, в прибрежной провинции Фуцзянь. Городские власти были всецело на стороне проекта, и местная пресса заявила, что это замечательная идея. Тем не менее один из горожан, профессор, высказал опасение, что новое производство может нанести серьезный ущерб здоровью населения. Его обеспокоенность подхватили и распространили блогеры. Оппозиция проекту росла, и в конце концов 8 тысяч жителей, организованных через посредство мобильных телефонов и Интернета, промаршировали по улицам Сямыня, наглядно продемонстрировав общественное недовольство. Были также предприняты меры для обеспечения максимальной гласности происходящего: сообщения послали блогерам в Гуанчжоу, а те, в свою очередь, распространили репортажи в режиме реального времени по всему Китаю. Таким образом, Сеть дает людям возможность передавать информацию в обход традиционных СМИ. «Китайское правительство держит прессу под контролем, поэтому новости расходятся через мобильные телефоны и Интернет. Это показывает, что китайская публика может самостоятельно обмениваться новостями», — поясняет один из блогеров. В конечном счете власти Сямыня отказались от первоначальных планов.
Подобные истории теперь случаются все чаще. В 2011 году в расположенном на севере страны городе Далянь был закрыт нефтехимический завод; это произошло в результате 12тысячной демонстрации местных жителей, недовольных загрязняющим воздух токсичным дымом. В том же году закрыли производивший солнечные батареи завод в городе Хайнин провинции Чжэцзян после появления данных о том, что его отходы отравляют местные реки. Строительство фабрики по производству медных сплавов в Шифане, провинция Сычуань, было прекращено после возглавленной блогерами кампании протеста. Этот список можно продолжить.
Случаются и кампании меньшего масштаба. Нарастают выступления рядовых граждан на местах против строительных проектов, угрожающих сохранности исторических кварталов, которые, как считает молодежь, следует охранять. Невозможно предугадать, что именно станет очередной причиной общественного недовольства. В 2011 году множество жителей Гуанчжоу собралось для протеста против безобидных планов местного руководства установить фонари на набережной Жемчужной реки. Один из активистов, Оу Цзяян, пояснил: «Я не говорю «нет» по поводу этого решения. Но в прошлом году власти уже истратили на похожий проект 200 миллионов юаней. Я хочу, чтобы мне объяснили, почему городу требуется дополнительне освещение на набережной». Это поразительный сдвиг. Веками китайцы вынуждены были беспрекословно повиноваться любым решениям чиновников. В наше время практически по любому поводу, затрагивающему условия их жизни, китайские граждане автоматически рассчитывают на то, что их голос будет услышан властями предержащими.
Кроме того, они настаивают на подотчетности чиновников. В июле 2011го в пригороде города Вэньчжоу скоростной поезд врезался в хвост идущего перед ним другого поезда, в результате чего 40 человек погибли и 192 получили ранения. Министерство путей сообщения заявило, что причиной катастрофы стал необычайный удар молнии, выведший из строя один из поездов. Центральное правительство, только что вложившее миллиарды в строительство сети скоростных железных дорог, велело государственным СМИ замять историю. Телеканалы подчинились приказу. Китайские блогеры его проигнорировали. Они сообщили о случившемся во всех подробностях, включая факт, что один из сошедших с рельсов вагонов был поспешно закопан на месте происшествия, вместо того чтобы тщательно обследовать его в поисках причины аварии. В конце концов правительству пришлось провести полное расследование крушения, в результате которого были выявлены многочисленные нарушения в руководстве министерства путей сообщения. Когда вся правда выплыла наружу, даже, как правило, послушные государственные СМИ обрушились на правительство с резкой критикой.
Азиатские ценности?
Личность Ли Куан Ю, великого старца сингапурской политики, часто производит неотразимое впечатление на политических деятелей Запада. «В сегодняшнем мире ему нет равных в сфере стратегического мышления», — восторгается Генри Киссинджер. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр называет Ли «самым сильным и умным лидером из когда-либо встреченных мной». Эти исполненные благоговения комментарии выглядят довольно безвкусно, учитывая, что созданный Ли Сингапур далек от представлений «Международной амнистити» и других объединений по защите прав человека о том, какой должна быть свободная страна. Маленький город-государство, расположенный у западной оконечности Малайского полуострова, известен жестким контролем над прессой и общественными организациями, а также наказанием мелких преступников палочными ударами по приговору суда. Сингапур также славится обыкновением отправлять в тюрьму или выживать из страны неугодных авторов, осмеливающихся критиковать государство.
Не исключено, что аргументами, озвученными им в 1992 году, Ли сумел убедить своих западных почитателей в том, что демократия не сочетается с тем, что он определяет термином «азиатские ценности». Он пояснил, что в развивающихся странах невозможно сформировать хорошие правительства на демократической основе. «Азиатская система ценностей вовсе не обязательно совпадает с американской или европейской, — говорит он. — Люди Запада ценят свободу и права личности. Для меня как азиата, человека китайского происхождения и культуры, важно иметь честное, рациональное и действенное правительство».
Давайте рассмотрим это утверждение. Идею о несовместимости системы китайских культурных ценностей с демократией можно проверить опытным путем. Если теория Ли о том, что китайцы в силу своих культурных традиций отвергают демократию, верна, значит, китайская диаспора в других странах не должна быть заинтересована в голосовании или отстаивании своих гражданских прав. В реальной жизни все обстоит совершенно иначе. До середины 1980х Тайвань представлял собой авторитарное государство, продолжая линию, унаследованную от своего властного националистического лидера Чан Кайши. Тем не менее, когда в 1996 году на острове были введены свободные выборы и многопартийная система, 23 миллиона тайваньцев, многие из которых происходят из семей, бежавших в 1949 году из материкового Китая после поражения националистов в гражданской войне, восприняли это нововведение с большим энтузиазмом. Конечно, тайваньская демократия далека от совершенства. Страна пережила несколько крупных связанных с коррупцией скандалов, и в настоящее время ее бывший президент Чэнь Шуйбянь отбывает девятнадцатилетний тюремный срок по обвинению во взяточничестве. Несмотря на это, Тайвань отнюдь не впал в пучину анархии, как это постоянно изображается в служащих рупором КПК китайских средствах массовой информации.
О китайских общинах Великобритании и Америки вследствие их слабого участия в общественно-политической жизни часто говорят как о незаметных меньшинствах. Несмотря на более чем столетнее присутствие китайской диаспоры в Великобритании, в истории страны не было ни одного китайца — члена парламента. Картина выглядит еще более неутешительно по сравнению с количеством избранных за последние десятилетия в парламент лиц афрокарибского и южноазиатского происхождения. Почти столь же разочаровывающей кажется и ситуация в США, где за все время существования конгресса его членами была избрана лишь горстка этнических китайцев. При китайской общине числом 3,8 миллиона человек это поразительно низкий результат. Глория Чан из Азиатско-Тихоокеанского института конгресса считает, что сложившийся взгляд на китайцев удерживает их от активного участия в общественной жизни. «Тут всегда присутствует один и тот же стереотип: мы тихони, мы никогда публично не высказываемся, мы не отвечаем, когда над нами смеются, мы ботаники, — говорит она. — Американцам азиатского происхождения нелегко пробиться сквозь этот стереотип».
Тем не менее сейчас становится очевидным, что это всего лишь стереотипы. Ме Лин Ын можно отнести к политическим первопроходцам. Уроженка Малайзии, она стала первой китаянкой, избранной в члены местного руководства, став после победы на выборах 1986 года членом Люишемского окружного совета. Ын, жизнерадостная женщина, исполненная энтузиазма и стремящаяся вовлечь китайскую молодежь в политическую жизнь, объяснила мне, что причиной менее активного участия китайцев в политике по сравнению с другими меньшинствами являются не культурные особенности, а память о политических репрессиях. «Большинство британских китайцев происходит из стран с однопартийной системой, в которых профсоюзы запрещены, — замечает она. — Некоторые приехали из Малайзии или Сингапура, но и это государства с деспотическим режимом. Менталитет таков: «Не высовывайся. Нам бы на жизнь заработать». А в Китае и вовсе: высунешь голову из толпы, так тебе ее оторвут. Причины нашей политической апатии не генетические, а психологические».
Эта психология меняется. В 2009 году Джуди Чу, представитель от штата Калифорния, стала первой китаянкой, избранной в конгресс. В 2012 году Чу добилась от палаты представителей исторического извинения за принятый в 1882 году Акт об исключении китайцев, который на протяжении 60 лет запрещал иммиграцию китайцев в США из Китая (более подробно мы рассмотрим этот унизительный законодательный акт в следующей главе). Если вы все еще думаете, что китайская диаспора равнодушно относится к политике, я бы посоветовал вам посетить одно из регулярно проводимых собраний китайского объединения от какой-либо из британских политических партий, неустанно работающего над избранием в члены парламента Великобритании первого этнического китайца. Особенно вдохновляет на этих собраниях то, что молодые китайцы совершенно свободны от присущего поколению их родителей принципа «не высовываться».
Гонконг порой приводят в качестве примера отсутствия у китайцев подлинной озабоченности проблемами демократии и гражданских свобод. Ведь местные китайцы смиренно возвратились в железные объятия Китая после передачи ему в 1997 году ранее подконтрольной Великобритании территории. Крис Паттен, последний колониальный губернатор Гонконга, вспоминает слова своих советников о том, что «в Гонконге политика никого не интересует». Само собой разумеется, что до проведенных Паттеном в последнюю минуту реформ никто из предшествовавших ему представителей британской администрации не видел смысла во введении на подвластной территории демократических выборов.
Однако те, кто утверждает, что китайцев Гонконга «политика не интересует», просто не следят за событиями. 2003 году Законодательное собрание, управляющее территорией, по распоряжению Пекина попыталось отменить данные территории гарантии свободы слова и собраний. Оказанный Собранию отпор просто поразителен. Около 500 000 человек, что составляет 7 процентов от всего населения Гонконга, вышли на демонстрацию протеста. Заполнившая улицы и эстакады волна демонстрантов вынудила власти отступить.
Сейчас в бывшей колонии демонстрации становятся обычным делом. В 2009 году прошли массовые протесты против планов строительства скоростной железной дороги, соединяющей Гонконг с материком. Еще большая волна демонстраций прокатилась по территории в 2012м, заставив Законодательное собрание отменить навязанное Пекином решение ввести во всех школах Гонконга обязательные «уроки патриотизма». Как и в материковом Китае, в авангарде этих выступлений было молодое поколение. И так же, как в Китае, оппозиция использовала средства современной телекоммуникации в целях как можно более широкого оповещения населения. Друзья в Гонконге рассказывали мне о своих опасениях, что, по их мнению, Китай не оставит своих попыток свернуть законы территории о правах и свободах, но они тверды в намерении до последнего отстаивать свои права.
И в этой борьбе у них будет поддержка. В Гонконге не найти более страстного защитника гражданских прав, чем член Законодательного собрания Люн Квок-Ган. В майке с портретом Че Гевары, с черными волосами до пояса, Люн похож скорее не на политика, а на принадлежащего к крайне левым байкера. Но когда Джеки Чан заявил, что «китайцев следует держать под контролем», Люн ответил на это от лица большинства жителей Гонконга: «Он оскорбил китайский народ. Китайцы — не домашние животные».
Музей лжи
Шэньчжэньский музей — образец современности и лоска. Его монументальная навесная кровля своими очертаниями напоминает гигантский самурайский меч, покоящийся на самой большой в мире подставке. Пройдясь по его роскошным залам с кондиционированным воздухом, вы можете познакомиться с историей Шэньчжэня со времени его возникновения, когда на этом месте находилось рыбацкое поселение эпохи неолита, и до его расцвета в наши дни в качестве одного из самых великолепных быстрорастущих городов Южного Китая. Однако, как и почти во всех китайских музеях, вы не найдете здесь беспристрастного отражения событий китайской истории XX века. Тексты на стенах в напыщенных выражениях обличают отсталость Китая во времена императоров и рассказывают о выдающихся преобразованиях, произошедших в стране под руководством коммунистической партии.
Одна из табличек рассказывает о том, как в период Второй мировой войны в провинции Гуандун коммунисты организовали сопротивление японским захватчикам. «Жители Шэньчжэня под руководством КПК (Коммунистической партии Китая) оперативно сформировали вооруженные отряды для противостояния японским войскам», — гласит надпись. Со мной был китайский приятель, 30летний художник-оформитель, и мы вместе прочитали текст. Его реакция была неожиданной. Мой друг покачал головой, поцокал языком и проворчал: «Это неверно, с японцами в Гуандуне сражались не коммунисты, а националисты». Я был удивлен, так как прежде мне никогда не приходилось слышать, чтобы он рассуждал о политике, и мне казалось, что история его тоже не особенно интересует.
В Китае поверхностные впечатления часто обманчивы. Со стороны кажется, что люди совершенно аполитичны, но копните поглубже, и вы часто обнаружите страстную заинтересованность. Рядовые китайцы могут часами рассказывать о коррумпированности чиновников, жестокости полиции и роскошной жизни «князьков» — отпрысков высших партийных руководителей. Но вначале они должны убедиться, что вам можно доверять. Меня всегда поражает, что когда я впервые заговариваю со знакомыми китайцами о перспективах политического реформирования страны, я вижу в их глазах страх. Темное облако воспоминаний о событиях на площади Тяньаньмэнь, о жестоких мерах, предпринятых по приказу Дэн Сяопина, до сих пор тяжело висит над страной. Большинство людей хорошо понимает, что режим готов пойти на любые преступления, лишь бы уцелеть. И многие китайцы привыкли жить с опущенной головой. Они прекрасно знают, что властям ничего не стоит лишить их всего, что у них есть, и они не смогут себя никак защитить. Поэтому в противоположность боевому настрою обитателей Интернета они суперосторожны. Они научились осмотрительности. Мне кажется, что люди извне часто принимают осторожность за удовлетворенность или апатию. Хотя китайцы и не выходят на улицы с требованием соблюдения своих политических прав, подобно тому, как это происходит в странах Ближнего Востока, это вовсе не означает, что им безразлична свобода. Если в ответ на требование чего-либо люди получают жестокие побои, тот факт, что они перестают требовать, отнюдь не свидетельствует о том, что они перестают этого хотеть.
Можно понять, почему сторонники жесткой линии в коммунистической партии постоянно муссируют идею о том, что демократия западного стиля несовместима с традиционной китайской культурой. Политические реформы представляют собой угрозу для сплетенной ими непрочной сети власти и богатства. В этом нет ничего необычного. Одна и та же история повторяется во всех автократических режимах мира, от России до Саудовской Аравии. И повсюду в подобных местах можно слышать все те же оправдания репрессий вроде «культурных различий» и запугивание, что на смену существующему режиму может прийти что-то гораздо более страшное и представляющее угрозу для всего мира.
Как же все-таки объяснить живучесть этой идеи о безразличном отношении китайцев к демократическим ценностям? Почему мы видим столько апологетов китайской компартии, в то время как защитников автократов вроде Владимира Путина или Роберта Мугабе сравнительно немного? Я подозреваю, что отчасти тому виной простая неосведомленность. Некоторые из поборников компартии, по-видимому, были втянуты в орбиту партийного начальства и сочувственно настроенных представителей крупного бизнеса и находились в ней достаточно долго, чтобы искренне поверить, что технократическая компартия выражает волю всего народа. Еще одной причиной может служить впечатляющий рост китайской экономики. Мы привыкли ассоциировать экономический рост со свободным обществом, а не с автократией, поэтому если экономика Китая развивается, в стране не может быть по-настоящему диктаторского режима, не так ли? Еще одно объяснение, возможно, лежит в старом предрассудке относительно пассивности и раболепия, присущих китайцам от природы, подкрепляемом идеей о неизменности китайской политической традиции.
Какого же рода демократию выберут китайцы, даже если им вдруг предоставится такой выбор? В Китае можно встретить множество рядовых людей, искренне опасающихся, что одномоментное введение многопартийной системы и свободных выборов ввергнет страну в хаос. Некоторые интеллектуалы, такие как профессор Пекинского университета Ю Кэпин, ратуют за постепенный переход к новой системе. Они считают, что процесс реформирования должен начаться с демократизации внутри компартии и лишь затем распространиться на другие сферы, как, например, предоставление независимости судопроизводству. В таком режиме демократизация Китая произойдет исподволь, скрыто, подобно тому как это случилось с экономической либерализацией, начавшейся в 1978 году.
Многим эта идея кажется привлекательной. Можно понять страх людей перед возможными потрясениями, к тому же постепенный подход хорошо себя зарекомендовал. Благодаря инициированным Дэн Сяопином экономическим реформам Китай, несомненно, стал более свободной страной. Начиная с 1980х годов у китайских фермеров появилось право продавать излишки продукции, право переезжать в город и работать на фабриках, право менять место работы и переходить с одной фабрики на другую. Горожане теперь имеют право открывать свой бизнес, право ездить за границу в качестве туристов и посылать своих детей учиться в зарубежные страны. По сравнению с Западом это не полная свобода, однако вряд ли кто-нибудь из китайцев станет утверждать, что сейчас они менее свободны, чем тридцать лет тому назад. Тк не может ли похожий процесс либерализации произойти теперь в политической сфере?
Выбор
Вечером 20 марта 1913 года в 10 часов 40 минут на шанхайской железнодорожной станции произошло покушение на жизнь Сун Цзяожэня, пуля попала ему в почку. Он скончался в больнице двумя днями позже. Вместе с ним умерла мечта о молодой китайской демократии. Несмотря на свою молодость, тридцатилетний Сун был уже ветераном в революционной борьбе за установление республики и вот-вот должен был получить высокие властные полномочия. Правая рука Сунь Ятсена в Народной партии, только что победившей на первых в истории Китая национальных выборах, Сун, как предполагалось, должен был стать первым демократически избранным премьер-министром новой республики.
Пробыв у власти всего лишь месяц, Сунь Ятсен в попытке удержать молодую республику от соскальзывания в пучину гражданской войны добровольно отказался от президентского поста в пользу бывшего командующего цинской армией Юань Шикая, пузатого мастера выживания с головой круглой, как пушечное ядро. Однако Сунь был полон решимости связать Юаню руки с помощью конституционного правительства и сильного парламента с целью предотвратить перерождение еще не окрепшей республики в диктатуру. Вероломное убийство молодого человека (совершенное, как считается, хотя это и не было доказано, по приказанию Юаня) расчистило препятствия на пути генерала к полному захвату власти. Юань быстро запретил Народную партию, распустил парламент и вынудил Суня покинуть страну из-за опасений за свою жизнь.
В том же году, позднее, известный американский ученый-политолог по имени Франк Гуднау явился в Китай в качестве консультанта по вопросам принятия новой республикой конституции. Гуднау пришел к заключению, что китайцы, к сожалению, просто не готовы к безоговорочной демократии; мнение, разделяемое ныне многими китайцами и иностранцами. Вместо этого до тех пор, пока Китай политически не созреет для демократии, он рекомендовал установление авторитарной конституционной монархии. «Присущее Китаю отсутствие дисциплины и пренебрежительное отношение к правам индивидуума, — пояснял он, — заставляет сделать вывод, что форма правительства, имеющего в себе многие присущие абсолютизму черты, должна сохраняться до тех пор, пока в стране не разовьется большее повиновение власти, пока не наберут силу общественное взаимодействие и уважение прав личности». Мало что могло бы порадовать Юаня больше, чем этот вердикт. Президент, размахивая заключением почтенного американского эксперта, объявил себя в 1915 году императором при, как он выразился, «громком одобрении народа». Честолюбивый старый деспот сменил военный мундир западного образца на пышные одеяния своих бывших цинских хозяев.
Тем не менее китайцы не проявили энтузиазма, вновь оказавшись подданными империи; в еще меньшей степени они были согласны терпеть над собой в качестве императора Юаня. Одна за другой провинции стали провозглашать свою независимость. Выяснилось, что народ вовсе не жаждал иметь рекомендованную Гуднау конституционную монархию с «чертами абсолютизма». Юаню пришлось отступить; он умер в 1915м, униженный и осыпаемый проклятиями. К этому времени для демократии было уже слишком поздно. Раздробленные части страны оказались во власти разнообразных военных командиров.
Сегодня перед китайскими демократами стоит трудный выбор. Стоит ли им надеяться на постепенное реформирование страны, согласившись с дальнейшим сосредоточением власти в руках компартии, подобно тому как некоторые прагматики когда-то молча признали продолжение империи Цин? Или же следует бороться за полное осуществление своих демократических прав, зная, что реформизм, как это уже не раз случалось, может предоставить реакционерам возможность подавить волю народа к свободе? Утешает при этом то, что на сей раз Китай сможет самостоятельно найти ответ на этот вопрос, не прибегая к снисходительным советам чужаков о том, для какого рода вольностей созрел китайский народ и нужна ли ему в принципе свобода.
Миф четвертый
В Китае лучшая в мире система образования
Каждое лето 7 июня в китайских мегаполисах воцаряется необычайная тишина. На стройплощадках умолкает строительная техника. Перекрываются дороги. Полицейские отключают сирены у себя в машинах. Даже водители такси в этот день ведут себя сдержанно и не сигналят изо всей мочи, как обычно. Сумевшая усмирить эти городские джунгли сила кажется порой даже более могучей, чем неугомонный дух китайского капитализма, имя ей — образование. В этот день выпускники школ сдают общегосударственный вступительный экзамен в университеты, называющийся «гао као». Ничто не должно помешать сконцентрироваться на задании миллионам 18летних школьников, заполняющих в это время актовые залы школ по всей стране.
«Гао као» в переводе недаром означает «высокий экзамен». Пугающей тенью маячит его перспектива, занимая огромное место в жизни каждой семьи. После длинного школьного дня ученики проводят вечера за зубрежкой, стараясь втиснуть как можно больше информации в свои усталые мозги. В преддверии экзамена многие родители снимают жилье рядом со школой, чтобы дети не тратили время на поездки между домом и школой и могли сэкономленные часы уделить учебе. Процветают всевозможные подготовительные курсы.
Не менее серьезно относится к экзамену правительство. Составителей экзаменационных вопросов селят отдельно на охраняемой территории, и их местонахождение держится в строжайшей тайне, чтобы предотвратить утечку информации. По этой же причине печатают экзаменационные билеты заключенные в тюрьмах. И горе ученику, пойманному во время экзамена за списыванием! Его не только отстранят от экзамена, но и в будущем никогда не разрешат пересдачу. Его имя попадет в общегосударственный черный список, с которым всегда могут свериться работодатели.
С каждым годом крайности, на которые идут ради хороших результатов экзамена дети, их родители и учителя, становятся все более поразительными. Несколько лет назад в печати появились фотографии класса в провинции Хубэй, на которых склонившимся над учебниками школьникам через внутривенные капельницы вводят стимулирующие умственную деятельность аминокислоты. Имеются также сообщения об ученицах из города Тяньцзинь, принимающих контрацептивные таблетки с целью отсрочить менструации из-за страха, что в противном случае они не смогут полностью сконцентрироваться во время «гао као». В борьбе с переутомлением учащихся шанхайским школам приказали ограничить количество задаваемой на дом работы. Нам часто кажется, что эти массовые жертвы на алтарь образования, эта одержимость по поводу официальных экзаменов, этот непомерный нажим со стороны родителей — всего лишь особенность китайской культуры. Многие полагают, что эта традиция уходит корнями во времена Конфуция, что ею можно во многом объяснить переживаемое сейчас страной экономическое возрождение.
С давних времен путешественники выражали изумление перед обычаем китайцев заставлять своих детей отдавать все силы учебе. Испанский миссионер XVII века Доминго Наваррете отмечает, что школьникам в Китае разрешается играть только восемь дней в году и что у них «вообще нет каникул». Как мы уже видели, в Китае был изобретен суперзначимый, состязательный, стандартизованный экзамен. На протяжении столетий императоры отбирали ученых, из которых формировался класс чиновников, получивших от иностранцев название «мандарины»; отбор производился на основании результатов, показанных ими на официальных экзаменах, требованием которых было безукоризненное знание классических конфуцианских текстов. Эти экзамены заронили в почву китайской цивилизации семена глубокого уважения к учености, семена, из которых с той поры выросли могучие деревья.
По-видимому, строгости, связанные с «гао као» наших дней, во многом связаны с системой императорских экзаменов прошлого. В прежние времена экзаменующихся запирали в маленьких кирпичных кельях, где не было ничего, кроме стола и скамьи. В 10 утра им давали вопрос, и к закату им следовало написать сочинение длинй в 2000 иероглифов. Испытания продолжались три дня. Требования были неимоверно высоки: соискателям надо было безукоризненно знать тексты, состоящие приблизительно из 430 000 иероглифов. Количество успешно выдержавших экзамен обычно не превышало 1 процента и лишь в особо удачные годы достигало 2 процентов. Многие сдавали экзамен годами, но так и не добивались успеха. Попадались длиннобородые старцы, продолжавшие сдавать экзамен в надежде, что их в высшей степени формализованное «восьмичленное сочинение» в конце концов признают удовлетворительным. Однако более распространенным настроением было отчаяние. Молодые люди сходили с ума под бременем усилий, необходимых, чтобы прорваться сквозь препоны ученой бюрократии; примером может служить уже встречавшийся нам в первой главе вождь Тайпинского восстания Хун Сюцюань. Хун четырежды провалил «гао као» тех дней, после чего пришел к заключению, что он является младшим братом Иисуса Христа, и поднял мятеж против Цинской династии.
Тем не менее, при всей своей мучительной суровости, экзамен представлял собой инструмент продвижения по социальной лестнице. Бедный, не имеющий связей парень из провинции, прилежно учась и успешно сдав экзамен, мог стать чиновником. Позиция мандарина давала неуязвимую экономическую защищенность, и, таким образом, учеба и образование служили ключом, который в принципе мог открыть врата в более благополучную жизнь. Веками «китайской мечтой» была надежда стать частью этой ученой иерархии. Ради этого сельские общины напрягали силы и собирали средства. Деревенские жители работали на «полях для ламп и книг», называвшихся так потому, что на деньги, полученные от продажи урожая с этих полей, покупались лампы для освещения помещений, в которых по вечерам занимались подающие надежды местные ребятишки. Линь Цзэсюй, герой борьбы за национальную независимость Китая, в XIX веке давший отпор экономическому натиску Великобритании, так описывал вдохновенно учившихся селян: «Морозными днями и нескончаемыми ночами, в ветхом домишке из трех комнат, под сердитое завывание северного ветра, при свете единственной висящей на стене лампы, стар и млад, мы сидели рядом за чтением и рукоделием… пока ночь не сменялась утром».
Экзамен был абсолютно справедливым и беспристрастным, то есть у богатых не было возможности с помощью взяток проложить себе путь к успеху. Как будто в предвидении сегодняшних антикоррупционных мер, каждая работа представлялась на проверку анонимно, переписанная перед этим писцами, чтобы экзаменаторы не могли по почерку определить личность соискателя.
На многих иностранцев, включая Вольтера, система китайского образования производила глубокое впечатление, особенно тот факт, что чиновников выбирали исключительно на основании их академических успехов, а не богатства и семейных связей. Ральф Уолдо Эмерсон восхищался тем, что в Китае образование являлось «не допускающим исключений паспортом» для восхождения по социальной лестнице. А в 1847 году британский дипломат в Кантоне Томас Тэйлор Медоуз зашел и вовсе далеко в своем утверждении, что Китайская империя обязана своей не имеющей равных долговечностью экзаменационной системе. По этому поводу он писал: «Длительное существование Китайской империи обусловлено исключительно использованием принципа, согласно которому… правительство должно состоять из людей, выбранных благодаря их достоинствам и талантам, и только на этом основании им присваивается высокий ранг и они наделяются властью, соответствующей занимаемому ими посту».
Медоуз считал, что британское правительство должно позаимствовать у китайцев систему отбора высших правительственных чиновников. И ему не пришлось ждать слишком долго. В 1855 году была основана Комиссия государственной службы. Одной из главных ее рекомендаций было введение стандартизованного экзамена, результаты которого оценивались независимыми экзаменаторами и к которому допускались все желающие. В самом сердце могущественной Британской империи теперь можно было обнаружить частичку Китая.
Некоторые британцы и поныне зачарованы примером академических успехов школьников в странах Востока. В 2010 году британский госсекретарь по вопросам образования Майкл Гоув опубликовал газетную статью, в которой он буквально захлебывается от энтузиазма по поводу качества системы школьного образования, которую он наблюдал во время своего ознакомительного визита в Китай: «В одной из пекинских школ мне вручили толстую книгу с иероглифическими текстами, среди которых время от времени попадались вставки на английском. «Это учебник?» — спросил я. «Нет, — ответили мне, — это сборник научных статей, опубликованных в научных журналах людьми из нашей школы». «Вот это да! — воскликнул я. — Ваши учителя, как видно, очень образованны, если они в состоянии регулярно публиковать свои новые труды в научных журналах». Мне ответили, что статьи не были написаны учителями. Это были домашние задания, выполненные школьниками».
Гоув вернулся домой с заключением, что «школы на Дальнем Востоке выпускают учащихся, по уровню во всем превосходящих наших собственных школьников».