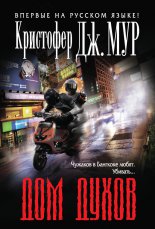The Intel: как Роберт Нойс, Гордон Мур и Энди Гроув создали самую влиятельную компанию в мире Мэлоун Майкл

Военная полиция явно искала примеры и козлов отпущения в связи с новыми приказами, потому что, вместо того чтобы отправить Марию домой (возможно, с избиением или хуже), они встретили ее с сыном в квартире, где их ожидала группа солдат и полицейских. Там полиция быстро организовала шеренгу, в которую вошли Хайе и Андрей. Из воспоминаний Энди: «Мама повернулась лицом к солдатам, одному за другим смотрела в глаза и мотала головой – «нет». Я затаил дыхание, когда очередь дошла до Андрея. Сам Андрей был ярко-красным, и казалось, что он не дышит. После короткой паузы мама снова мотнула головой. Я потянул ее за руку. Она, в ответ, ее сжала и сказала «Тихо!» суровым тоном, который запрещал любой звук».[197]
Той ночью Мария объяснила сыну, что она сделала. До того как пойти в квартиру с полицией, сержант Хайе сказал ей, что она сможет отомстить, лишь указав на Андрея, которого моментально без суда и следствия вывели бы на улицу и расстреляли. Но он также предупредил, что, если она так сделает, друзья Андрея среди солдат могут отомстить, убив Марию, Андраша и всех остальных жильцов. «Поэтому она решила не указывать на него», – писал Гроув.
К середине января немцы и «Скрещенные Стрелы» отошли назад, к холмам Буды, в последней отчаянной попытке обороны, взрывая по пути за собой мосты над Дунаем. Они не намеревались возвращаться… а это значило, что жители Пешта могли вернуться к обломкам дорог и к разрушенным домам, что остались от их города. Чувствуя себя в безопасности впервые за много месяцев, Мария решила отметить свое освобождение, сказав Андрашу, что он снова мог использовать свое старое имя, которое он практически уже забыл: Малешевичи снова стали Гроф.
Андраша, столько уже повидавшего за восемь лет жизни, данная новость привела в недоумение: «Я настолько сильно поверил в то, что я Андраш Малешевич, что в тот момент я был шокирован». А потом «значительность свободы использования своего настоящего имени меня опьянила». Он был так взволнован, что рассказал другу правду – а тот, в свою очередь, рассказал отцу, который позвал мальчика к ним в гости и стал расспрашивать его, записывая все, что слышал в ответ.
«Я начал дрожать от страха и гнева, которые накапливались внутри меня», – вспоминал Энди. Он рассказал матери, что случилось, но она успокоила его и сказала, что ему незачем больше волноваться; немцы уже ушли. Однако реакция мальчика не была вовсе не обоснованной: некоторые венгры уже шпионили за своими соседями в интересах Советов.
Мария вскоре объявила о том, что настало время возвращаться в их старый район. Мать с сыном собрали те немногие вещи, которые у них были, и отправились пешком в путь, по снегу, к старой квартире, расстояние до которой было около шестнадцати километров. Шестьдесят лет спустя Энди Гроув будет все равно вспоминать переход как сюрреалистическую картину: на это повлиял не только вид разрушенных районов города, который он когда-то знал, но и сама его реакция на все, что он видел вокруг. Настолько травмирован был Андраш опытом, который он испытал за половину своего детства, что, когда пробирался сквозь снег за своей матерью, проходя один ужас за другим (разрушенные здания, кратеры от гранат и снарядов, скелеты лошадей, которых зарезали прямо на дороге), он ощущал себя будто во сне или в кино… Что врезалось в его память более всего, так это безэмоциональная реакция на все, что он видел. «Я не был ни удивлен, ни потрясен тем, что мы видели». Сложно в этом ответе не разглядеть знаменитое упорство и стальную выдержку взрослого Энди Гроува, которые проявлялись в трудные времена в Intel.
Удивительно, но старый дом – как и пара других, стоявших перед ним, – был побит, но все еще стоял. Однако он тоже был занят незаконными поселенцами. И, пока владелец дома не разобрался с этой проблемой на следующий день, Мария и Андраш провели ночь в «Еврейском доме» из плохого прошлого, находившемся неподалеку.
Мать с сыном теперь настроились на возвращение к нормальной жизни. Не нужно и говорить о том, что вызов был более трудным для Марии, которой теперь необходимо было построить заново жизнь не только свою, но и своего сына. Тем более что теперь она, предположительно, была вдовой. Андрашу же жизнь теперь казалась счастливыми и бесконечными каникулами. Ему больше не приходилось волноваться по поводу немецких солдат или бомбежек, ему не нужно было запоминать второе имя или придуманную историю жизни, и, что больше всего его радовало, его мать решила, что ему не нужно было идти во второй класс до следующего учебного года, до которого еще было шесть месяцев. «Это было так, будто я оказался на бесконечных каникулах». Общительный для своего возраста, способный знакомиться с людьми, с большим количеством свободного времени и крайне недисциплинированный Андраш (как потом Энди признал) стал мальчиком, доставляющим беспокойство.
Мария теперь посвятила все свое время поискам мужа, от которого она ничего не слышала уже два года. Она спрашивала у всех, кого могла найти, и по официальным, и по неофициальным каналам, слышал ли кто о Дьерде. Но нет, ничего не находилось. Когда проходил слух о возвращении военнопленных, она шла на железнодорожную станцию и долго ходила по перрону в надежде увидеть там мужа.
Сын находил ее поведение раздражающим. «Мне было понятно, что она никогда не получит удовлетворяющий ее ответ. Я уже едва мог вспомнить своего отца, и теперь память о нем, и так-то бывшая не яркой, потускнела еще сильнее из-за одержимости моей матери».
Глава 30. Воссоединение отца и сына
В сентябре 1945 года, когда Андрашу исполнилось девять лет, в городе снова прошел слух о том, что венгерских военнопленных освободили из концлагерей, и они ехали в Будапешт на нескольких поездах. Поэтому каждый день Мария спускалась к станции, иногда даже с сопротивляющимся Андрашем… и каждый день возвращалась расстроенной.
Она очень рассчитывала на тайный свист, который они с Дьердем придумали после свадьбы. Его целью было найти друг друга в случае разлуки. Каждый раз, когда Мария была на станции, она напрягала слух, в надежде услышать этот свист. И вдруг однажды, когда военнопленные сходили с поезда и в своей потрепанной одежде волочились мимо Марии, ей показалось, что она услышала этот свист! Она кинулась искать в толпе, в то время как Андраш, который был уверен, что она сошла с ума, ныл.
Однако же внезапно «истощенный мужчина, грязный и в потрепанной солдатской форме» появился у двери вагона. Андраш не знал, как реагировать: «Я был ошеломлен. Это должен был быть мой отец, но я не знал его. Я должен был любить его, но я не был уверен в том, что я испытываю… Мне было неловко, что я был не прав».[198]
Дьердь Гроф побывал в аду – и внешний вид его этому соответствовал. Многие из его товарищей погибли – если не в бою, то от болезни и холода. И Дьердя трудности еще не оставили. В апреле он написал родным письмо, которое они получили только после его возвращения. «Мои дорогие, похоже, что конец будет здесь и мы больше не увидимся. У меня еще одно препятствие – новое заболевание, какая-то кожная язва. Она растет изо дня в день. Лекарства нет. Они не знают, как это вылечить… Похоже, мои старания за последние три года были безуспешными. Все, что я сейчас хочу, – это увидеть вас; знать, что вы живы. Но я уничтожен. Только моя любовь к вам еще дает мне силы, чтобы жить».[199]
Дьердь был готов принять на чужбине жалкую смерть, которая так его и не постигла. В отличие от тысяч других солдат, он жил, чтобы увидеть свою семью. И, как многие, которые пережили все ужасы войны, он не говорил о ней во время долгого восстановления, а также и после него. И только будучи стариком, он рассказал Энди о варварстве, которое испытал на себе в концлагере от литовцев, которые охраняли их там. В своих мемуарах Энди писал: «История, которая впечатлила меня больше всего, была о том, как однажды, посреди морозной ночи, батальон моего отца раздели догола и заставили лезть на деревья, а охранники обрызгивали их ледяной водой и смеялись, когда, один за другим, люди падали с них, замерзшие заживо».[200]
Той осенью и зимой семья Гроф постепенно восстанавливалась и строила планы на будущее. Оставался еще один нетронутый вопрос, и поразительно, что взрослый Эндрю Гроув описывает этот момент в своих мемуарах: его мать сделала аборт. Его родители позже скажут, что они не хотели еще одного ребенка, но читателю мемуаров Гроува трудно не связать это с обстоятельствами предшествующей зимы. Энди всегда был уверен, что это должна была быть девочка. И хоть его жизнь и была наполнена женщинами (минимум женой и дочерьми), та сестра, которую он потерял – последняя жертва его войны, – продолжает преследовать его в мыслях.
Тянулось время тяжелых новостей: многие из соседей и родственников были мертвы. Даже мама Дьердя, бабушка Андраша, погибла в Освенциме. Миллион солдат Красной армии оккупировали Венгрию – один на десятерых венгров, – и хоть война и была закончена, они не намеревались уходить.
В отличие от также оккупированных соседей, Сталин позволил Венгрии проводить свободные выборы. Это было актом пропаганды. Венгрия была подавлена ходом и результатами войны. Миллион жителей убиты (половина из них были евреями, погибшими в немецких концлагерях). Советские войска казнили более половины бывших лидеров венгерского правительства. От инфраструктуры мало что осталось. Электричество, водоснабжение, мосты, дороги и поезда были разрушены или сильно повреждены. Заводы пустовали, и, особенно в Будапеште, был недостаток жилья. Тем временем, несмотря на недостаток бумаги, временное правительство печатало денежные средства в огромных количествах, быстро обеспечивая инфляцию, которая вскоре достигла уровня Веймара (а 60 лет спустя – Зимбабве).
Сталин наблюдал за происходящим и с типичной для него умной жестокостью решил воспользоваться этим актом щедрости, выраженном в позволении проведения свободных выборов. Он знал, что экономика вскоре рухнет, а вину повесят на партию победителей. В конце концов избиратели проголосовали за четырехпартийное коалиционное правительство под руководством партии независимых землевладельцев. Но все знали, что всю власть имела венгерская коммунистическая партия. Ее прикрывала Красная армия, которая контролировала сельские районы и улицы Будапешта.
Тем не менее это считалось нормой. Мария продолжала работать на молочной ферме, а Дьердь нашел работу в магазине. Мосты над Дунаем были отремонтированы, город постепенно реконструировался. Андраш пошел в третий класс, где он хорошо справлялся. И даже его родители вновь стали обретать оптимизм и стремления, большинство из которых крутились вокруг их единственного ребенка.
Вскоре Дьердь и Мария настояли на том, чтобы Андраш начал учить английский язык. Ему не нравились эти уроки, и (примем во внимание, что он до сих пор говорит с акцентом) у него явно были ограниченные способности. Однако именно эти уроки в будущем оказались жизненно важными для него. Мария все еще думала наперед.
Хорошие времена имели неожиданные последствия: Энди начал крайне резко набирать в весе. «В последующие после войны годы я сильно набрал. Сначала я стал толстым, а потом еще более толстым. Дети в школе начали обзывать меня по-разному, например «жиртрест», или изображать звуки, которые издают свиньи. Мне не нравились такие обзывания, но чем больше я протестовал, тем громче они меня дразнили. Поэтому я просто смирился. Я стал называть себя так даже у себя в голове».[201]
Биограф Гроува, Тедлоу, рассуждает на тему психологических причин набора веса Андрашем. Но в реальности, скорее всего, родители мальчика, принимая во внимание то, через что он прошел, решили его побаловать. Одно можно сказать точно: это был период в его жизни, который он очень хорошо помнит – практически так же хорошо, как и воспоминания о войне, – из-за унижения и беспомощности, чего он не позволял испытывать во взрослой жизни. Может, в качестве напоминания Энди в мемуарах прикрепил фотографию толстого себя.
В классе Андраш продолжал процветать. По причине того, что его уши еще не совсем зажили (они не давали ему заниматься многими видами спорта), учителя привыкли ставить его в первый ряд. «Мои уши еще текли, и я плохо слышал, но когда я садился в первый ряд и учитель говорил достаточно громко, чтобы весь класс его слышал, то я тоже неплохо его слышал».[202]
Толстый, полуглухой, «жиртрест» был постоянно лучшим в классе по всем предметам. Помогало и то, что жизнь дома налаживалась и родители постепенно расцветали, как и весь район, что снова сделало квартиру семейства Гроф местом сбора друзей.
Но в более крупном мире советский тоталитаризм все рос, постепенно заглатывая один социальный институт за другим, превращая их в инструменты государственного влияния и власти. Первые несколько лет после войны такая политика еще не воспринималась болезненно. Однако сталинизм никогда не был доброкачественным – и в 1949 году, после того как оставшаяся Европа была затянута под «железный занавес», он наконец показал свое истинное лицо в Венгрии.
Глава 31. Энди в изгнании
В сентябре 1949 года вся страна слушала радио, когда министра иностранных дел Венгрии, Ласло Райка, подвергли показательному процессу, такому же, какие проводили в СССР в конце 1930-х годов во время сталинских репрессий. Райк, которого пытали, сознался во всем. Его казнили 15 октября.
В ситуации, которая повторялась много раз в соседних странах, реакция венгров сначала была более удивленной, нежели испуганной. Райк сознался, не так ли? Или его заставили? С каждым днем, когда доступ во внешний мир все больше и больше закрывался, а единственным источником новостей стало радио, управляемое государством, правда становилась все более неясной.
Для Андраша Грофа, эмпирика по природе, стало невыносимым растущее несоответствие между тем, что он видел собственными глазами, и тем, что выдавалось за правду в СМИ, контролируемых государством. Ему только что исполнилось 13 лет, он решил стать журналистом и твердо считал, что главное в его будущей профессии – это правда.
Полгода спустя, 1 мая 1950 года, во время празднования коммунистической партией Первомая, Андраш с друзьями решили прогуляться до площади Героев, чтобы посмотреть парад и торжество, которое следовало за этим. Еще в паре кварталов от площади они уже слышали из уличных громкоговорителей торжественные голоса ведущих и ликование огромной толпы. Они ускорили шаг, желая – в своем тоскливом тоталитарном мире – увидеть настоящее зрелище и волнение. Когда они подошли к площади, вид на которую все еще загораживала группа зданий, они услышали, как толпа ликует: «Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует Матьяш Ракоши! Да здравствует Сталин!»
Желая присоединиться к празднику, молодые люди поспешили за угол и… замерли. Гроув вспоминает: «Однако, когда мы пришли на площадь, единственными людьми, стоящими там, были члены самой партии. Никто больше не наблюдал за происходящим. Больше не было никаких марширующих, которые ликовали. Да и из нас никто не ликовал».[203]
Это была типичная потемкинская деревня. Никакой ликующей толпы не было; ликование, которое Андраш с друзьями слышали, доносилось из репродукторов, закрепленных на фонарях вдоль маршрута парада. Кинокамеры, снимающие для кинотеатров всей страны, записывали поддельные возгласы, невозмутимых и жестоких людей на плацу, длинные колонны марширующих на площади. Ни одна из них не запечатлела пустую площадь.
Это все было ложью. И Андрашу наконец-то стало ясно, что все в новой Венгрии было ложью. Двумя годами раньше его отец с матерью пошли работать на молочную ферму – пока государство не национализировало ее «во имя народа», как и любое другое предприятие, на котором было более десяти работников. Это, по воспоминаниям Эндрю, привело к «готовому припасу свежего творога, масла и йогурта, к которым мы привыкли». Когда прибыль упала, Дьердь и Мария перевели сына в более дешевую, менее престижную школу. Андраш быстро понял, что новая школа сильно отличалась от старой. Атмосфера здесь была другой. Она зависела от мира вне ее стен, мира, который носил постоянно изменяющийся характер. Теперь, когда официальная программа, установленная учебно-воспитательными комиссарами, еще сильнее отдалялась от действительности, возможность возразить этой явной фальши также подавлялась. Гроув говорит: «Оспаривать позицию, которая даже отдаленно была связана с коммунистической партией, не было мудрым решением».
Куда бы он ни посмотрел, Андраш видел одну и ту же растущую пропасть между просто информацией, даже подверженной цензуре, и тем, что партия официально выдавала за правду. Пробуя свои силы в журналистике, парень чувствовал себя особенно изношенным: «С одной стороны, я осознавал, что коммунисты спасли жизнь моей матери и, собственно, мою. Я был за это крайне благодарен, и моя благодарность вызывала во мне желание верить им и в то, за что они стояли. С другой стороны… они стремительно вмешивались в нашу обычную жизнь… все во имя философии с политическим подтекстом, которую я не мог понять».[204]
Противоречия усугубились с показательным судом над Райком. Был ли он на самом деле предателем? Приговор казался предрешенным; казнь слишком быстрой. Андраш, набираясь уверенности, как журналист, пишущий для школьной газеты и для национального журнала для молодой аудитории, чувствовал, что что-то в этой истории было не так.
Затем пришел парад в честь Первомая. Андрашу доверили главную статью на эту тему в журнале. Но фиктивность мероприятия была для него слишком очевидной. Андраш отказался от задания… и его доверили кому-то другому, кто, скорее всего, даже не присутствовал там.
Противоречия, возникающие в Андраше, подавленном коммунистическим режимом, становились все более явными, и их становилось все труднее принимать. Радио и газеты врали. Уроки, которые преподавали в школе, были наполнены полуправдой, если не ложью. И гости, которые приходили к ним в квартиру, становились все более осторожными и задумывались, прежде чем что-либо сказать.
Хуже всего была реакция отца и дяди Андраша, поддерживающих новый режим.
Для Дьердя Грофа решение уйти из молочной фермы и устроиться в магазин оказалось благоприятным. Вскоре государство предложило ему должность директора в государственной организации, которая выращивала и экспортировала скот. «Скотный двор» Джорджа Оруэлла вышел в свет практически в тот же момент, когда отец Андраша вернулся в Будапешт после плена, – и теперь он находился в реальности, где одни были более равными, чем другие. Их с Марией вынудили уволить двух молодых женщин, которые были рады работать даже после того, как государство сказало, что их «эксплуатируют».
Но теперь у Дьердя, по словам сына, была «изящная секретарша» и даже шофер, которые, по всей видимости, были также освобождены от этой противодействующей эксплуатации. Дьердь теперь был членом номенклатуры – и, несмотря на растущее отвращение сына, быстро избавился от стыда и начал утопать в наделенной ему власти и процветании.
Тем временем брат Марии, Шани, – который предупредил Марию и Андраша, когда они жили в Еврейском доме, о приближении «Скрещенных Стрел», – пошел по другому пути в послевоенной Венгрии. Он стал редактором газеты, причем очень смелым. Шани не боялся противостоять официальной лжи государства, что, конечно, злило партийное руководство и было очень опасным в советской империи. Андраш испытывал глубокое уважение к дяде. Видимо, именно желание подражать ему повлияло на выбор будущей профессии.
Еще полгода спустя, в начале 1951-го, Мария вечером, читая газету, вдруг заметила в ней имя своего мужа. В статье говорилось о том, что Дьердь обвинялся в связях с «буржуазными элементами». Ужас поразил семью: такие обвинения приводили к пыткам и даже казням.
Но на каком основании его обвиняли? Ответ вскоре был получен: Шани вместе со своим племянником были арестованы тайной полицией. Энди вспоминает: «Моя тетя появилась в нашей квартире на следующее утро. Она была до смерти испугана и беспомощна. Никто не сказал, куда их забрали и с какой целью. Не было никаких официальных обвинений, и спросить было тоже не у кого. Они просто испарились».[205]
Что было дальше? Им ничего не оставалось, кроме как «ждать, что будет дальше».
Ответ пришел быстро. Без объяснений – они не требовались – Дьердя сняли с должности и сказали, что если он когда-нибудь найдет работу с оплатой, равной четверти той, которую он получал, то ему сильно повезет. Тедлоу пишет: «Дьердь смог найти работу, однако уровень жизни семьи сильно понизился. Мясо раз в неделю. Больше никаких деликатесов. Дешевые места в опере. Долгая дорога на электричке, что было ужасно сложным после машины с шофером».
Дьердь, как и всегда, мужественно переносил удар. Гроув вспоминает: «Я ни разу не слышал, чтобы отец жаловался по поводу потери работы… более того, я вообще не слышал, чтобы он на что-то жаловался, он стал очень тихим. Прежде он был человеком, который жил разговорами о политике. Теперь он отказывался затрагивать эту тему. Да и обсуждать политику было больше не с кем. Большинство из его друзей держалось подальше».[206]
Дьердь Гроф стал «радиоактивным» и практически превратился в «недочеловека». Даже его друзья и соседи, которые не верили новостям, решили, что будет благоразумнее держаться от него подальше. Для Андраша «принятие отцом режима и всех привилегий, которыми данное сотрудничество наделяло», и горечь от их потери, которую он тихо теперь переживал, только увеличили разрыв в отношениях, еще не полностью восстановившихся после войны. Полвека спустя, когда обоих родителей уже не будет в живых, Энди Гроув решит посвятить свои мемуары только матери. И, как и дядя, он решит писать их с непоколебимостью, поставив точность и правдивость выше, чем тактичность.
Клеймо, которым были запятнаны репутации его отца и дяди, теперь добралось и до Андраша. Внезапно материал, который он писал – до этого так охотно принимаемый, – перестали публиковать. Когда он решил поговорить об этом с редактором, то получил уклончивый ответ. Он рассказал матери, что случилось, и она согласилась, что причина, вероятнее всего, была в аресте его дяди. «Он внезапно потерял весь интерес в карьере журналиста». Энди больше никогда не верил репортерам и редакторам.
Из-за изменений обстоятельств в семье – вкупе с тем, что мальчик теперь стал подростком – снова пришлось менять школу. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась его семья, молодой парень, которому уже было пятнадцать лет, начал получать свое. Он не только учился лучше всех, но и его индивидуальность (и великое стремление) начинала проявлять себя. Вскоре его новый учитель литературы сказал на родительском собрании: «Однажды мы будем сидеть в приемной господина Грофа, ожидая, что он нас примет».
Любимым преподавателем Андраша был господин Воленски, чьи уроки физики сильно отразились на дальнейшей жизни мальчика. На встрече преподавателей с родителями Воленски однажды сказал Марии и Дьердю (и всем, кто слышал): «Жизнь – большое озеро. Все мальчики ныряют в него на одном конце и начинают плыть. Не все они доплывут до противоположной стороны. Но один из них, я уверен, справится с этим. И это будет Гроф».
Слова эти запали в голову Энди на всю оставшуюся жизнь, он вспоминал их в самые трудные моменты своей карьеры. И когда настало время писать мемуары, он не только выбрал слова учителя для названия книги, но и закончил ее следующими словами:
«Как и говорил мой преподаватель, господин Воленски, я смог перебраться на противоположную сторону через озеро – не без труда, не без преград и с большим количеством поддержки от окружающих.
Я все еще плыву».[207]
Не потребовалось много времени, чтобы все в школе узнали об Андраше. Он, казалось, оставлял след на каждом уроке, на котором присутствовал. «После того как моя предположительная карьера журналиста потерпела фиаско, – писал он позднее, – я заинтересовался новым направлением, которое бы не было столь подвержено субъективной оценке». Он направил свой интерес в химию. К третьему году обучения в школе им. Мадача Андраш был настолько хорош в предмете и ему так доверяли на факультете, что доверили провести демонстрацию по созданию нитроглицерина в классе, состоящем из тридцати девочек второго года обучения.
В семнадцать лет (он был на год старше своих одноклассников) это был важный момент для Андраша, парня, который хорошел с каждым днем, – и он проявил себя в полной мере. «Бац! – писал он в мемуарах, мысленно снова наслаждаясь тем моментом. – Класс завизжал и захлопал, а я был на вершине мира!».[208] Энди Гроув, стремящийся к эффектной публикации, вышел в свет.
Еще большего он добился на уроках по английскому языку. Он, может, и поставил крест на карьере журналиста, но это не давало ему повода прекращать писать. Когда настало время сдавать учителю свой небольшой рассказ, который он назвал «Отчаяние», Андраш решил не подписываться.
То, что последовало за этим, было мечтой каждого писателя: его учитель по литературе раздал копии «Отчаяния» всему классу и попросил всех прочесть. Затем, в оживленной дискуссии, практически весь класс согласился, что рассказ был написан талантливым писателем, – и все начали рассуждать, кто бы мог написать его. Сам учитель сказал: «Кем бы ни был автор, я уверен, что мы не в последний раз сталкиваемся с ним».
Андраш наблюдал и ждал. У него от природы была склонность к драматизму и умение выбрать нужный момент – хоть мало кто это увидит до совещаний по организации сбыта в компании Intel в 1980-х годах. Так что он дождался, когда напряжение достигло пика… даже того, как класс решил, что это был другой одноклассник, который, понятное дело, бурно отрицал свое авторство. Вот тогда Энди встал и объявил, что рассказ написал он.
«Поднялся шум. Урок закончился тем, что все, взволнованные, подходили и хлопали по плечу, поздравляя меня, и качали головами в неверии… Мой учитель, господин Телгеди, пожал мне руку и вновь повторил, что рассказ был отличным… Это был самый волнующий момент в моей жизни».[209]
Всего за три года Андраш Гроф превратился из толстого еврейского ребенка (из подозрительной семьи) в стройного, привлекательного и самого уважаемого юношу в школе. Гроув вспоминает: «Однажды дома я подошел к зеркалу без рубашки. К своему восхищению, я заметил, что у меня были мышцы! Я наконец-то потерял остатки лишнего веса». Было ощущение, будто он сделал шаг из-под тучи и теперь, сияя, стоял в ярких лучах признания. И невозможно было придумать лучшего времени для этого.
В марте 1953 года Сталин умер. В своих мемуарах Энди Гроув размышлял по этому поводу, возможно, лучше, чем кто-либо еще:
«Фигура Сталина в моей голове была связана с представлениями о Советском Союзе. Изображения мужчины в форме, с усами, с доброжелательным лицом висели повсюду – в офисах, школах, на праздниках, на углах зданий, – они, казалось, занимали большую часть моей жизни. Хоть к этому времени я и стал скептически относиться ко всему связанному с Советским Союзом и со Сталиным, его смерть и исчезновение картин с его добрым лицом вызывали во мне смешанные чувства.
Я одновременно был рад и испытывал грусть. Было это все очень странно».[210]
Пока потенциальные последователи Сталина смотрели, кто до конца стоял на плацу на Красной площади, бывшие спутники СССР – особенно Венгрия – воспользовались моментом и начали вводить реформы, ослабляя хватку приспешников Сталина.
Все становилось еще лучше. В июне главы коммунистической партии Венгрии были вызваны в Москву. Спустя несколько дней премьер-министр Ракоши ушел в отставку. Более того, за последующий год около 750 000 политических заключенных были освобождены из венгерских лагерей по общей амнистии. Среди них был и дядя Андраша, Шани, которого освободили весной 1954 года. Семья была восстановлена. Но даже та слабая вера в правительство или его благожелательность, которая была, исчезла вовсе.
Тем временем Андраш, звезда в школе, готовился к поступлению в Будапештский университет, где собирался изучать прикладные науки. Но между ним и его целью стояли два больших препятствия.
Первым были устные выпускные экзамены – с этим он справился легко. Вторым препятствием, более серьезным, было то, что Андраш имел официальный статус «изгой класса» – из-за записей в личных делах дяди и отца. Такое определение автоматически накладывало вето на поступление практически в любой вуз страны.
Андраш обратился к единственной системе, которая, по его мнению, должна была сработать: нелегальная, подполье. Старый знакомый имел связи внутри правительства, и… обходными путями официальный статус Андраша был тихо изменен на «другое». С этим изменением вторая преграда была преодолена, Андраша приняли в университет. А он полчил первый урок по использованию в своих интересах государственной бюрократии.
Андраш поступил в университет осенью 1955 года. Любой студент периода холодной войны знал, что надвигалось. Тем не менее годы жизни в Будапеште, учебы в университете для Андраша были одними из самых счастливых. Он быстро втянулся и получал высшие оценки, хотя университетские педагоги меньше шли навстречу его трудностям со слухом. Он был счастлив уже потому, что «…мне больше не приходилось стыдиться того, что я хорошо учился. В университете мы все были для того, чтобы учиться, и все мы стремились делать это как можно лучше».
Однако настоящим достижением Андраша в студенческие годы стало не само обучение, а расширение социальных кругов. Как мальчик, живущий в еврейском квартале Будапешта, постоянно в бегах от нацистов, посещающий школы, наполненные еврейскими детьми, он мало общался с ровесниками нееврейского происхождения. Он знал парочку таких ребят, но не считал их настоящими друзьями.
Это изменилось на первом курсе университета. Несмотря на тот факт, что общение между христианами и евреями еще было редкостью, Андраш познакомился с юношей нееврейского происхождения по имени Золтан, чьи мысли и идеи либо были схожими с мышлением Андраша, либо просто вызывали интерес молодого человека: «Меня впечатляли острый ум и проницательность Золтана, а также его интерес к западной литературе и музыке – он был полноценным джазовым пианистом. Его попытка выглядеть «по-западному», как я вскоре понял, не была выпендрежем, а целиком соответствовала его интересам».
Еще более притягательными были представления Золтана о политике. «Он открыто высказывал циничные комментарии относительно политики при мне, и я вскоре обнаружил, что сам все больше открываюсь ему». Хотя молодые люди еще этого не знали, такая жажда свободного выражения еще скрытно, но распространялась по всей Венгрии.
Несмотря на то что молодые люди стали очень близки, религия являлась камнем преткновения, что мешало им стать полноценными друзьями. Наконец, однажды Андраш (что было ему присуще) попытался напрямую решить данную проблему. Он спросил у Золтана: «Тебя смущает, что я еврей?»
«Почему меня должно волновать, что ты вонючий еврей?» – ответил Золтан. Андраш был слегка шокирован такими словами, а затем улыбнулся: «Действительно, и почему тогда меня должно смущать, что я общаюсь с тупицей?»
В восемнадцать лет у Андраша был первый настоящий друг нееврейского происхождения. Они даже придумали кодовые слова, с помощью которых они обращались друг к другу: в венгерском первые буквы слова «вонючий еврей» совпадают с обозначением висмута в таблице Менделеева, а инициалы «тупицы» – с обозначением ртути. С тех пор они друг друга на людях называли этими элементами.
Как обязывал закон, Андраш провел лето после первого курса в армии. Государственная служба не была тяжкой для такого умного юноши, находящегося в хорошей форме. Скорее это больше походило на затянувшийся поход. К концу лета Андраш вернулся здоровым, загорелым и стремящимся вновь погрузиться в университетские прелести.
Однако вскоре история вновь вмешалась в его жизнь. Смерть Болеслава Берута, жестокой советской марионетки в Польше, разожгла скрытую тягу к свободе в этой стране. Во время «Польского октября» было много бунтов и демонстраций, которые вскоре перекинулись и в Восточную Германию. СССР не мог позволить такой свободы, чтобы удержать империю. И вскоре правительства обеих стран (ПНР и ГДР), под давлением угроз со стороны Москвы, подавили восстания.
Но в Венгрии, в которую бунт перебрался, пламя свободы продолжало разгораться, в особенности в Будапештском университете. Гроув вспоминает: «По университету прошел слух о марше, который организовывался в поддержку поляков». Этот марш был запланирован на 23 октября. Когда настал этот день, все это начиналось наподобие уличного карнавала городского масштаба, когда к марширующим студентам присоединялись тысячи других жителей города. Для Андраша это все было чарующим, контраст с пустой площадью во время официального парада шестью годами ранее был огромным: «После всех этих лет унылых, тихих первомайских парадов – в огромной спонтанной демонстрации было что-то волшебное». И Андраш присоединился.
Потом все вышло из-под контроля. Внезапно из того, что казалось каждым окном, находящимся по маршруту демонстрации, появились флаги. Красные флаги. Флаги коммунистов, которые развевались над Будапештом с окончания войны. Но теперь серп и молот были вырезаны из этих флагов, символизируя желание Венгрии стать свободной от советского режима. Понятное стремление, но одновременно очень провокационное. По словам Гроува: «Эти флаги были безвозвратно изменены. Такой поступок намекал на реакцию… У меня было ощущение, что мы перешли грань, и пути назад не было. Я начал нервничать».[211]
Он все больше и больше волновался по мере того, как приближался вечер. К полудню парад превратился в полномасштабную демонстрацию, состоящую из тысяч венгров. К вечеру прибыли рабочие – некоторые в руках держали горелки. С их помощью они напали на крупную бронзовую статую Сталина, символично отрезали голову и по очереди плевали на нее. Теперь сомнений не было, что после такого оскорбления Советскому Союзу Красная армия отреагирует каким-то образом – и в скором времени.
Взволнованный Андраш пошел домой той ночью, плохо спал и проснулся от звуков выстрелов. Он решил, что будет благоразумно не идти в университет в тот день. Пытаясь занять себя, он обнаружил, что радио «Свободная Европа» и «Голос Америки», которые всегда глушились, теперь четко было слышно. Они даже высказывали слова поддержки венгерской демонстрации. Что это значило? Правительство пало?
Оно действительно пало. Премьер-министр и его кабинет скрылись за городом. Даже Красная армия покинула город. И обе стороны все еще бежали, так как сельские жители присоединялись к восстанию. На мгновение показалось, что Венгрия наконец-то освобождается от хватки Советского Союза и снова становится свободной и независимой страной.
Но это всего лишь казалось. 4 ноября Красная армия пошла в наступление, начав с сельской местности, в то время как на Запад обрушились радиосообщения о помощи. Гроув печально: «Я никогда не видел такого опустошения, даже во время бомбежки на войне».
Тогда начались убийства. Бежавший премьер-министр был казнен. Мужчины и женщины, пытавшиеся остановить советские танки и артиллерию, были убиты. Правительство вернуло себе полный контроль, тайная полиция снова была выпущена, чтобы разобраться с протестующими. Вскоре люди, включая многих студентов, начали пропадать с улиц и из домов, чтобы больше никогда не вернуться.
В квартире семьи Гроф отчаянная дискуссия о том, что Андрашу следовало делать, шла полным ходом. Тихо сидеть и надеяться, что он не был в списке, чтобы где-нибудь попасть в руки тайной полиции? Или бежать к австрийской границе? Если выбрать второй вариант, то Андраш уже точно знал, куда направится потом: «Конечно, в Америку. Или, как коммунисты говорили, в «империалистическую, сребролюбивую Америку». Чем больше они насмехались, тем более привлекательной казалась Америка. Америка создавала впечатление богатой страны с современными технологиями; это было место скопления машин и – большого числа дешевых баров».
И голос тети Манси, с которой он прятался в сельских краях годами ранее, оказался решающим. «Андраш, – сказала она. – Ты должен идти. Ты должен бежать, и сделать это нужно прямо сейчас». В ее словах слышался авторитет человека, пережившего Освенцим. Мария согласилась и с решительностью, столь для нее характерной, сказала, что он уедет утром. Той ночью Андраш «тихо попрощался» с квартирой, единственным настоящим домом, который у него был, – и приготовился покинуть эту жизнь и, может, эту семью навсегда.
«Перебарывая ощущение, что они могут никогда больше не увидеться, Дьердь, Мария и Андраш пошли с утра на прогулку, будто это было обыкновенное утро» – как и в день пятнадцать лет назад, когда они вместе шли и рассматривали поисковые прожекторы.[212] Они попрощались, даже не обнявшись, чтобы не вызвать подозрение окружающих. Андраш пошел дальше, не оборачиваясь. Путь его лежал к пункту встречи с двумя другими беженцами – парнем и девушкой, которых он знал. Втроем они направились к железнодорожной станции, где купили билеты и сели на поезд, чтобы через 225 км доехать до Сомбатхея, находящегося всего в 25 км от австрийской границы.
В поезде троица познакомилась с еще одной девушкой, у которой была такая же цель, и она к ним присоединилась. Они шли через леса и поля, в основном по темноте. Они повстречали горбуна посреди одного из полей, который разговаривал только шепотом, он указал им на уединенный деревенский дом. Там они постучали в дверь, которую открыла «женщина потрясающей красоты, одетая в цветное крестьянское платье». Компания осталась там на ночь.
Той ночью Андраш спал в сарае. Сидя там, «я посмотрел на кусочек неба, который открывался мне сквозь дверной проем, и подумал, что это, скорее всего, последняя часть меня, которая останется в Венгрии».[213]
На следующий день появился проводник для группы молодых людей. Он был словно призрак, исчезая на долгое время, чтобы потом внезапно появиться, призывая их следовать за ним. Наконец он остановился на окраине поля и указал вдаль. «Те фонари – Австрия, – прошептал он. – Следуйте к ним и не спускайте с них глаз. Тут я вас покину».
Четверо студентов пробирались через перекопанное поле в темноте. Вдруг залаяла одна собака, затем другая. Внезапно в воздух взлетела сигнальная ракета, раскрывая их в резком белом свете. Все четверо легли на землю, пытаясь укрыться. Ракета выгорела, и они вновь оказались в темноте. Затем раздался голос: «Кто там?» Вопрос прозвучал на венгерском! Неужели они не дошли до границы?
«Спокойно, – сказал мужчина. – Вы в Австрии».
Молодые люди были переданы австрийской полиции, разместившей их на ночь в неотапливаемом здании сельской школы. Вскоре возник спор. Девушки доверяли полицейским и были им благодарны. Но Андраш спорил, что он не намерен был проделать такой путь, чтобы попасть в руки другой полицейской силы. А что, если они решат их отправить назад в Венгрию? Второй парень согласился, и с утра группа разделилась: Андраш с другим юношей двинулись дальше, оставив девушек.
Для молодого человека, который никогда не был дальше нескольких километров от родного города, Андраш вел себя как опытный путешественник, когда они достигли Вены. Он быстро отправил две телеграммы: одну родителям, сказав, что он в безопасности, вторую – родственникам тети Манси, Ленке и Лахосу, в Нью-Йорк, спросив, куда в Америку ему следовало прибыть. Затем он написал более длинное письмо своим родственникам, в котором содержалось следующее: «Бог знает, если у меня будет шанс, я пойду настолько далеко, насколько это возможно».
Между телеграммами и письмом был сумасшедший забег по городу: надо было получить все разрешения, надо было пополнить запасы, необходимые для далекого путешествия. Как Энди позднее описывал: «Я был как сумасшедший». Зарождающийся, наверное, уже тогда бизнес-титан признается, что он не думал дважды, когда «прорывался сквозь очередь» таких же беженцев, выстроившихся перед правительственными офисами. И даже среди всей этой маниакальной суматохи Андраш – уже отчаянно желающий стать частью западной культуры – умудрился найти дешевый билет в знаменитую Венскую государственную оперу! Его критический отзыв: «По сравнению с Венгерским оперным театром – переоценено».
Самым главным в тот момент было продолжать двигаться, а это значило, что необходимо найти поддержку в некоммерческой организации, помогающей беженцам. Лучшей из таких организаций был Международный комитет спасения. Он примчался в главный офис в Вене и подал заявление. Затем его повели на собеседование.
Все началось хорошо. Собеседующий был доволен, когда Энди начал говорить по-английски (а не, как большинство, по-венгерски с помощью переводчика). Однако все изменилось, когда его спросили, боролся ли он против русских, – что являлось преимуществом при получении статуса привилегированного беженца. Андраш ответил честно – нет.
Его ответ озадачил интервьюера. По всей видимости, чтобы получить расположение глав организации, практически каждый венгр выдавал себя за храброго борца за свободу, который лично боролся против Красной армии. Энди позднее вспоминал: «Мне в голову пришла саркастичная мысль: если бы все эти люди боролись, то мы бы победили и я бы сейчас не был тут». Хоть он и знал, что это сыграло бы ему на руку, он «сопротивлялся желанию придумать какую-нибудь историю по этому случаю».
Он поплатился за свою честность. На следующий день, к своему разочарованию, он не увидел себя в списке тех людей, которых переправляли в Америку. «У меня было ощущение, что кто-то ударил меня в живот, а потом мое сердце забилось настолько быстро, что я с трудом дышал».[214] Но Андраш не сдался. Он моментально пробежал мимо очереди у офиса комитета и зашел к руководителям. Тех, кто узнал его позже, это не удивило бы. Благодаря смеси умения просить и силы личностных качеств Андраш оспорил решение, отказываясь принимать «нет» в качестве ответа. И все же его удивило, когда представители Международного комитета спасения, выслушав его, пожали плечами и дали согласие. «У меня не было слов», – позднее писал Энди.
Он ехал в Америку.
Глава 32. Борец за свободу
Спустя несколько дней Андраша с такими же беженцами погрузили в поезд и отправили на запад – через страну, которую он боялся больше всего в мире, – Германию. Остановят их на границе? И как они отреагируют на еврея, пересекающего границы их страны? «Напряжение не покидало меня до того, как мы не сделали первую остановку в Германии, в городе Пассау».
В Бремерхафене беженцы пересели на побитый, списанный из военного флота боевой корабль Второй мировой войны. Это нельзя было назвать комфортным путешествием. Когда в долгом плавании через Атлантику 1715 беженцев уставали от дискомфорта и морской болезни, среди них начинали разгораться не всегда приятные споры, темы многих из которых затрагивали старую вражду, включая антисемитизм. Венгро-американский священник, который сопровождал толпу, провел наставительную беседу: для того чтобы стать частью американской культуры, необходимо забыть о старых разногласиях. Ему ответил один из беженцев, доставая огромный нож: «Я буду ненавидеть того, кого хочу ненавидеть». В тот момент Андраш понял, что новый мир никогда не станет убежищем от проблем старого мира.
Тем не менее, несмотря на трудности, Андраш был увлечен путешествием. Когда корабль проплывал мимо Дувра, «…меня посетила мысль: я смотрю на Англию. Значительность всего происходящего внезапно осенила меня: побег из Венгрии, путешествие сквозь Германию, первые картины моря вживую, Англия… Я даже мечтать о таком не мог пару недель назад».[215]
Корабль прибыл на конечный пункт в Бруклине 7 января 1957 года. Как обнаружил биограф Энди, Ричард Тедлоу, журнал Тайм в тот день объявил Человеком 1956 года обобщенного «Венгерского борца за свободу» – за сорок лет до того, как Энди сам удостоился этого звания.
Бруклин в разгар зимы оставил не лучшее первое впечатление об Америке в памяти Андраша. То же самое можно сказать о поездке на автобусе до базы Килмер, бывшего лагеря для немецких военнопленных в Нью-Джерси. Во время поездки через разрушенную, плохо пахнущую, сырую землю Нью-Джерси один из беженцев, сидящих сзади, крикнул: «Это не может быть правдой. Это, скорее всего, коммунистическая пропаганда!» База Килмер была не многим лучше.
Однако, заселившись, Андраш смог позвонить своему дяде Лахосу, тете Ленке и двенадцатилетнему двоюродному брату Полу, которые жили в Бронксе, чтобы сообщить о прибытии. На следующий день Энди стоял на пороге их квартиры на 197 Уэст-стрит. И впервые за несколько месяцев он смог позвонить родителям в Будапешт.
Через несколько дней он пошел с родственниками осмотреть город. Дядя Лахос работал в Колледже Бруклина, но вызвался отвезти Энди в Манхэттен – на работу к тете в супермаркете. Как можно предположить, поездка на метро мало изменила смешанные чувства Энди о «богатой, сверкающей Америке», которую он ожидал увидеть, но когда они поднялись на поверхность в центре огромного города:
«Я встал как вкопанный. Я был окружен небоскребами. Я смотрел на них не способный сказать и слова.
Небоскребы выглядели как на открытках. Внезапно меня охватило осознание, что я действительно был в Америке. Ничто так не символизировало Америку для меня, как небоскребы; теперь я стоял на улице, вытягивая шею, чтобы разглядеть их.
Что также значило, что я был невероятно далеко от дома – или от места, что было когда-то моим домом».[216]
Глава 33. Новая жизнь, новое имя
В течение следующих пяти лет Андраш Гроф стал гражданином Америки.
Его первоначальной целью было получение работы в состоявшейся компании и начало карьерной деятельности, как было и для его отца в Будапеште. «Моей задачей было получение профессии, которая позволила бы мне стать настолько самостоятельным, насколько это было возможно, чтобы я мог сам себя обеспечивать и откладывать одновременно средства на то, чтобы помочь родителям покинуть Венгрию и перевезти их ко мне, в Штаты».
Андраш изначально отказался от идеи поступления в колледж из-за высокой стоимости обучения: «Я уже почти забыл про колледж, когда узнал о «городских университетах». Друзья рассказали мне, что все, что требовалось от меня, была способность к обучению, – писал он в 1960 году, когда был поражен такой возможностью. – Американцы не подозревают о том, насколько они счастливые».
Сначала он узнал о программах самого подходящего университета – Университета Бруклина, но программа по химии не соответствовала его интересам. Затем шел Бруклинский Политехнический университет, однако ежегодная стоимость обучения (2000 долларов) была слишком большой суммой для него. «Было бы то же самое, если б они мне сказали 2 миллиона долларов».
Но в Политехническом люди оказались достаточно добры, чтобы посоветовать ему поступить в Городской университет Нью-Йорка, где обучение было бесплатным. Не прошло много времени, когда он был туда зачислен и получал стипендию на учебники и проживание от Всемирной организации помощи студенчеству.
Гроув позднее сказал, что Городской университет Нью-Йорка сыграл важнейшую роль в процессе его превращения в американца. Сорок пять лет спустя в речи, произнесенной после того, как он сделал крупное материальное пожертвование университету, Гроув говорил от сердца: «Я спросил, где приемная комиссия, и кто-то меня посадил, и я им рассказал свою историю. Я уже задумывался, с какой стороны на этот раз ждать удара, но они приняли меня с уважением, без снисходительности. Они дали мне старт, и дали его отлично. Это социальный институт, который является необходимым для рабочей сферы Америки, и Штаты должны гордиться этим. Я горжусь этим».[217]
Тем не менее жизнь в американском университете не была для молодого парня простой. Сначала страдали его оценки – не только по языковым и гуманитарным дисциплинам, но и в области естественных наук, как, например, по физике, когда он не сдал свой первый экзамен. Но Андраш Гроф не приехал в Америку, чтобы быть побежденным. Он еще сильнее углубился в обучение: «Я использовал каждую свободную минуту, чтобы учиться», и очень редко «поощрял себя картонным стаканчиком кока-колы, купленным за пять центов в переходе метро. Но и это я старался делать как можно реже, потому что каждый такой стаканчик значил, что родители получат на пять центов меньше».
Следующий экзамен по физике Андраш сдал на «отлично». Он также начал учиться вдвойне упорно. Когда стипендия закончилась, он начал подрабатывать ассистентом на кафедре химической инженерии за 1,79 доллара в час, 20 часов в неделю. Более того, он набрал 21 предмет в сравнении с 16 стандартными – хоть занятия и были в области химии, математического анализа и физики.
Такая нагрузка не остановила его, а, казалось, наоборот – вела к еще большим свершениям. Несмотря на то что у него не было свободного времени, что английский язык был еще слаб, Андраш все равно решил сделать доклад на научно-технической конференции, которую спонсировал Американский институт химических инженеров. Невероятно, практически невозможно (у него же не было никаких преимуществ), но работа Андраша оказалась лучшей. Он был не менее удивлен, чем все остальные: «Будучи студентом, это был первый раз, когда я в чем-нибудь победил».
«Иммиграция – это процесс трансформации», – пишет Андраш в своих мемуарах. Оставалось уладить последнее: его имя.
Практически с момента прибытия в Штаты фамилия Андраша оказалась бременем для него. Профессоры запинались над одной «ф» в конце и над «о» со знаком ударения. «В Венгрии «Гроф» произносится с долгой «о»; здесь же все произносили так, как оно пишется: «Графф»». Когда Андраш поделился проблемой с дядей и тетей, они сказали ему: «Это Америка, просто измени его».
Он так и сделал. Андраш начал присматриваться к разным американским фамилиям. И наконец остановился на «Гроув», так как это было наиболее близким к венгерскому оригиналу. Касательно имени его устраивало «Энди», как его и называли друзья. Позднее он официально изменил его на «Эндрю». А второе имя он выбрал «Стивен» – прямой перевод венгерского «Иштван». Теперь он стал Эндрю С. Гроув.
Кстати, одной из причин пронесенного через всю оставшуюся жизнь расположения Эндрю по отношению к Городскому университету Нью-Йорка был и такой момент. Когда, сменив имя, он пришел в кабинет регистратора, чтобы сказать об этом, реакцией было простое «О’кей». Клерк даже не стал ничего добавлять в запись об Андраше, а просто взял ручку, зачеркнул старое имя и вписал новое. Сделано. Эндрю Стивен Гроув стал полноценным гражданином Америки в 1962 году.
Прошел Гроув и еще одну ступень в своем становлении американцем. Летом 1957 года, его первым летом в Америке, Эндрю искал работу. Он заметил объявление от фирмы Maplewood, курортной гостиницы в Нью-Хэмпшире, искавшей помощников официанта. Maplewood, массивное здание в викторианском стиле, обслуживавшее еврейские семьи уже на протяжении почти века, искала, вероятнее всего, еврейских старшеклассников из Бруклина или Хобокена, но уж точно не из Будапешта. Началось собеседование неловко, но, благодаря личностным качествам, Энди получил эту работу.
Такой опыт, наверное, дезориентировал бы человека, только втягивающегося в жизнь большого города и вдруг оказавшегося на курорте в Нью-Хэмпшире, но Энди просто пошел напролом через это все. Он быстро нашел свое место – еще до того как старые работники обратили на это внимание. Уже спустя несколько дней после устройства на работу, 10 июня, он стал встречаться с девушкой. Она была не из самых хорошеньких, но это многое сказало о нем окружающим.
Прошло еще несколько дней – и он повстречал девушку, гораздо больше подходившую его личности и, скажем уж как есть, истории. Ее звали Ева Кастан. Она была на год старше Энди, а родилась она в Вене. Ее семья сумела спастись от нацистов, когда ей было всего три, переехав а Боливию, а затем, когда ей было восемнадцать, в Куинс. У нее, правда, был молодой человек, но Эндрю это не остановило: они поженились через год после первой встречи.
Пара поженилась в римской католической церкви в районе Куинс. Один из друзей Евы предложил так сделать. Энди позднее прокомментировал странный выбор места проведения свадьбы: «Мне было глубоко наплевать».
Новобрачные согласились, что им обоим не очень нравился Нью-Йорк («холодный, мокрый, уродливый город», – описывал Энди). По совету одного из профессоров Энди, они решили провести медовый месяц в Калифорнии. И – влюбились в это место. Энди был особенно впечатлен Университетом Беркли и прилегающим районом (удивительно, но Стэнфорд ему не понравился). Они решили обязательно сюда вернуться; Энди надеялся получить работу на нефтеперерабатывающем заводе в Ист-Бэй, а Ева планировала устроиться в местную психиатрическую больницу (она заканчивала магистратуру по общественной работе в Колумбийском университете). На Манхэттен они возвращались, только чтобы закончить образование.
Было три профессора, сыгравших в судьбе Гроува решающую роль в ходе его обучения в Нью-Йоркском университете: Моррис Колодни, научный руководитель Энди на первом курсе и тот, кто посоветовал ему Калифорнию; Алоис К. Шмидт, курсы химии которого приводили в ужас целое поколение начинающих химиков; и Харви Лист, чей курс гидродинамики сильно интересовал Энди и был причиной, по которой он рассматривал карьеру в области нефтепереработки.
Из этих троих самое большое влияние на личность Энди и его мировоззрение оказал Шмидт. Оглядываясь назад, Гроув говорил, что Шмидт научил его «стойкости» и «обладал бесцеремонным, не признающим глупости характером, который я без труда перенял. Вежливые люди критиковали такое поведение, но Шмидт его практиковал. Я подумал, что раз он может, то и я могу». Он также сказал: «Гарри отправлял меня в гидродинамику, когда Шмидт превращал меня в засранца». Многие сотрудники Intel и конкуренты говорят, что он слишком хорошо освоил последнее.
После выпускного экзамена, летом 1960 года, молодая пара собрала чемоданы и уехала на запад. Энди был принят в аспирантуру в Беркли, и, помимо того, его ждала работа на лето в Химической компании Штауффера, расположенной в нескольких километрах от студенческого городка. Место работы оказалось ужасным – по словам Энди, «жалкое» и «запущенное» место, а сама работа – скучная и бессмысленная. Еще хуже было отношение работников. «Один случай мне запомнился и сильно повлиял на меня как на будущего менеджера. Люди работали по субботам… И я обнаружил, что они сидят и сплетничают, посматривая в окно, чтобы увидеть, когда последний из начальников уедет. Через несколько минут после того, как последний из них уезжал, офис становился пустым. Все сваливали».[218]
Такое описание работы в Intel не получилось бы ни у кого, уж Энди сделал для этого все.
Занятия начались осенью того года, и Энди, блестяще окончив университет в Нью-Йорке, с ужасом обнаружил, что он снова не справляется с нагрузкой, что он – на грани вылета из аспирантуры. Ситуация аховая: он пытается понять, что говорит преподаватель, а все остальные студенты спокойно записывают за ним, будто материал совершенно прост.
Потом, когда отчаяние приближалось к пику, произошла неожиданная вещь. Как он ни пытался, Энди понял, что не видит логики в том, что написано на доске. Он поднял руку и задал вопрос. Профессор остановился, посмотрел на то, что написал, и обнаружил ошибку. Он вернулся и исправил ее. И Энди наблюдал за тем, как остальные студенты исправили ошибку в своих записях в той же манере.
Для Гроува это стало прозрением, «потому что я обнаружил, что эти жабы не умнее меня. Им просто не хватало смелости высказаться. Да и к черту их».
Такое понимание позволило Энди стать лучшим студентом в Беркли, каким он был в Нью-Йорке до этого. Но это имело и обратную сторону – интеллектуальную надменность Эндрю Гроува. Практически невозможно представить, чтобы Боб Нойс или Гордон Мур с презрением называли своих старательных и напуганных одногруппников «жабами». Как многие замечали в Энди Гроуве, бизнес-титане, он не умел хвалить людей в привычной нам манере; хвала и почести обязательно сопровождались какой-нибудь оценкой.
Хоть и трудно представить Энди Гроува, который кому-то подчиняется, снова, теперь в Беркли, он нашел наставника. На этот раз им стал его научный руководитель Энди Акривос. Это был не только почетный академик, но и единственный профессор в Калифорнии, который мог чему-то научить Гроува в области гидродинамики. Двое мужчин стали близкими друзьями. Именно Акривос придумал специальный учебный план для Гроува, чтобы у того постоянно было стремление идти выше.
Когда настало время сдавать тезисы, Гроув выбрал не такую тему диссертации, которая бы обеспечила ему стопроцентную сдачу. Он решил затронуть самый сложный вопрос в гидродинамике, который являлся парадоксом в данной области уже более столетия. Другой аспирант в этом университете работал над этой проблемой в течение пяти лет и… сдался.
Энди бесстрашно взялся за этот парадокс, отбрасывая все эксперименты, который ставились до него и определяя их как «любительские». «Мне нравится ставить эксперименты, – писал он позднее. – Мне не нравится поверхностное изучение. Разница большая… Я бросил вызов всем убеждениям, которые лежали в основе моей темы… и предложил решение типа гордиева узла, которое противоречило классическим убеждениям. Я имел мужество понять… что эксперимент подразумевал. У меня был научный руководитель (Акривос), который, после приложения достаточного количества усилий, поверил моим данным».[219]
Диссертация Гроува послужила основой для создания четырех важных научных работ, которые он написал вместе с Акривосом, две из них были опубликованы в главном журнале в этой области. Гроув сказал в одном из интервью: «Это будет звучать ужасно, но тезисы – просто великолепны».
В перерыве между получением степени и определением с выбором карьеры Энди преподавал на кафедре химической инженерии в своем университете. К тому моменту учебное заведение (за четыре года его обучения) сильно изменилось. И ему вскоре стало трудно преподавать, когда в университетском городке зарождалось «движение свободы слова». Однажды Энди пытался пробраться к своему кабинету сквозь толпу, когда там проводилась «одна огромная студенческая забастовка».
Идя по территории университетского городка, Гроув все больше и больше бесился. Он думал о том, что если «эти сволочи не появятся», то он даст им внеплановый тест, – он даже придумывал вопросы по дороге и представлял, как поставит всем нули. «Я шел по пустому кампусу и нигде не видел студентов, что меня приводило в бешенство. Я вошел в здание, где находился мой кабинет, и настежь раскрыл дверь в гневе, а там – сидел весь мой класс, спокойно сидел на своих местах, ожидая меня».[220]
Студенты оказались в кабинете из чувства уважения к Гроуву? Из-за страха? Здесь можно увидеть часть юмористической стороны Энди – ту его часть, которая не получает достаточного внимания: он пришел к выводу, что класс появился потому, что «инженеры всегда на своей волне. Они думали о своем обучении и говорили: “К черту все остальное”».
Несмотря на признание, которым он наслаждался в академическом мире, Энди решил, что этот мир не мог ему предоставить ни перспектив развития, ни той власти, к которым он стремился. Не менее важным был тот факт, что жизнь профессора не обеспечила бы его такими доходами, которые позволили бы ему хорошо жить в районе Бэй-Эриа, завести семью и, в первую очередь, вывезти родителей из Венгрии. Поэтому он начал искать работу, связанную с коммерцией. Как он обнаружил на летних подработках, работа в области гидродинамики была удивительно неинтересной. И когда коллега посоветовал ему заняться физикой твердых тел, Энди моментально переключился на эту область.
Хоть это и кажется малообещающей сменой научных областей, в реальности – часто забытой даже учеными из сферы Кремниевой долины – полупроводники больше относятся к химии, принимая во внимание процесс создания весьма сложных приборов из элементарных материалов. Все остальное – электроника, компоновка, написание кодов и программирование – идет после. Помимо того, Энди не считал такое переключение на другую область пугающим. Более того, он считал, что его диссертация относилась к прикладной физике не меньше, чем к химии.
К сожалению, не все фирмы, в которые он пытался устроиться, принимали его, и в тех, которые соглашались провести собеседование, мешал его агрессивный характер. «Мое образование не подходило. Кроме того, мой характер либо нравится людям, либо нет, поэтому он тоже не играл мне на руку».
В конечном счете он наметил пять компаний. Компания Texas Instruments отказала. Отказала и компания General Electric. Годами позже он все еще был удивлен, что они ему отказали. Lockheed как будто бы заинтересовался им, но Энди не был уверен, что готов посвятить себя работе с ограничениями в компании, занимающейся оборонной промышленностью.
Так и остались две компании: Fairchild Semiconductor и Bell Labs. Его первая встреча с Fairchild прошла не лучшим образом. Можно сказать, что они с кадровиком практически возненавидели друг друга. Bell Labs еще являлась самой привлекательной научно-исследовательской лабораторией на планете. И эта лаборатория пошла сама навстречу Энди, призывая его присоединиться к ним: сотрудники отдела кадров даже приехали в лабораторию Энди в университете, предлагая ему огромные деньги и право выбора любой темы, которую он хотел.
Но Bell Labs находилась в Морристауне, штат Нью-Джерси, а Энди с Евой не были намерены возвращаться в пригород Нью-Йорка. Тем не менее казалось, что Bell Labs оставалась единственным выбором… пока Fairchild не изменил решение и не прислал другого человека из кадрового отдела в Беркли, чтобы уговорить Энди: это был Гордон Мур.
Так случилась первая встреча двух важнейших фигур в бизнесе двадцатого столетия. Молодой Эндрю Гроув, PhD, надменный, жесткий, презирающий человеческие слабости. Он был готов разорвать на части этого посланника из компании, которая ему отказала… Но – обаяние Мура! Гроув моментально увидел в спокойном гении с хорошим чувством юмора последнего великого наставника в своей жизни. Энди было двадцать шесть, Гордону – тридцать четыре. Гроув пишет: «Гордон Мур спросил меня о моей научной работе по собственному желанию, выслушал и понял ее!.. Он был действительно умным человеком – очень представительный, без высокомерия. Гордон помог мне увидеть того, кем я хотел стать».[221]
Спустя всего несколько часов после прибытия в Fairchild Энди понял, что сделал правильный выбор. Вот как он описал первую неделю на новой работе: «Когда я пришел в офис в понедельник утром, мой руководитель, который был инженером в области электрики, дал мне задачу… Она не была слишком сложной, но… она требовала того, чтобы я взял физическое уравнение, разбил его на дифференциальные уравнения, решил эти уравнения, начертил несколько кривых и пришел к определенному коэффициенту».[222]
Так сложилось, что во время обучения Гроува в аспирантуре Акривос посылал его на дополнительные курсы по высшей математике, поэтому формулирование и решение дифференциальных уравнений, которые бы испортили все другому начинающему инженеру, не составили труда для Энди. «Никогда не знаешь, насколько все удачно может сложиться», – отозвался Эндрю о тех первых днях работы.
В последующие месяцы Гроув и Мур установили великолепные рабочие отношения, возводя работу компании Fairchild на более современный уровень в области технологий и производства. Они были отличной командой. Как и отец-шериф, Мур был крупным мужчиной, от которого веяло почти сверхъестественным спокойствием и тишиной; казалось, он говорил все необходимое с помощью всего нескольких слов, и эти слова всегда были четкими и даже мудрыми. Хоть он и был спокойным и добродушным, «дядя Гордон», как ласково называл его Энди, был человеком крайне прямолинейным. Как и отец, чрезвычайно бесстрашный, когда защищал закон, Гордон был таким же упорным и жестким, когда дело касалось научных фактов.
Но Гордон никогда не был менеджером. Как Гроув говорил: «Гордон был и остается лидером в технической области. Либо он не способен, либо просто не хочет делать то, что должен делать менеджер». Попроси его разрешить технический вопрос, и у Мура моментально будет ответ – практически всегда правильный. «Но вмешается ли он в конфликт между X, Y и Z? Никогда в жизни!»
Иногда Гордон даже и не пытался защитить собственную точку зрения. Энди – который отстаивал свое, даже когда этого не требовалось, – находил это поразительным. В результате Гроув часто вел переговоры и встречи в Fairchild (и позднее в Intel), даже когда ответственным официально был Гордон. Гроув говорил: «Я мог вести встречу, и люди без умолку высказывались и спорили… Смотрю на Гордона: что-то не так. И я кричал: «Тихо! Гордон, что тебя волнует?.. Тишина! Гордон, что такое?.. Заткнитесь! Гордон, скажи нам, что у тебя на уме?..» Кому-то нужно было прервать поток, чтобы открыть доступ к мыслям Гордона».
Мур, казалось, понимал и ценил то, что Энди делал. Даже однажды сказал ему: «Ты знаешь меня лучше моей жены». Тогда как другие терпеть не могли работать с Энди из-за его агрессивного характера и откровенных амбиций, Гордон, уникальный среди лидеров своей области по отсутствию эго и амбиций, никак не воспринимал дух соперничества Энди. Он уважал Гроува за то, что тот был выдающимся ученым, который привык доводить дело до конца.
Гордону требовалась такая поддержка, потому что он не только не вел переговоры, но и не мог установить дисциплину в лаборатории – сначала в компании Fairchild, затем и в Intel. Гроув позднее описывал научно-исследовательский отдел под управлением Мура и сам Fairchild под руководством Нойса так: «Не было абсолютно никакой дисциплины. Отсутствовала внутренняя дисциплина в самой компании, и не было внешней дисциплины или ожиданий, которые бы налагались на лабораторию и… на отдел по производству, который бы поддерживал лабораторию».
Как уже было отмечено, когда этот хаос в лаборатории, над которой Гроув имел только условную власть, начал отражаться на благосостоянии компании Fairchild, никто не собирался в этом обвинять Гордона Мура, чья репутация практически равнялась репутации Нойса. Вся ответственность лежала на его более активном исполнительном директоре, Энди Гроуве.
Энди мог жить с этим. Гордон был его наставником, другом и человеком, которого он, можно сказать, уважал больше всех на свете. Он бы принял на себя пулю за доктора Мура.
Но с Бобом Нойсом была отдельная история. Энди Гроув никогда не признавал в нем лидера – ни в Fairchild, ни в Intel. Однако его возражения против недостаточно серьезного подхода Нойса, его боязни конфронтации, его ярко выраженного желания быть признанным где-то внутри противоречили его представлениям о фигуре лидера. Он даже был бы не против, если бы этими же чертами характера обладал Гордон Мур. Правда, все это было в нем глубоко упрятано.
Впрочем, некоторая часть этого, несомненно, лежала в голове у Энди: у Мура была более сильно развита моральная сторона, чтобы требовать такого уровня преданности и поддержки. Но это была лишь малая часть. Роберт Нойс – один из аристократов от природы; он делал все так, что это казалось легким, не требующим усилий. Любимец женщин, предмет зависти большинства мужчин, привлекательный, стройный, успешный во всем, харизматичный, прирожденный лидер и, наконец, все более богатый – Нойс мог позволить себе жить непринужденно и игриво. К моменту, когда Энди повстречал его, Нойс уже был живой легендой.
Практически каждый пункт в Нойсе раздражал Гроува. Несомненно, зависть присутствовала: когда Энди только пришел, Нойс уже был знаменит тем, что изобрел интегральную микросхему и основал саму компанию Fairchild. В то время как Энди только пытался показать миру свой талант. Более того, этот беженец от Сталина и Гитлера, переживший и Холокост, и жизнь за «железным занавесом», знал, насколько жестокой жизнь может быть, как быстро радостные моменты могут смениться трагедией. Он знал о необходимости всегда оглядываться, потому что только параноики выживают. Боб Нойс никогда не оглядывался. А зачем ему? Все, что он видел, было блестящей дорогой вперед. Бобу нравилось ходить по тонкому льду; Энди же видел, как этот лед потихоньку трескается под его ногами.
Но самое главное, что приводило Энди в бешенство, было то, что он находился во власти Роберта Нойса. Он мог справиться с Гордоном, но Боб, по темпераменту и своей позиции, никогда никому не подчинялся. Именно поэтому Энди замешкался идти в Intel вслед за Гордоном, что он без раздумий сделал бы в другой ситуации. Проработав с Нойсом шесть лет, он теперь подписывался на очередное путешествие неизвестной длительности. Его единственной надеждой было то, что Нойс провалится и оставит компанию ему с Гордоном – и, если бы это случилось, он был уверен, что он бы справился с Гордоном и привел Intel к успеху.
Однако вопреки всему, что толпилось в голове Энди, несмотря на то (или, как некоторые говорят, «по причине»), что Энди рассматривал как цепочку чрезвычайно рискованных, резких, плохо обдуманных решений, принятых Нойсом, так вот, несмотря на все это – Intel не только выжил, но и стал одной из самых волнующих и успешных компаний в мире. Более того, компания обнаружила, что успех сосредоточен не в основной области создания микросхем, но в другой программе, находящейся в разработке, – микропроцессоры (Энди пытался эту программу остановить). Конечно, Intel сильно пострадал от сокращений, как и другие компании, производящие полупроводниковое оборудование, и Нойс наконец-то отказался от своей должности. Но это был Нойс, который снова пытался выйти сухим из воды, опять вовремя уходя, чтобы избежать ответственности, и… снова перекладывая ответственность на Энди.
В беседе с Арнольдом Тэкрейем и Дэвидом Броком из Фонда химического наследия в 2004 году Гроув открыто признал, что с жадностью читал работы по менеджменту, потому что, принимая во внимание его работу, это было то образование, которого ему не хватало. Из всех книг, которые он прочел за все те годы, он назвал самой любимой маленькую книжку, написанную заведующим кафедры теории менеджмента Питером Дракером в 1954 году, она называлась «Практика менеджмента». Дракер формулирует требования к человеку, желающему стать идеальным генеральным директором компании. По его мнению, такой человек должен иметь три стороны характера, или, как видит это Энди, применяя этот принцип к Intel, – представлять собой три человека: «человек внешний, человек мысли и человек действия». Для Энди, который разослал копии данной главы своим двум партнерам, Боб Нойс был «господин внешний», Гордон Мур был «господин мысль», а сам Энди – «господин действие».
Нет никаких записей о том, как восприняли это остальные двое, может быть, так: Ну вот, снова Энди за свое. Но немало мудрости присутствует в анализе Дракера. Не зря ведь Гроув применил эту модель к трио в Intel. Заметьте, книга, которую вы читаете сейчас, называется «Троица Intel», и это, конечно же, вызывает параллели между Нойсом, Гроувом и Муром с Отцом, Сыном и Святым Духом. Но название это вместе с тем подчеркивает, что каким-то образом эти совершенно разные люди, двое из которых временами совсем не ладили между собой, сошлись вместе в одном из самых крепких и успешных партнерских союзов всех времен.
Тот факт, что, несмотря на все разногласия, они это сделали, еще и еще раз свидетельствует: природа деловых команд намного запутаннее, намного более противоречит здравому смыслу, чем мы привыкли себе представлять. Легко предположить, что великие партнерские отношения всегда состоят из двух-трех природно-совместимых людей. Или, если взять шире, можно допустить, что в редких случаях противоположности притягиваются.
Конечно, Кремниевая долина жила и менялась под влиянием партнерского союза, состоящего из Билла Хьюлетта и Дэйва Паккарда, двоих мужчин, которых связывало профессиональное партнерство и личная дружба, настолько сильная – казалось, они ни разу не поругались за семьдесят лет, – что она казалась нечеловеческой. По сравнению с этой парой тройка Нойс—Гроув—Мур была не менее успешной (Intel в один момент имел успех на рынке больше, чем HP), но тем не менее время от времени хотя бы один член команды презирал другого, и раздражение разлеталось во все стороны. Такие команды входят в совершенно другую область, ту, которая требует более пристального изучения. Intel-овская троица работала лучше, чем любой традиционно совместимый союз в истории компаний высоких технологий.
Не то чтобы это было легко – особенно для Энди Гроува. Нойс и Мур уже имели свою долю славы и признания. Энди все еще карабкался вверх, чтобы дотянуть до их уровня (в душе зная, что он как минимум им равен). Двое основателей могли сбросить ему веревку, как они делали в 70-х годах, а потом решить, что он еще не готов, и – вырвать ее из его рук. И эта безысходность сводила Энди с ума. Однажды Реджис Маккенна пришел в офис Энди и застал того сидящим посреди комнаты – разозленного, держащего в руках копию недавнего выпуска журнала Fortune. Реджис знал, что на обложке номера изображены Боб Нойс и Гордон Мур, но – нет Энди Гроува.
«С меня хватит! Я ухожу! – крикнул Гроув, бросая в ярости журнал на пол. – Я устал делать этих двоих знаменитыми!»[223]
Правда, хоть Энди и грозился неоднократно уйти, он знал, что никуда не денется. Intel был лучшей организацией в американском бизнесе. И если он не был лидером этой компании, он все-таки руководил ею. И, наконец, как Энди сам признал, его персону люди либо любили, либо ненавидели. Где еще он мог найти возможность самореализации и таких понимающих партнеров, какие у него были в тот момент?
«Нет», – с трудом принимая это, Энди решил вновь остаться в Intel и ждать своего момента.
Как ни странно это звучит, однако в самом деле выше всего влияния и инновационных достижений корпорации Intel единственным – самым важным – фактором успеха компании являлось то, чего они больше всего стыдились: два основателя не ладили, Энди Гроув недолюбливал Боба Нойса. Работникам корпорации это напоминало постоянную борьбу между отцом и старшим братом; то, что обычно не хотят выносить за границы семьи.
PR-отдел корпорации Intel поддерживал антипатию Энди к Бобу в течение всех лет, которые Нойс работал в компании, – и даже более, до самой его смерти. Потом, благодаря постоянным комментариям Гроува и других, об этом сплетничали еще на протяжении примерно десятилетия, пока биографии, написанные Берлин и Тедлоу, не раскрыли всей правды. Позднее даже Гроув начал свободно высказывать свое мнение о легендарном предшественнике.
Именно поэтому можно полагать безо всяких сомнений, что такое презрение существовало на самом деле. Однако было ведь и что-то показное в такой длительной вражде, по крайней мере – со стороны Гроува. Нойс, казалось, даже не осознавал никакого напряжения в общении с «первым работником» Intel. Действительно, озвучивание данной проблемы, постоянное напоминание о том, что у компании на самом деле было два основателя, а не три, всегда приходили со стороны не подверженного сомнениям Гордона Мура.
Гордон относился к Нойсу с огромным уважением и почтением, о степени этого чувства красноречиво говорит то, что спустя годы после смерти Нойса Мур едва мог говорить о нем без слез. Если Гроув боготворил Мура настолько, насколько он заявлял об этом, почему же он не доверял его мнению о Нойсе?
Отчасти это указывает на гордыню и своенравность Гроува. В конце концов, если все в мире бизнеса в области создания микросхем уважали и восхищались Святым Бобом, можно представить, насколько сильно отличался от других единственный человек, являющийся достаточно проницательным, чтобы разглядеть всю грязь и притворство, которые окружали великого человека. Более того, Гроув, несомненно, был раздражен тем, что ему приходилось подчиняться (из года в год, в разных компаниях) человеку, которого он считал неполноценным бизнесменом, менеджером и, возможно, даже ученым. И, конечно, не исправляло положение и то, что Нойс присоединился к руководителям Hewelett Packard на пантеоне богов Кремниевой долины, что его постоянно вызывали в Вашингтон в качестве голоса индустрии и что ходили разговоры вокруг того, что Нойс и Килби вскоре разделят Нобелевскую премию по физике. Такого рода зависть, раз установленная, не испаряется, как только объект зависти покидает этот мир. Не испаряется даже тогда, когда Таймс называет завистника Человеком года и делает его лицом обложки.
Не стоит забывать и о том, что именно Нойс обеспечил Энди работой, управлением компанией, наставил его на путь к богатству. Интересные размышления о странном отношении к Нойсу были получены от биографа Гроува, Ричарда Тедлоу. Он также был в недоумении от поведения Энди.
Ответ Тедлоу может удивить тех, кто знает Энди Гроува только в качестве иконы бизнеса. Однако это описание кажется достаточно точным для тех, кто был знаком и с Гроувом, и с Нойсом или кто следил за изменениями в отношении Гроува к Нойсу на протяжении долгой карьеры последнего. Дело, по их мнению, было в том, что Гроув ненавидел те черты в Нойсе, которые он замечал и терпеть не мог сам в себе.
Такие совпадения в чертах характера были практически незаметны в более ранние периоды в Fairchild и в начале работы в Intel. Нойс, казалось, наслаждался тем, что он был крупным деятелем; он жил быстро и играл жестко; он вдохновлял толпы людей; он был грубоватым, скромным и обладал чувством юмора; и он не боялся постоянно рисковать, нескончаемо генерируя новые идеи и проекты. Молодой Гроув, для сравнения, был серьезным до невозможности, бескомпромиссным и непреклонным. Он был одержим рационалистичным подходом к решению задач и точностью. И, самое главное, этот беженец от мрака тоталитаризма глубоко ненавидел всех, кто выбирал несерьезный и совершено простой подход к использованию колоссальной возможности, обеспечивающей успех во всех своих проявлениях в свободном обществе.
Именно этот кажущийся недостаток серьезности в Бобе Нойсе, по всей видимости, больше всего раздражал Гроува. Начинающие журналисты и историки Кремниевой долины, даже если и знали об этой односторонней вражде, в большинстве случаев воспринимали ее в качестве примера надменности и наличия сильно развитого духа соперничества у Гроува – мол, он на самом деле считал себя более умным и компетентным, чем великий Нойс, и хотел заменить его.
В реальности все было куда более запутанно. К примеру, Гроув с самого начала определил Нойса как «очень умного парня» и даже добавил, что «Нойс был полон идей, некоторые из которых гениальны; большинство из них бесполезны».[224] Сомнительный, конечно, комплимент, но Энди никогда не называл союзников и коллег «гениальными». Эти слова описывают отношение Гроува к Нойсу в те дни: Нойс, несмотря на все свои положительные качества и способности, не относился к жизни достаточно серьезно, он воспринимал свою карьеру как игру, и для него важнее было признание, нежели успех в работе. А самое ужасное – он мог смириться с неудачей (сначала в Fairchild, затем в Intel), вместо того чтобы изменить свой подход к жизни.
В таком жестком суждении содержались элементы истины, но это одновременно было нечестно и неправильно по отношению к Нойсу. Самым великим даром Боба Нойса, стоящим даже выше его таланта провидения в области техники, была его способность вдохновлять людей верить в его мечты, в его силы и следовать за ним – навстречу приключениям в профессиональной жизни. Это требовало уверенности в себе, игривости и готовности налаживать отношения. Такой тип харизматичного лидерства был естественным для Нойса. (Что характерно, Дэвид Паккард с самого начала увидел в Нойсе родственную душу; Стив Джобс, как мы увидим, даже пытался им стать.) Если Нойс и был недисциплинированным и даже нерациональным в области управления компанией, то присутствовало это только потому, что играло ему на руку.
Гордон Мур это видел, и именно за это он любил Нойса. Однако Нойс уже к тому моменту сделал Мура богатым и успешным, а также прославил его, поэтому в то время как оба основателя желали, чтобы Intel был успешным, ни один из них не думал и не боялся краха компании. Мур говорил: «Я не особо об этом задумывался… Смена работы в нашей индустрии – достаточно распространенное явление, и я был уверен, что если это не сработает, то найду что-то другое. Поэтому я не считал, что сильно рисковал».[225]
Однако Энди, на тот момент малоизвестный, каждый день на протяжении тех нескольких лет провел в боязни неудачи и одержимости в получении достаточного количества власти в компании, чтобы неудачу предотвратить.
В Fairchild Гроув находился гораздо дальше на карьерной лестнице от Нойса, в отличие от Intel, где он, можно сказать, стал членом команды управляющих, младшим представителем лидерской тройки корпорации. Он редко работал с Нойсом в то время – и то, что он видел, совсем не впечатляло его. Интересно, что Чарли Спорк, который по характеру был даже жестче Энди и в Fairchild был почти так же близок с Нойсом, как Энди в Intel, уважал Нойса и его решения.
Энди Гроув никогда не уважал. Вместо этого он настаивал и подталкивал, жаловался, боролся за власть – и сделал Intel более совершенным. И за все это время он проявил неслыханное терпение. Энди ждал, зная, что когда-нибудь настанет его время.
И теперь, в начале 80-х годов, когда Нойс наконец ушел, это время пришло.
Глава 34. Подпись автора
И еще немного о характере Энди Гроува, прежде чем мы вернемся к Intel начала 1980-х годов и его вступлению в должность главы компании. В те времена часто отмечалась (иногда даже к ужасу акционеров и аналитиков, считающих, что ему стоило сконцентрироваться целиком на лидерстве в Intel) удивительная способность Энди одновременно не только управлять гигантской компанией на суровом рынке, но и находить время для того, чтобы – в разгар схватки – писать книги. И даже если ему и помогали в работе над некоторыми книгами, они все равно несли в себе тяжелый отпечаток стиля и характера, присущих Гроуву. Эти книги, помимо того, что они вполне достойного качества, являются также напоминанием о глубине амбиций Энди, о его стремлении достичь каким-либо образом бессмертия.
Такая «побочная» карьера писателя началась в 1967 году, когда Энди еще работал в Fairchild и был крайне возмущен главой компании. Он подумывал об увольнении, но вместе этого выплеснул всю злость и негативную энергию в книгу под названием «Физика и технология полупроводниковых приборов», которая стала учебником для университетов. В широких кругах не очень известно, что эта книга стала чем-то вроде классики, стала основной настольной книгой для нескольких поколений студентов-инженеров. Она и сейчас является одним из основных справочников в этой области. Гордон Мур не написал книги; не написал книги и Боб Нойс. И для Энди это был способ отличиться от остальных, некий пьедестал, на котором он возвышался над двумя другими. В последующие годы «Физика и технология полупроводниковых приборов» стала притягивать кандидатов на работу в Intel. Начинающие инженеры хотели работать на человека, который написал основную работу в этой области, – что сближало личные амбиции Гроува с теми, которые у него были относительно самой компании.
В 1983 году Энди выпустил книгу под названием «Высокоэффективный менеджмент», снова поражая людей вокруг него, так как ответственность на нем в те годы была огромная – в связи с рецессией в индустрии и восстановлением компании на рынке. И эта книга считается одной из лучших по менеджменту в индустрии высоких технологий и является практически библией для студентов бизнес-школ. В ней читатели видят Энди Гроува, который упрям, но погружен в размышления (и, к удивлению всех его коллег, даже очаровательный и скромный).
Несколько лет спустя, чтобы закрепить успех «Высокоэффективного менеджмента», Энди сделал шаг, который тогда казался странным, а сегодня вызывает недоумение: он подписал контракт с газетой San Jose Mercury-News, обязуясь вести колонку советов в области бизнеса. Эта колонка выпускалась в газете под названием «Один на один с Энди Гроувом: как поладить с начальником, собой и коллегами» (1988). Читатели газеты, которые когда-либо работали с Энди, находили его более снисходительным в качестве писателя, нежели в качестве начальника Intel. Однако многие также отметили, что его советы действительно хороши. Тем не менее именно в этот период, когда одна корреспондентка зашла слишком далеко в отношении готовящихся к выходу продуктов Intel, Энд сказал ей: «Если б вы были мужчиной, я бы переломал вам ноги». Он шутил, но с Энди Гроув никто не мог знать наверняка, где были границы его шуток.
Наконец, в 1966 году Гроув опубликовал «Выживают только параноики», чей заголовок не только отличным образом вкратце излагал бизнес-философию Энди, но и (возможно, непреднамеренно) – всю жизнь человека, выжившего в двух жесточайших «империях» в истории, благодаря бесконечной бдительности матери и собственной молниеносной решительности ввиду опасности. Книга, от которой Стив Джобс и даже Питер Друкер были в восторге, содержала одну ключевую идею: идею о стратегически важной точке перегиба – того момента, когда некая комбинация технических инноваций, эволюции рынка и восприятия покупателей заставляет компанию резко менять свою политику или, в случае неспособности это сделать, прогореть.
Большинство компаний, по мнению Гроува в данной книге, подвержены второму варианту, так как не видят надвигающихся изменений и не способны их распознать, когда они уже наступают. Единственный способ пережить такой перегиб, как говорит Гроув, – быть постоянно начеку и обладать готовностью к быстрому принятию решений. Иными словами, быть параноиком.
«Выживают только параноики» стала бестселлером и, наряду с классикой Альфреда Слоуна «Мои годы в General Motors» считается одной из лучших книг по бизнес-менеджменту, когда-либо написанных главой крупной корпорации. В последующие годы понятие стратегически важной точки перегиба стало частью ключевой философии в области современного бизнеса.