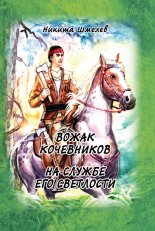Неизвестная «Черная книга» Альтман Илья
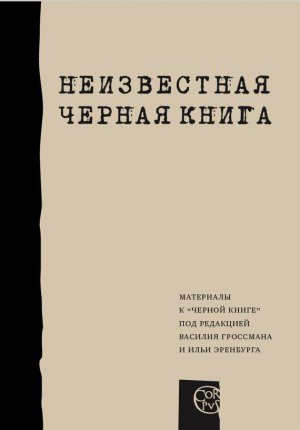
Рассказы Марии Яромлинской и Сарры Эпштейн
В небольшом литовском местечке Стоклишки[309] я встретил несколько еврейских женщин. Они шли, вздрагивая и озираясь на каждом шагу. Уже много дней это местечко находится в руках Красной Армии. Эти женщины своими глазами видели, как Красная Армия, сметая врага, освобождает их родную страну. Они видели, как бегут немцы, бросая по пути оружие, снаряжение, одежду, награбленное добро. И все же пережитые ими за три года ужасы оставили на их лицах такую глубокую печаль, что им не скоро удастся освободиться от нее.
Они видели, как коричневая чума уничтожала еврейские города и местечки. Эти женщины были свидетельницами расстрелов и массовых аутодафе, которые устраивали немцы в Каунасе. Вблизи форта номер девять есть место, которое евреи назвали «жертвенником» (мизбеах). Маша Яромлинская была свидетельницей, как на этом месте были сожжены живьем пять еврейских почтенных каунасских семейств. Она видела своими глазами, как вооруженные автоматами палачи конвоировали по улицам Каунасского гетто несколько сот еврейских детей. Среди них были трехлетние и четырехлетние крошки. Детей силой вырывали из рук родителей. Матери бросались спасать своих крошек, тогда немцы спускали с цепей собак, те набрасывались на женщин, впивались клыками в руки, норовили вгрызться им в горло… Матери с воплями отскакивали, а несчастных детей увозили на расстрел.
У Хаи Шустер из местечка Стоклишки немцы схватили больную мать. Пять лет она пролежала без движения в постели. Вся семья, выбиваясь из сил, старалась продлить жизнь матери, облегчить ее страдания. Лучше бы она умерла от болезни, не дожив до того дня, когда эти гнусные враги человечества появились в ее доме. Ее схватили с постели и потащили, как тащат овцу на бойню.
Хая Эфрон родила ребенка. На следующий день ее схватили вместе с новорожденным, бросили в телегу и увезли в Бутриманцы[310], местечко, где совершались массовые «акции» над евреями. Другая женщина, беременная Фейга Миллер, была схвачена палачами в день, когда она должна была рожать. Ее потащили к автомобилю. Она билась и стонала, соседи-литовцы видели, как страдает невинная женщина. Один осмелился сказать: «Что вы делаете, ведь она вот-вот должна родить». Тогда немцы схватили и этого литовца и увезли вместе с евреями на казнь.
Сарра Эпштейн рассказывает, что ее мать вместе с супругами-врачами Рабинович, не желая дожидаться расстрела, приняли яд и умерли своей смертью. Было еще много случаев самоубийств, но разве можно всех запомнить, всех перечислить.
Известны сотни случаев, когда литовские крестьяне прятали у себя евреев, бежавших из гетто. Та же самая семья Эпштейн – восемь человек – в течение трех лет пряталась у тридцати литовских крестьян в разных деревнях и на хуторах. Это были совершенно чужие люди, до войны не знавшие этой еврейской семьи. В селе Ромашишки их прятал литовец Вевиорас Антоневич, в селе Ваштатаны – Хмелевский и Гавиновский, в селе Яромлишки – Тарасевич и Милевич. Ксендз из села Высокий Двор прятал у себя виленских евреев. И до сих пор спасшиеся от гитлеровцев еврейские женщины, девушки, дети живут у литовских крестьян, как родные. Многих еврейских сирот литовцы усыновили и с двойной нежностью, принимая во внимание их трагедию, воспитывают их. Такие семьи я видел и в Троках, и в Кейданяй, и в Жижморах, и в Пренах, и в Евно, и в Стоклишках, и в самом Вильно и в Каунасе.
Немецкие зверства над евреями в Литве требуют тщательного расследования. Преступники должны кровью ответить за все. Об этом уже неплохо заботится Красная Армия, которая в момент, когда пишутся эти строки, вплотную подходит к германским границам.
Сейчас в Каунасе и Вильно наступила мирная жизнь. Возвращаются единичные семьи, чудом уцелевшие от фашистского террора. Советские организации уже начали раскопки в районе ковенских фортов, где совершались массовые «акции» над евреями. Уже найдены и вскоре будут преданы гласности новые потрясающие доказательства нечеловеческих пыток и мучений, которым подвергались ни в чем не повинные еврейские люди в этих городах.
[1944]Записал майор З. Г. Островский[311]
Местечко Стоклишки
Воспоминания Раши Шустера
22 июня 1941 года в наш маленький городок Стоклишки проникла печальная весть, что варварский убийца, позорящий наш народ, со своей фашистской бандой хулиганов ворвался на литовскую территорию. Как громом поразила эта печальная весть и проникла в каждое еврейское сердце от мала до велика. Чувствовал и знал каждый еврей, что Гитлер – злодей для нас. Но как-то не хотелось верить, что пришел конец нашей молодой, невинной жизни. Мы это сразу почувствовали. Наше небо жизни сразу покрылось серыми тучами. За нами погналась дикая, фашистская литовская банда хулиганов. Злодей Гитлер развязал им их звериные лапы, и дикари сразу стали царапаться своими грязными когтями в наших чистых, невинных еврейских сердцах. Так долго рвали, мучили, царапали, пока наши сердца вырвали, чистую, невинную кровь разлили на всех полях и телами их посеяли. В наших местечках на каждой еврейской двери повесили записки, что здесь живут евреи, на руки надели желтые заплаты. Я же решил ни за что такие не надеть, хоть бы застрелили. Но вскоре приказали их содрать и взамен прикрепить еврейский знак (два треугольника) – один на груди, а другой на спине. Все коммунисты, пропагандисты обязаны были не позже шести часов являться. Если же кто опоздал, он тут же был расстрелян или уведен в тюрьму. Еврейские двери и окна должны были к восьми часам быть закрыты. У кого не было ставень, вынуждены были завесить черным, и раньше шести часов утра ни один еврей не смел появляться ни на улице, ни во дворе.
И чуть кто появлялся, сейчас же арестовывали. Стоит заметить один случай. Один девяностолетний старик пришел в синагогу молиться и, никого там не застав, присел на колоде дожидаться других молельщиков. К нему подошел литовский бандит, стал его избивать и гнать в тюрьму. Старый, больной, почти слепой еврей по имени Шмерл-Лейб, еле передвигая ноги, шел в тюрьму, сопровождаемый хулиганом. Такие аналогичные трагедии происходили ежедневно. По ночам специально открывали стрельбу, чтобы евреи выбегали и их можно было бы расстреливать. Мы каждую ночь бегали в склеп и носили нашу нервнобольную мать, болевшую пять лет, по имени Хая-Рива. Но это был лишь только страх. После они принялись за практическую работу. Спустя месяц после вторжения кровожадных зверей вывели из нашего маленького местечка сорок человек самых сильных мужчин и молодых девушек. Говорили им, что их ведут на работу, но это был только предлог, и через две недели опять велели явиться в полицию. И кто туда входил, редко выпускали. Варвары стояли в полиции с ружьями, точно перед ними худшие разбойники-злодеи. И еще взяли семьдесят человек и их вывели в другое местечко в двадцати восьми километрах от нашего, и там их расстреляли. Перед смертью им приказали написать письма о том, что они живы и работают. Но это только был обман, чтобы другие не пугались и не думали сопротивляться. Тихо, как овцы, спокойно и без сопротивления шли на резню, не зная, куда их ведут.
Нас была семья из десяти человек. У меня было три сестры: одна по имени Двойра, вторая Эстер, а третья замужняя по имени Люся, моложе меня. Также у меня было два брата – один по имени Айзик, женатый, и второй по имени Зейлик, мой старший брат. Были золовки, шурин и больная мать. Мой отец пропал без вести, куда – сам не знаю. Может быть, в Россию удрал. Никаких известий я от него не имел, может быть, он еще где-нибудь живет. Из нашего дома никого не выводили в эти два раза ввиду того, что будто бы вели на работу. У нас же был небольшой участок земли, и сами его обрабатывали, а потому они нас не могли брать. Но когда стали выводить второй раз, мы начали удирать из дому и скрываться на полях. Наша больная мать одна оставалась на кровати. Ночью мы прибегали к ней. Она лежала бледная, слабая и не верила, что видит нас, как и мы считали себя счастливыми, что еще можем прибегать к ней, за которую так страдали. Целовать ее бледные худые руки и заливаться душераздирающим тихим плачем. Плакать громко нельзя было – у каждого еврейского дома ночью стояла стража из местных бандитов. Вспоминаю, когда заходил в дом, то даже стен боялся. Там царила мертвая тишина. В каждом углу было темно, и мне казалось, что несчастнее меня не может быть. Но, к сожалению, я ошибся, это были мои счастливейшие дни из дальнейшей несчастной моей жизни, когда я вынужден был скрываться.
Три недели вся наша семья так собиралась, пока в один злосчастный день узнали, что назавтра, 9 августа, ведут всех оставшихся евреев. Мы все ночью удрали из дому под большим трагическим впечатлением оставить мать в последний раз. Я хотел остаться со своей больной матерью, но мать моя рыдала, что она умрет, как только я останусь. И мы удрали, а на второй день всех вывели в ближайшее местечко Бутрцымани[313] в двенадцати километрах от нас. Возле открытых ям поставили двенадцать тысяч евреев, их раздели. Кто не хотел раздеваться, сильно избивали, а детей живыми бросали в ямы[314]. Так уничтожили евреев в Литве, и везде так происходило, где варвары-немцы занимали. Я убежал вместе с моими двумя сестрами, а остальные отдельно. Сестры мои удрали к одному русскому, а я встретил одного знакомого, и он меня взял с собой. На следующий день ночью я пошел искать своих сестер. Иду я темной ночью, блуждаю один и вдруг слышу знакомый голос: «Рашка, это ты?» И я узнал голос моих несчастных сестер. Ходим мы вместе посреди поля в душераздирающем плаче, не зная, куда деваться. И мы уходим в ближайшую русскую холодно-грязную баню.
Там мы просидели три недели, и один крестьянин приносил нам еду. Звали его Яскутелис Винцас, который меня после взял к себе на месяц, и я лежал на чердаке. Сестры мои неделю подряд прятались у соседа в разбитом амбаре, терпя холод и голод. Это было в сентябре. Сосед этого не знал, и время от времени они приходили ко мне ночью, чтоб погреться. Так было до последней ночи. Под утро они зашли к крестьянину, и пока дочери их накормили, отец успел сбегать за полицией, и их там же расстреляли. Я при этом лежал на чердаке, слышал выстрелы, которые прострелили юные сердца моих сестер и полили поля их чистой, невинной кровью. Я лежу тихо, весь застыл, не чувствуя, живу или нет. Когда крестьянин поднимается и зовет меня, то кажется, будто я просыпаюсь. Он мне объявляет, что больше держать меня не может, и ночью меня отводит в деревню. Там тоже не принимают, и я вынужден вернуться обратно. Брат мой спрятан недалеко отсюда, и я иду к нему. Передаю ему печальную весть о сестрах и остаюсь с ним на неделю. После этого меня опять выгоняют, ухожу к другому крестьянину, где живу только день. Лежу я в амбаре, и вдруг зовут меня в дом. Сижу я у окна и слышу ужасный лай собаки, смотрю и вижу страшную картину: полицейский стоит во дворе с ружьем в руке, а у окна другой ходит. Не знаю, как вырваться от этих разбойников, и когда они уходят искать меня в амбар, выскакиваю из окна, на четвереньках перелезаю через дорогу и захожу в лес. Первый раз в лесу, выхожу на дорогу, но не знаю, куда идти. В лицо больно бьет холодный, осенний ветер и мелкий снежок. Я вспоминаю, что где-то возле леса жила одна знакомая русская женщина Маланья Грибой. Нахожу маленькую черногрязную хатку, стучу в окно, и меня впускают. Там я прожил два с половиной месяца и в январе узнал, что брат мой Айзик расстрелян. Здесь меня тоже выгоняют, ибо полиция опять будет искать евреев. Это было в январе 1942 года. Морозы в сорок градусов, высокие снега покрыли поля, деваться некуда, и я ухожу на еврейское кладбище. Лежу день, и на кладбище приходит полиция меня искать. Крестьяне меня видели, и я слышу, их спрашивают. Тогда я обернулся спиной и думаю, пусть стреляют, чтоб не видеть злодеев. Случайно они меня не нашли. На следующий день я опять ушел в лес, где прожил неделю зимою на снегу. Ясно, если крестьяне узнают обо мне, надо оттуда удирать. Ноги распухли, еле хожу, руки тоже страшно опухли, из всех пальцев появились как бы полосы из ледяных сосулек. Из леса опять ухожу на кладбище, лежу там два дня без хлеба и чувствую, не в силах больше терпеть голода и холода. Поднимаюсь ночью, жуткий мороз, даже собака не лает, а лежит в своей будке. А я одинокий, голодный, хожу один, не знаю, откуда ветер, и мороз ударяет в лицо, и я падаю. Возвращаюсь на кладбище и сажусь в уголочек, где вчера застрелили двух евреев. Я подкладываю […] и сажусь в еврейскую кровь, кровь, потому что там было заслонено от ветра. Я сижу третий день, а ночью хожу по полям, еле вытаскивая ноги из снега. Прихожу к крестьянину, он дает мне хлеба, но погреться не разрешает и гонит. Ухожу к соседней крестьянке, где остаюсь на день, а вечером является полиция, извещенная крестьянами. Я спрыгиваю с крыши и удираю в поле. Возвращаясь обратно к крестьянам, откуда полиция ушла, я нахожу там русского, который соглашается меня взять к себе на день. Ложусь в сани, он покрывает меня сеном и везет к себе.
По дороге он говорит мне, что у него жить я все равно не смогу. С трудом его упрашиваю, и он меня везет домой. Но страшно стало от всего, что я там увидел.
Разрушенный, задымленный домик, все внутри белое от снега, полуразрушенная печь без трубы и всюду очень грязно. Я залезаю на печь и немного согреваюсь. Остался у него и прожил два с половиной года. Бедный крестьянин по имени Яскутелис Юозас живет один, пахарь, сорока пяти лет. Он покупал хлеб и давал мне кушать. И когда я его спрашивал, почему он это делает и жертвует своей жизнью, ведь если бы полиция меня поймала у него, то нас бы вместе расстреляли, и он мне ответил, потому что ты невинен. Когда бывали немецкие комиссии, то он меня всюду водил, по чужим амбарам рыл ямы и меня прятал. Уводил меня в лес, где я находился по неделе и больше. Были случаи, когда немецкие шпионы говорили ему, что знают, что я у него, и я тогда вынужден был валяться всюду. Летом лежать под знойным солнцем и ногтями выкапывать землю, чтобы на себя класть. Лежал я по два-три дня без пищи. Я брал с собой хлеб и воду, которую сразу выпивал, а хлеба не мог после проглотить. Так я прожил у этого крестьянина два с половиной года. А 14 июля 1944 года пришла к нам Красная Армия и нас освободила.
Главное я забыл. Из Стоклишек остался я один[315]. Всех моих братьев и сестер расстреляли.
[1944]
Что происходило в Тельшяе со всем еврейским населением Жмуды
Рассказы местных жителей Неси Миселевич, Векслер и Яжгур
Неся Миселевич:
Когда вспыхнула война, я была в Таурогене[317]. Я бежала в Росейняй (Россиены). В Росейняй уже свирепствовали немцы и местные фашисты. Они арестовали мужчин и женщин, выгоняли на работы. Во время работы женщины подвергались всяким унижениям. Арестованных мужчин сначала высылали на принудительные работы в леса; там над ними издевались и их мучили.
15 июля [1941 года] я выехала из Росейняй в Плунге (Плунгяны). В Плунге уже не было евреев, их уже ликвидировали 7–9 июля[318]. Я поехала в местечко Лауково[319]. В Лауково я переночевала одну ночь. Утром наш дом был окружен белыми местными бандитами[320]. Они вошли в дом, якобы для обыска, а на самом деле грабили все то, что нашли ценным. После этого они всех евреев вогнали в синагогу, почти одних женщин и детей, ибо мужчины были уже неделю назад вывезены в Германию на принудительные работы (от некоторых – братьев Каганов, мельников из Лаукуво, и Смелянского из Смаленинкеш – мы в Шавлях получали письма из Германии, сначала из Лауксергенского лагеря, потом из лагерей Силезии за печатью Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, Berlin[321]. – Л. E.) Мне в синагоге рассказали, что немцы по ночам нападали на еврейских жителей и грабили все ценное. Мужчин они мучили. Раввина они били, обрили ему половину бороды, женщинам угрожали, что всех расстреляют. Двух молодых девочек и мальчика, комсомольцев, они вывели на еврейское кладбище, заставили вырыть яму и застрелили. В синагоге было тесно. Не давали вносить пищу, не позволяли выходить на двор. Каждый раз в синагогу врывались бандиты, издевались над заключенными и угрожали всех расстрелять.
Потом немцы стали распространять слухи, что всех вывезут в Люблин или в полигон.
23 июля, когда лило как из ведра, к синагоге подъехали грузовые машины, и немцы вогнали в них часть заключенных. На следующий день, 24-го, была вывезена другая часть, среди них и я. Нас спустили на большой площади, где стояли большие конюшни без полов и с двойными нарами. В конюшнях и на нарах было очень грязно. Но позже прибывшие получили еще худшие квартиры в сколоченных из тонких досок с большими дырами сараях или в чуланах без стен. Это было в Вишвянах[322] около Тельшяй. Жизнь была там ужасная. Кормили нас 150 граммами хлеба. Выходить покупать съестные припасы не позволяли. Кто выходил, попадал в руки охраны и был бит самым жестоким образом. Особой жестокостью отличались комендант лагеря Платакис, Александровичус, братья Анзилевичус. Грязь и вши еще более увеличивали мучения людей. По ночам бандиты врывались в лагерь, вытаскивали молодых женщин и издевались над ними.
Во избежание этих ночных нападений сами женщины устроили ночные дежурства, и дежурные женщины не впускали ночью даже охранников. Тогда прекратились ночные скандалы. При въезде в лагерь все были ограблены охраной. Что рассказали мне женщины о происходившем в лагерях Рейняй и Вишвяняй? В лагерях Вишвяняй, где я сама была, и вблизи находившемся лагере Геруляй жили только женщины и дети. Мужчин уже не было. Их истребили в лагере Рейняй.
О происшествиях в Рейняй они рассказали следующее.
26 июня немцы собрали все еврейское население около города Тельшяй, около озера, выставили вокруг пулеметы и заявили: «Испробуем силу машин на вас, и пусть ваш бог вам поможет». На это ответил им раввин Тельшяй: «Вам нечего смеяться над нашим богом, ибо он тот же для нас и вас». (Он потом поплатился за ту дерзость.)
Долго держали евреев под страхом смерти и отпустили домой. 27 июня всех женщин отпустили, а мужчин задержали.
27 июня, т. е. назавтра, всех оставшихся на свободе согнали в имение известного певца Кипраса Петраускаса[323] – Рейняй. Туда перевезли и арестованных днем раньше мужчин. Вместе с лагерем Рейняй был открыт другой лагерь – Вишвяняй для евреев окрестных местечек Тельшяй.
Выселение евреев из Тельшяй и окрестных местечек произошло в течение часа, так что выселенцы имели возможность захватить с собою только самые необходимые вещи. Оставшееся в домах имущество было, конечно, разграблено.
При вступлении в лагерь все должны были под угрозой смерти сдать охране и немцам все свои драгоценности. Начались издевательства и унижения для лагерных жителей, в особенности для мужчин, которые довели последних до отчаяния. Из всех этих мучений самой памятной осталась так называемая дьявольская пляска.
Приблизительно 18 июля 1941 года в лагерь Рейняй прибыли двое гестаповцев с целым отрядом местных бандитов, вызвали некоторых мужчин и заставили их вырыть несколько больших ям, о назначении которых несчастные даже не догадались.
На следующий день гестаповцы опять вызвали всех мужчин, женщин же заперли в бараках, за исключением тех, которые как раз в этот же час собирали драгоценности у всех заключенных для передачи их палачам, окружили вооруженной охраной, и один гестаповец держал перед ними речь такого содержания: «Вы, евреи, составили заговор против всего культурного мира, вы вместе с большевиками зажгли всемирный пожар, и потому теперь настало время возмездия. Вы заплатите за причиненное вами зло». Кончив, он отдал приказ, и кольцо охраны вокруг собравшихся сжалось крепче, и началась ужасная пытка.
Гестаповец отдал приказ, и все заключенные сомкнулись в круг. Потом он им «разъяснил» значение разных командований: «Бегать! Падать! Бегать скорым темпом, поворачиваться направо, налево» и т. д., и пошла «гимнастика». Палачи вставили всем в ноги палки, и так они должны были бегать, поворачиваться, падать, изгибаться, прыгать и т. д. За ними следовали местные фашистские бандиты и били их палками и прикладами. Который падал, был забит на месте прикладами. Многие из старых и слабых выпадали из строя и были замучены на месте. Некоторые из молодых подхватывали ослабевших и павших и брали на плечи, и бежали вместе с ними, но палачи били и тех, и других. С каждым моментом команды учащались, темпы ускорялись, так что бегавшие задыхались и уставали еще сильнее, тогда палачи их били еще крепче. С каждым моментом количество выбитых из строя увеличивалось, и оставшиеся в ряду испускали свои последние силы, а палачи их все чаще и более били и мучили.
Из бараков через широкие щели выглядывали жены, сестры и матери, ломали руки, умоляли, падали в обморок, а палачи… смеялись. Одна из женщин, захваченная в круг охраны, не выдержала и пала полумертвая, тогда другая, в руках которой еще находились собранные для палачей драгоценности, умоляла охранников выпустить ее, чтобы она могла принести воды для спасения изнемогавшей, но охранники не выпустили. «Пусть сдохнет жидовка», – сказал комендант Платакис и не выпустил. Тогда одна вырвалась насилу из барака, прорвала цепь охраны и принесла воды. Эта пляска продолжалась целых три часа. Когда только все уже изнемогли, не могли дальше держаться на ногах и были избиты и окровавлены – их выпустили…
Измученные, избитые, с лицами, искривленными от мук и побоев, мужчины вернулись домой в бараки. Без сил и пристыженные, не вымолвили ни слова, не вздыхали даже и легли прямо на нары (слова Векслер, жены директора Народного банка в Тельшяй). Тогда они лишились совершенно воли. Им было все равно, лишь бы кончилось, чем скорее.
И конец наступил очень скоро. Той же ночью (приблизительно 20–21 июля) тридцать три человека, большей частью молодые в возрасте двадцати-двадцати пяти лет, между ними один из учителей ешибота[324] раби Авнер, были вывезены из бараков и больше не вернулись. Их крики и стоны были слышны всю ночь. Как передали люди, находившиеся в бараках, близких к месту экзекуции, и как хвастали сами палачи, между ними братья Инзулевичи[325], их мучили всю ночь. Их связали и головы их опускали под воду озера и выбирали их оттуда полузадушенных, оживляли и опять окунали. Попеременно палачи били их прикладами по головам и до тех пор мучили, пока все не испустили свои души. Их тела первыми заполнили ямы…
Назавтра рано утром в бараки ворвались палачи и закричали: «Раввины и полураввины (Тельшяй был центром раввинских семинарий) пусть выйдут!» Потом вызвали по баракам всех мужчин, выстроили на площади перед бараками и группами в пятнадцать-двадцать человек выводили их в близлежащую рощицу, где были вырыты раньше ямы и откуда слышались выстрелы автоматов. Эта резня продолжалась весь вторник до четырех часов. Вдруг разыгралась буря, и палачи захотели уйти домой. Они настолько не стеснялись, что последнюю группу они отослали из ямы обратно в бараки. Те же жертвы были выбраны назавтра в среду, они уже знали и пошли на верную смерть. Был один адвокат Абрамович, которого теща и жена могли и хотели спасти, но он ничего не предпринял, говоря, что желает быть там, где будут и другие евреи.
(Я спросил опрошенных, чем можно объяснить такую пассивность со стороны жертв Рейняй, и те на это мне ответили, что несчастье постигло всех так неожиданно, что ничего не успели предпринять, и, помимо того, никто не вообразил, что немцы, хотя бы и гитлеровцы, способны убивать женщин и детей, и они утешались надеждой, что смертью они спасут жен и детей. В случае сопротивления или массового бегства они боялись за жизнь своих жен и детей. – Л. Е.)
Были и единичные случаи сопротивления. Когда вывели на расстрел врача из Ретово[326] доктора Закса, его жена никак не давала ему уйти самому и пошла с ним вместе со своим грудным ребенком. Палачи ее гнали обратно, но она не давалась, билась, ругала палачей самыми жестокими ругательствами. Палачам наконец надоело возиться с несчастной женщиной, и они сделали ей одолжение и застрелили ее и ребенка.
Ицхак Блох просил разрешить ему сказать перед смертью пару слов[327]. Палачи ему разрешили. Он встал и сказал: «Теперь вы проливаете нашу невинную кровь. Настанет же время, когда ваша собачья кровь обрызгает мостовую». Его прибили прикладами.
Каждую группу застреленных засыпали тонким слоем песка, и на них стреляли другую партию. Были многие случаи, когда засыпали раненых полуживых людей. Об одном таком случае рассказывают следующее. Лейбзон из Лауково был вместе с группой других подвезен к яме, и там его заставили засыпать только что застреленных. Когда он начал засыпать, он громко расплакался, из ямы он услышал голоса своих детей, которых вывели предыдущей партией: «Отец! Не засыпай нас! Мы еще живы!..»
Эта резня продолжалась во вторник, среду и четверг. Были истреблены около пяти тысяч мужчин из Тельшяй и окрестных местечек[328]. Земля над ямами все время колыхалась, ибо там было много заживо похороненных. Целую неделю после этого кровь била из ям фонтаном.
Несколько дней после этого избиения жизнь в лагере как бы замерла.
Все оставшиеся в живых женщины и даже дети потеряли интерес к жизни. Никто не выходил из лагеря за пищей, никто даже не принимал пищи из рук палачей. Перестали даже заботиться о маленьких детях. Единственное желание каждой было – вырваться как-нибудь из лагеря и украдкой подходить к тому ужасному месту, где погибли дорогие люди, и с ужасом следить за фонтаном крови, искать среди оставшегося платья и обуви какую-либо вещь от дорогого человека и чувствовать под собою колыхавшуюся землю (слова Векслер).
Через семь дней после резни все оставшиеся в живых были переведены в новый лагерь Геруляй. В Геруляй было еще грязнее, чем в Рейняй. Вшивость была там невозможная; вши были везде: в платьях, на стенах и даже в кустах около реки. Пища была там плохая. Работы давались непосильные – в полях и в лесу.
Ужасны были ночи. Изнеможенные женщины галлюцинировали, перед их измученным взором весь барак был полон привидений погибших. Ужас прожитого еще увеличивался издевательствами охранников, которые угрожали, стреляли. Для большего террора сами палачи распространяли слухи о скорой ликвидации нового лагеря, определяли даже сроки этой ликвидации. Говорили об отделении детей от своих матерей, о новой акции истребления. И каждый раз испуганные женщины посылали делегации в город просить помощь. Бывали у местного епископа католической церкви Стаугаутиса, у начальника уезда Романаускаса, у других хороших знакомых. Но никто не мог оказать помощь. Епископ несколько раз выступал против палачей в кафедральном костеле. Другие выражали соболезнование, но из всего этого, конечно, ничего не вышло. Иные, как Романаускас, еще напугивали делегацию, больше спасения не было.
А слухи о ликвидации лагеря делались все упорнее. Помимо всего этого, в лагере свирепствовали разные эпидемии – тиф, дифтерит и другие. Большая часть маленьких детей погибла от них, ибо не было ни врачей, ни медикаментов, а которые дети посылались в местную больницу, тоже погибали вследствие плохого ухода. Приблизительно через семь недель после того, как лагерь был создан, к лагерю подъехали две машины, полные вооруженных бандитов, и окружили лагерь усиленной охраной. Всю ночь комендант Платакис со своими бандитами пировали. Ночью он пригласил к себе представительниц лагеря – Яжгур, Блох и Фридман и потребовал в виде откупа от назначенной «акции» последних драгоценностей лагеря. Испуганные женщины шли по баракам и собирали последние остатки от всего лагеря, говоря, что этим лагерь откупится от готовящейся резни. В два часа ночи представительницы внесли коменданту последнюю контрибуцию и застали коменданта и его сообщников в самом пьяном виде. Комендант соизволил принять принесенные деньги и драгоценности – около тридцати тысяч рублей и несколько десятков обручальных колец – и обещался пощадить лагерь.
Но рано утром бандиты ворвались в лагерь, разбудили всех и приказали выходить на площадь лагеря, говоря, что лагерь должен подготовиться к эвакуации. Посоветовали брать с собой только хорошие вещи и вынести их на площадь. И действительно, на площади стояли подводы согнанных туда крестьян. Все оделись, собрали свои последние пожитки и вышли на двор. Их сразу бандиты окружили плотно сомкнутой цепью и приказали сесть на землю. Началась сортировка: молодых женщин в возрасте до тридцати лет и девочек приблизительно ставили вправо, других, старых женщин и мальчиков без различия возраста – влево.
Сначала смущенные женщины не разобрались в значении обеих сторон, но потом, когда догадались, что стоящие слева обречены на смерть, стали толкаться вправо. Но бандиты уже не давали переходить из одного ряда в другой. Вправо было около четырехсот человек, влево – прочие тысячи. Правых отправили пешком и на подводах в гетто в Тельшяй, а левых оставили. Были случаи, когда сами бандиты хотели одну или другую перевести вправо, но сами жертвы предпочли умереть, чем оставить дорогих людей умереть одних.
Яжгур получила особую «милость» от коменданта Платакиса, и он взял под свою личную охрану ее и ее дочерей (погибли летом 1944 года в партизанах), посадив их в своей комнате. Но у той Яжгур был и сын, необыкновенно талантливый (он в 1941 году был командирован в школу живописного искусства), и он попал влево. Все ее мольбы перевести его вправо не помогли. Тогда мать добровольно пошла умереть вместе с сыном. Девушку Иоселевич один бандит хотел перевести вправо, но она требовала взять с нею и ее старую мать, от этого бандит отказался. Три раза он предлагал переходить в другую сторону, но она без матери не пошла и пошла она вместе с ней на расстрел…
Таких случаев было много.
Началась резня, женщин по пятнадцать-двадцать группами выводили из ряда в ближайшую рощицу, где были уже вырыты ямы, приказывали раздеваться и застреливали. Для маленьких детей жалели пули, их брали за ножки и ударяли головками по деревьям и бросали в яму…
Спасшаяся из ямы Шлемович Мира сама видела, как один бандит взял семидневного ребенка из его кроватки и на глазах его матери (Двейре Леви из Лауково) разбил его голову о стенки его кроватки. Но были случаи, когда матери сами просили палачей застрелить своих раздетых малолеток-дочерей на их глазах, чтобы не подвергались насилию…
Резня эта продолжалась целый день, и в ней погибли около четырех тысяч женщин и детей.
Вещи палачи разграбили, разделили между собой или продавали съезжавшимся крестьянам. Вечером по окончании этого «задания» бандиты в двух грузовиках поехали в другое местечко. По пути они вопили и забавлялись. Этому свидетельница была мадам Векслер. Она в тот день резни работала у крестьянина и по совету хозяина, который, по всей вероятности, знал, что произойдет, осталась у него. Она видела палачей, возвратившихся со своей славной «работы», и они распевали песни и веселились…
Для оставшихся в живых четырехсот женщин началась новая жизнь. Их разместили в нескольких маленьких домах. Мебели, постельного белья и подушек не было. Пришлось спать на полу. Обитательницы гетто не получали почти никакого пайка, и им приходилось питаться милостыней.
Часть их сбежала в Шавельское гетто. Оставшиеся жили еще до Рождества 1941 года.
В рождественский день 1941 года бандиты собрали всех оставшихся в гетто и отправили на расстрел. Малая часть сбежала, их изловили, продержали в тюрьме без пищи, воды и в холоде и, полунагих и босых, повели на расстрел. Так погибло еврейство Жмуди[329], местечек Риетово[330], Альседай[331], Акмяне, Тельшяй и других. И остались из всей Литвы всего три гетто – в Вильнюсе (около двадцати двух тысяч), в Каунасе (около семнадцати тысяч) и в Шавлях (четыре тысячи).
Самую горькую участь имели евреи Альседай. Там их защитил альседайский ксендз и прелат. Он стал среди евреев и бандитов и сказал: «Вы через мое тело приступите к вашему кровавому делу». Бандиты удержались. По требованию ксендза бандиты разрешили евреям эвакуироваться, взяв с собой и провизию, и вещи, и даже свои земледельческие орудия, и живой инвентарь – лошадей, коров, коз и птиц.
Но в Тельшяй их гнали на каторжные работы и наконец убили. В последний день их запрягли в подводы, полные камней, и заставили возить груз по городу. По пути бандиты били их прикладами. Некоторые пали от побоев, последние были вывезены за лагерь и расстреляны.
Последних четыреста женщин, живших в гетто, ликвидировали в Рождество 1941 года. Некоторые сбежали и попались. Их держали в тюрьме четыре-пять дней раздетыми и босыми, а потом вывели почти нагими и расстреляли.
Несколько десятков еще сплошь до сентября 1944 года жили в землянках, их открыли и уничтожили и содержателя их, литовца Бладиса, привязали к хвостам двух лошадей и разорвали на части.
Записал Л. Ерусалимский[332]
Резня в местечке Утяна
Воспоминания Цодика Яковлевича Блеймана
Как единственный живой свидетель могу поделиться следующим[334].
Я приехал в Утяну 25 июля 1941 года. Мой отец раввин Яков Блейман, бывший раввин в Карасубазаре (Крым) был в последнее время раввином в Утяне. У меня там был еще шурин Эфраим Юделович со своим семейством. Во время начала войны я был в Ковне. Я решил поехать к родителям и оттуда всем вместе эвакуироваться дальше, если будет в этом надобность. Только уже не было возможности: в день моего приезда вошли немцы. Наша участь была предрешена, суждено было погибнуть. Четверг. Первый день немецкого режима. Десятки евреев гонят на работу. Отводят к немцам и их помощникам литовским фашистам. Работа совсем ненужная, бесполезная, только бы поиздеваться над евреями: гонят их по целым дням с вениками, лопатами и другими приборами. Кушать им не дают, только отдельные группы из них выпрашивают кусок хлеба. Когда возвращаются с работы домой, положение евреев еще хуже. Отряды немцев вместе с литовскими подонками убивают и грабят имущество и добро. Такое положение продолжается беспрерывно неделю. За это время ни одно еврейское здание не остается целым. Десятки евреев убиты. Страх за убийство становится все больше и больше. Утром ждут вечера, а вечером ждут утра. В городе наступил «порядок».
Первый шаг к «порядку» – издевательства над евреями. Пришли злодеи вместе с литовскими бандитами и выбросили из всех синагог (их было три) все свитки, книги и остальные вещи. К месту выброшенных книг привели моего отца, глубокого старика, и приказали ему их рвать и сжигать. Он отказался. Тогда убийцы подожгли ему бороду, а один из них выстрелил в него.
Отца принесли в очень тяжелом состоянии. Шурин его оперировал. Операция была удачна, и он мог выздороветь. Но начинаются новые несчастья. Евреям запрещают появляться на главных улицах без проводника, и на каждом еврейском доме появляется надпись «еврей». Евреи вынуждены надевать две желтые заплаты – спереди и сзади. Неевреям запрещают всякие дела с евреями и в то же время их арестовывают без всякого для этого повода. Все синагоги превращаются в тюрьмы, и кроме этих еще есть старая вместительная, большая тюрьма. Арестовали также двух еврейских врачей с их семьями: моего шурина Юделовича и доктора Акса. Одного еврейского врача пока оставили, но после его заманили и тоже убили… Кроме большого количества арестованных взяли еще 41 заложника, среди них бывшего еврейского вице-бургермейстера[335] из Утяны Зурата и других видных граждан города. Прошло больше месяца. Все жили под тенью смерти. Террор против евреев не уменьшался, борьба за кусок хлеба стала все тяжелее и тяжелее.
14 июля 1941 года в шесть часов утра на стенах были расклеены следующие объявления: все евреи, находящиеся в городе Утяна, должны до двенадцати часов удалиться из города, кого найдут после этого времени, того расстреляют. Ходить надо по лесу, в двух верстах от города по направлению дороги, которая ведет к городу Малат. Но в семь часов вооруженные литовцы гнали из домов и тоже арестовывали много евреев. Началась ужасная тревога. Евреи хотели скорее убежать в лес. Все выглядело ужасно. Поселения из нескольких тысяч евреев[336] вынуждены были в течение часа оставить свои насиженные места, где они провели всю свою жизнь, с маленькими узелками пуститься в лес, не зная, что их там ждет недоброе.
Возле леса стояла литовская полиция с немцами и контролировала узелки. Они забирали деньги, золото, серебро и все ценные вещи. Лес был охраняем. Далеко отходить было строго воспрещено. Разложить огонь тоже не дозволялось. Немного холодной воды можно было принести в сопровождении постового. Им говорили, что их продержат только три дня и за это время в городе будут огораживать гетто для евреев. Верили, что так оно и будет, но прошло больше трех дней. Положение в лесу становится все хуже и хуже: болезни увеличиваются, медицинской помощи никакой. Все находящиеся в синагогах и большой тюрьме расстреляны[337]. Часть заложников приводят в лес, чтобы этим доказать, что больше евреев убивать не будут. Все мечтали, что их наконец впустят в гетто. 1 августа 1941 года в лес пришла полиция и регистрировала всех мужчин и женщин от семнадцати до шестидесяти лет. Думали, что это на работу. Я тоже регистрировался. После этого меня и еще десять евреев забрали на работу, а остальные остались в лесу. Нас привели на работу, мы почистили разрушенный дом и работали очень поздно. Перед вечером мимо нас повели группу евреев из лесу в количестве четыреста-пятьсот человек. Среди них молодого утянского раввина Нахмана Гиршовича и Зурата с обоими сыновьями. Вели их по направлению к тюрьме. Мы думали, что и нас поведут туда же, но отвели обратно в лес. В лесу мы нашли всех мужчин готовыми к отходу в город. Но в последний момент пришел полицейский и остальной полиции что-то шепнул. После этого всех распустили и приказали идти обратно в лес. Так прошла еще неделя. Русские по секрету рассказали, что отведенную группу расстреляли.
Но не верили этим слухам и в лесу не распространяли – это очень повлияло бы на женщин, мужья которых были уведены. В четверг 7 августа на рассвете нас всех погнали на работу. Ничего особенного мы не заметили, так же, как и всегда. Я поцеловался с отцом и матерью, будучи уверен, что после работы вернусь обратно. К сожалению, это было в последний раз. Больше я не видел добродушных, глубоких глаз моего отца, не коснулся больше дрожащих рук моей матери. Я с ними простился навеки[338]. Нам сказали, что ведут на работу. Было нас триста человек, и водили нас трое постовых. Привели нас в тюрьму, тщательно обыскали, всех забрали и оставили ждать начальника. Во дворе еще были приведенные евреи из Лелига, Малата, Аникшта и из других местечек, принадлежавших утянскому округу. С ними нам было запрещено разговаривать. В полдень пришел немец из гестапо.
Нас всех расставили по четыре в ряд. Зашел начальник тюрьмы и велел раздеть верхнюю одежду, кто носил, поясняя: теперь пойдете немного поработать. Мы вышли из тюрьмы. Перед нами показалась следующая картина: группа еврейских женщин стояла по четыре в ряд, и с двух сторон стояли вооруженные шпалеры литовцев. Нас начали водить, и как только отдалились от города, нас стали сильно избивать и гнать. Так нас гнали некоторое расстояние. Кто в дороге падал, того тут же застрелили, а остальных продолжали гнать и избивать. Мы просили смерти, не будучи в состоянии больше терпеть.
Вдруг они приказали мужчинам лечь лицом к земле, а женщинам пойти дальше. Мы услыхали оружейные выстрелы и крики женщин. Когда закончили с женщинами – продолжалось приблизительно минут двадцать, – велели пойти мужчинам дальше. И опять те же явления: стрельба, крики и снова тишина. Тогда пришла моя очередь. Мы все были молодые, крепкие мужчины, и мы сговорились втихомолку защищаться, насколько будет возможно. Место резни представляло собой следующую картину: холмик, окруженный с трех сторон лесом, а внизу тянется болотистый ландшафт, заросший густой травой, низкими деревьями и кустами. На холмике вырыты ямы три-четыре метра глубины и до десяти метров длины. Недалеко от ям стоит литовец, одет в военном и покрыт специальной маской-пугалом. В руках он держит длинную нагайку, которой ударяет каждого, чтобы скорее прыгал в яму. В стороне от ям, налево от нас стоит немец с небольшим пулеметом, без верхней одежды, точно мясник на работе, и стреляет в евреев, которые ближе подходят к яме. Недалеко стояли некоторые немцы и литовцы, среди них бургмейстер и другие, фамилии которых мне были незнакомы. Немец с пулеметом велел нам приблизиться к яме. Мы кинулись на него, я схватил его за ноги, и он упал. Как град на нас посыпались пули со всех сторон.
Я слышал стоны моих остальных трех товарищей, которые были убиты возле меня. Притворяясь мертвым, я скатился с холмика. Благодаря высокой траве и трясине, ползая на животе, удалось добраться до ямы с водой, несколько сот метров от места казни. Я лежал целый день в воде и дышал посредством соломенной трубки до ночи. За это время я слышал, как приводили новые группы и их расстреливали[339]. Полил сильный дождь, и стало очень темно. Я был почти замерзший и решил вылезти из ямы. Ходьбой я немного согрелся и удрал в лес. Там уже никого не нашел. Не зная, куда идти, направился по дороге к Ковно. Недель шесть блуждал по лесам раздетый и голодный, пока пришел в Ковно в лагерь. Там еще нашел евреев, и опять началась жизнь в мучениях, нужде и страхе. И настал 1944 год. Красная Армия приблизилась к границам Литвы. Мы верили, что она нас освободит, и надежда нас не разочаровала.
Весною я удрал из лагеря и, валяясь в различных местах, дождался освобождения.
[1945]
Убийство евреев Свенцян
Письмо местного жителя Гурьяна И. Г. Эренбургу
Дорогой товарищ Эренбург!
Ваше письмо от 17 февраля получил и сейчас же отвечаю. Прошу извинения, что не пишу по-русски, очень тяжело. Двадцать лет жил в Польше…
Товарищ Эренбург! Вы мне задали очень трудную задачу. Очень трудно Вам описать, что мы пережили во время немецко-литовской оккупации, нервы у меня слабые, чтобы все описать. Сколько бы мне ни писать, не все опишу, что я увидел своими глазами. Решил Вам не писать. Надеюсь, что мне удастся приехать в Москву, тогда все передам лично. Тов. Эренбург, Вам, вероятно, известно, что к концу 1943 года немного евреев вывезли в Эстонию. Сейчас я был в Вильно и лично говорил с еврейской девушкой, которая спаслась от ужасного эстонского погрома. Везли на пароходах и говорили, что везут в Восточную Пруссию, но это была ложь. Живыми бросали в море, часть евреев сожгли живьем, а остальных расстреляли. Таким образом, они ликвидировали евреев в Эстонии. Оттуда спаслось всего сорок человек. Они спаслись таким образом: они рыли туннель в сорок метров руками. Землю они держали под нарами, где спали.
Товарищ Эренбург! 9 октября 1944 года исполнилось три года погрома в Свенцянах[341]. Братская могила находится в четырнадцати километрах от Свенцян. Мы, несколько евреев, собрались у этой могилы. Длина могилы пятьсот метров, ширина – семь метров. Как только немцы вошли в Свенцяны, в первый же день они расстреляли сорок человек. Расстрелами занимались литовские белые партизаны, потому что немцы еще не знали, кто из евреев был коммунистом.
30 июля 1941 года они расстреляли еще сто человек, среди них известный доктор Коварский, его долго мучили, его держали за ноги и голову, опустили в болото, потом его расстреляли.
После погрома нам не разрешили ходить по тротуарам, заставили носить желтый знак на груди, руками убирать уборные. Немцы, бывало, сядут на повозку и заставят евреев их везти. Меня лично заставили двадцать раз ложиться и вставать, потому что я шел по тротуару. 27 сентября 1941 года всех евреев из Свенцян и окрестностей собрали в лагерь, находившийся в двух километрах от городка Новые Свенцяны[342]. Мы были без воды, без пищи, не было места, куда лечь, где стоять, убивали на каждом шагу. Однажды товарищ Мурашкин, парикмахер из Свенцян, выступил с речью к евреям, предсказал, что всех убьют и чтобы приготовились к самозащите, а литовцам он сказал, что сегодня они нас убивают, но будет время, когда и их убьют, когда придет Красная Армия; тогда его замучили до смерти.
Плач матерей и детей Вы должны были услышать в Москве, и 9 октября 1941 года всех повели к яме, каждых тридцать-сорок человек раздевали догола и расстреляли, некоторых бросили живыми в яму, детей взяли за ножки и головки и разбивали о камни, за два дня они убили семь тысяч евреев[343].
В местечке Ионишки они запрягли одного еврея в подводу. Много немцев и литовцев сели на подводу и заставили еврея таскать подводу, пока они его кнутами убили.
В поместье «Лубаны» семнадцать евреев пилили пилой, каждого в отдельности на три части. В местечке Дукнин военнопленных привязывали колючей проволокой к вагонам так, что колени касались шпал, затем пускали поезд полным ходом и, таким образом, замучили военнопленных. В Новых Свенцянах один литвин вел военнопленного на цепи, как собаку.
На сегодня хватит. В следующем письме напишу обо всем, что просится[344].
С приветомГурьян20 ноября 1944 г.
Лагерь в Коцюнишках
Письмо рабочего Ицика Юхникова
Лежу и не сплю. Вдруг слышу – стучат. Смотрю на часы – два часа ночи. «Откройте, полиция». Открываю дверь. Входят двое полицейских. Меня арестовывают и отводят в полицию. В полиции заявляют, что отсылают меня в Ригу. Меня отвели в тюрьму, где я нашел еще восемь товарищей. Недалеко от имения Коцюнишки[346] нас выгружают и гонят пешком: «Быстрей, быстрей, еще быстрей». Мы отстаем. Нас бьют по головам.
Наконец явились в имение. Первый приказ: «Если кто попытается убежать, то расстреляют всех». Нам приказывают снять еврейский знак. И тут же второй приказ: если мы вступим в разговор с кем-нибудь из литовцев или евреев, нас расстреляют.
Нам задают работу. Не успели отработать и двух часов, слышим, кричат: «Все евреи, сюда!» Мы являемся, и тут новый приказ: «Ложиться, вставать, ложиться, бежать». Бежим до реки Нивяза[347]. Опять приказ: «В воду». Мы идем, вода по колено. Приказ идти дальше. А дальше нельзя, сразу глубина в двенадцать-пятнадцать метров. Немец видит, что мы дальше не двигаемся, и приказывает: «Ложиться!» Мы ложимся. Целый час нас продержали в воде. Вдруг крик: «Вылезать!» Мы выскакиваем из реки. «На работу!» Становимся работать, но работа не клеится – нас трясет, зуб на зуб не попадает. Дождались ночи. Нам велят идти в жилище. Получаем по сто граммов хлеба и воды. Отправляемся спать.
В 3 часа слышим пьяный голос: «Всем встать!» Встаем. «Евреи, все тут?» «Все». Немедленно следует приказ: «Ложиться всем на лавку поочередно». Я выступаю первым. Получаю тридцать розог по голому телу. И так все, один за другим. Утром являемся на работу. Издали вижу – едет машина, на машине евреи. Кричу: «Передайте привет гетто!» Немцы услыхали, и тут же я получаю несколько пощечин. Меня отводят в какой-то сарай, приказывают раздеться, и я получаю тридцать розог. Из-за слабости я не в состоянии двигаться, меня снова избивают, пока не уползаю на карачках.
Раз немцы являются в два часа ночи, приказывают всем встать и показать ноги – чисты ли они. Ясно, что в хлеву, где мы содержались вместе со свиньями, нельзя было иметь чистых ног. Немцы осмотрели ноги, и каждый из нас, было нас девять человек, получил по десять розог. Немцы уходят.
Через полчаса являются снова и одному из ребят задают вопрос: «Хороший ли был обед?» «Jawohl[348], господин начальник, обед хороший». Нам приказывают снова ложиться на лавку, и мы получаем по пять розог. Немцы уходят. Доходят до двери, возвращаются, и один как гаркнет: «Кто устроил саботаж моему мотоциклу?» Все молчат, никто ничего сказать не может, никто мотоцикла в глаза не видал. Получаем свежих пятнадцать розог каждый.
Проходит пара дней. Нас оставляют в покое. Наступает воскресенье. Выходим на работу. Часам к десяти является наш начальник, со зверским лицом подбегает ко мне, тащит к печи и задает какой-то вопрос из Талмуда. Не успел я ответить, как он заявляет: «В Талмуде сказано, что еврею разрешается обесчестить трехлетнюю христианскую девочку и затем убить ее». Я не знал, что ему ответить. Немец стал меня бить головой о печь, револьвером по голове, покуда я не свалился. Тогда он накинулся на другого рабочего, с силой ударил его по лицу и пробил щеку насквозь. Парень упал. Затем немец сбросил третьего рабочего с лестницы и стал его избивать. Тот вырвался из рук мучителя и стал убегать. Немцы погнались за ним и выстрелом из автомата ранили его в ногу. Парень остановился и поднял руки вверх. Немцы приблизились и нашего товарища Гирша Зайдберга застрелили. Затем они, кровожадные, приказали нам построиться по двое в ряд и дали в руки лопаты, чтобы зарыть товарища.
Все это случилось между 5 февраля и 20 апреля 1943 года.
Латвия
«Наше положение безвыходно. И все же…»
Судьба евреев Либавы по дневникам Калмана Линкимера
Дневники Калмана Линкимера[349] подробно рассказывают о гибели либавских евреев.
Уже 30 июня, т. е. через неделю после начала войны, судьба евреев в Либаве[350], по словам Линкимера, «была уже предопределена». Никогда, однако, злодеи не отваживались заявить открыто, что они ведут дело к уничтожению. Каждый раз они обманывали на другой лад: «Едете на работу», «Требуется перерегистрация», «Отправляем в лагерь»…
Но результат каждый раз бывал один и тот же, никто из увезенных не возвращался…
Глава за главой рассказывают дневники Линкимера, как немцы при помощи предателей из латышей делали свое кровавое дело. То мелкие, то более крупные группы евреев ежедневно исчезали. Остальные все еще не верили, что их ждет та же участь. Все на что-то надеялись. Красной нитью проходит через дневники Линкимера мысль: «Извернемся, обойдемся, спасемся!» Но, конечно, и речи быть не могло о том, чтобы еврей помогал или сотрудничал с людоедами.
Отвращение, ненависть, ужас – вот что каждый еврей чувствовал по отношению к злодеям.
И если, естественно, было мало таких латышей, которые помогали или прятали у себя красноармейцев и коммунистов, то было зато предостаточно отбросов среди латышского народа, которых немцы вооружили и которые помогали немцам, чем могли. От этой черной, человеконенавистнической «айзсарговой»[351] работы латышскому народу трудно будет очиститься!
Неверно, что все либавские евреи шли на смерть, как овцы. Однако редки, к сожалению, случаи, когда в дело претворялись слова: «Око за око».
Парикмахер Бене Бранд[352] бежал от рук злодеев. Во время бегства он был подстрелен. Ему, как говорит Линкимер, «не пришлось раздеваться догола и проделывать всю церемонию у открытой могилы на площади».
Но сколько немецких и латышских кровавых зверей поплатились бы головой, если бы такие Бене Бранды были объединены.
А отважных и смелых людей было в Либаве много. До того как остатки либавских евреев были заперты в гетто[353], ежедневно гибли здоровые молодые люди. Каждый во всех случаях думал: «Авось я спасусь». Бегали регистрироваться на рабочие биржи, радовались бумажке, которая, по сути дела, только оттягивала, отодвигала страшный конец. Сколько евреев могли бы спастись! Сколько кровавых собак могло быть уничтожено, если бы в Либаве были такие организаторы, как в Варшаве[354].
Но Либава ничего не знала о Варшаве, и потому люди, которые в другом месте, при других условиях были бы героями, в условиях Либавы в лучшем случае умирали, как люди, а не как овцы.
Русский офицер, бежавший от немцев, скрываясь в дворах, встретил Каби. И хотя Каби, как и всякого еврея, ежедневно поджидала смерть, он офицера спрятал и поддерживал его, чем мог. Однако когда офицер все-таки попался в руки злодеев и они узнали, что Каби его скрывал, он вместе с другими евреями, жившими в том же доме, был арестован.
Евреи, у которых Каби не раз брал деньги или продукты для офицера, дрожали от страха… Но сколько Каби ни пытали, он не проронил ни слова.
Каби расстреляли. В этот день еврейские рабочие вывели из строя электромоторы и «из солидарности с Каби, мужественным и сознательным гражданином, не работали», – рассказывает Линкимер. Какой силой мог быть Каби в надлежащих условиях?
Было много случаев и подлинного героизма, бесстрашия, презрения к смерти. Тем не менее в гетто из девяти тысяч либавских евреев вошло только около восьмисот!
Останавливаться подробно на каждом случае подлинной отваги и смелости при беглом обзоре дневников Линкимера в данной рецензии невозможно. Невозможно потому, что это заняло бы десятки страниц. Трудно также говорить о работе Линкимера обычными словами, так как строки дневника – это мозг и кровь!
Каждая глава начинается у Линкимера словами: «Наша участь предопределена. Наше положение безвыходно. И все же…» – и все же строки тянутся дальше. И снова люди идут навстречу смерти. Навстречу смерти и гибели идут матери с детьми и грудными младенцами на руках.
Евреи – молодые люди, работающие в шуц-полиции, очищают автомобили от крови и оставшихся частей человеческих тел. Они чистят свои сапоги, отлично видя, во что сапоги были испачканы…
Казалось бы, как может хватить духа и терпения, чтобы записать факт кражи в лавчонке гетто?
Но у Линкимера хватает терпения. Он подробно описывает жизнь оставшихся в гетто восьмисот евреев, если это вообще можно назвать жизнью.
Среди евреев в гетто не может быть скверных людей! Вот почему община подходит так строго к факту кражи в лавчонке. Чтобы евреи воровали! У евреев же! И где? В гетто?!
Это событие занимает целую главу. Зато так же подробно описаны трудящиеся, честные люди, выполняющие самую трудную и черную работу в гетто.
Хаим Левинсон – управляющий домом[355]. Его хозяйство «обширно», он постоянно хлопочет, так как на дворе зима и водопровод замерзает. Из других домов идут к нему за водой. У Левинсона водопровод работает бесперебойно. Он по ночам не спит, разогревает трубы, чем только можно. А когда соседи застают его за починкой какого-нибудь унитаза, он шутит: «Хорошо, когда что ни делаешь, к рукам липнет…»
В дневниках немало строк подлинно народной мудрости, юмора и бодрости. Не Линкимер придумал слова старика портного Цимермана[356]. Он тоже их услышал и записал. Семидесятилетний Цимерман – замечательный мастер. Каждый раз, когда он сдает злодеям работу, они ему обещают: «Ну, скоро расстреляем тебя, как собаку. Еще только один костюм и – кончено! Больше у тебя работы не будет!»
В общине Цимерману советуют больше за работой не ходить. Но Цимерман отвечает с усмешкой: «Не испугался я их. Как бы они ни старались, а молодым им меня не расстрелять!»
Старушка Фридман не надевала заплаты[357], не сходила с тротуара при встрече с немцами. В Йом Кипур [Судный день] 1941 года она сидела дома и молилась. А айзсарги выломали у нее входную дверь и уже принялись было за внутренние двери, но старушка ни звука не проронила. Злодеи решили, что никого дома нет, и ушли. Фридман осталась в живых. «Стану я из-за них молитву прерывать, – сказала она, – не доживут они до этого!»
Эти факты, которые не остались забытыми благодаря тому, что Линкимер сумел их увидеть, запомнить и добросовестно записать, являются подлинными истоками народной мудрости, которые должны быть запечатлены навеки.
Маккабистка[358] Флейшман, бежавшая от расстрела, полуголая, окровавленная, бежала шесть километров. За ней гнались вооруженные звери, стреляя на ходу. Один из них потом признался, что никогда в жизни не видал такой храброй женщины.
Некий парень Давид[359], работавший у СД[ковца] Сабека[360], случайно увидел в лаборатории снимки страшных мест, где разбойники проводили «акции»… Он сказал об этом Линкимеру. И когда Сабек ушел, Давид пробрался к нему в комнату, заперся и воспроизвел фотографии, причем надел перчатки и обмотал тряпками ноги, чтобы нигде не осталось следов, и работал, презрев смертельную опасность. И вот фотографии у него! Теперь их надо было сохранить, чтобы они сами могли свидетельствовать, когда настанет день суда… Этот эпизод занимает в дневнике почти пять страниц. Еще десять страниц занимают описания каждой фотографии в отдельности, так как на случай, если фотографии пропадут, Линкимер хочет сохранить хотя бы точное описание каждой из них.
Понятно, что Давид, который переснял фотографии в комнате у Сабека, то есть у волка в пасти, в других условиях мог бы совершить нечто такое, отчего немецким разбойникам не поздоровилось бы…
Достойна удивления также выдержка, которую проявили женщины, занятые на самых тяжелых работах под дождем и снегом, при сильнейших морозах они таскали кирпичи, устанавливали столбы, голодные, полураздетые… Но ни одна из них ни разу не приходила с жалобами в общину. Все надеялись на чудо, на приход Красной Армии… Эта надежда придавала силы и бодрости, терпения и уверенности.
Линкимер рассказывает также, как бесчеловечно и садистски пытали военнопленных красноармейцев. Вот один эпизод: много СД-ковцев зверски избивают военнопленного красноармейца за то, что он принес мешочек с хлебом для своих голодных товарищей. На вопрос, где он взял хлеб, красноармеец каждый раз отвечает, называя другой адрес. Мерзавцы его терзают, выламывают ему руки, но он выкрикивает: «Псы, вас десятки, а я один. Но придет день, когда десятки ваших зверей будет судить один из нас!» С этими словами он падает и остается лежать смятый, затоптанный в снегу.
Пьяные, обожравшиеся, пресыщенные звери в образе человеческом выслеживали свои невинные и безоружные жертвы, чтобы пытать, унижать и лишь потом убивать по придуманному арийскими собаками способу.
За принудительную тяжкую работу не давали ни денег, ни пищи. За неделю работы Линкимер получил… ржавый наперсток. «Это подарок вашей матери, чтобы она при шитье пальцев себе не накалывала», – сказал СД-ковец. В другой раз ему подарили пару сигарет за то, что он распилил и разрубил полный сарай выкорчеванных пней…
Система оставалась неизменной: высосать у жертвы мозг из костей, а потом уничтожить.
Однако если обитатели гетто не были способны на открытое восстание, то лютую ненависть к отвратительным врагам и невиданным доселе невзгодам они хранили в сердце своем.
Мальчики жили в яме за сараем, голодные, замерзшие, измученные до предела. В гетто они из своей ямы идти не хотели. «Придет Красная Армия! Пусть Красная Армия увидит, как мы жили при “арийцах”!» – говорили ребята, когда к ним приходили из гетто.
Из девяти тысяч евреев осталось двадцать два человека![361] Остались только потому, что Красная Армия изгнала злодеев. Среди этих двадцати двух остался и Линкимер.
Мне известно, что у Линкимера имеется еще материал. Редакция «Черной книги», несомненно, свяжется с ним. Около трехсот страниц занимает материал, бывший в моем распоряжении[362]. Прочитанное производит огромное впечатление. Уничтожение младенцев, женщин, уничтожение Либавской богадельни, тысячи замученных невинных людей – все это конкретные факты. Но человеку с нормальной психикой трудно это воспринять.
Люди саботировали, слушали тайком радио[363], знали о боях у Сталинграда. Сопротивления в Либавском гетто злодеи не встретили. В Либаве из девяти тысяч евреев осталось в живых двадцать два человека.
И многие из тех, которые убивали, ходят на свободе. Невинная кровь вопит о мщении. Рассказывайте и помните, что в великом бедствии народа повинен только фашизм!
11 июня [1945 г.]Обзор Ш. ГоманаПер. – М. Шамбадал[364]
Голос Шейны Грам
Дневник пятнадцатилетней девочки из местечка Прейли
Помимо шести еврейских душ, оставшихся в живых в местечке Прейли, Латвийской ССР, чудом сохранился один документ, изобличающий лучше всяких свидетельских показаний зверства немецких фашистов. Этот документ – маленькая записная книжка-дневничок пятнадцатилетней еврейской девушки Шейны Грам, убитой вместе со своей семьей[365] и 1500 другими евреями рукой немецких фашистов в этом маленьком городке Советской Латвии[366].
Этот дневничок был передан русской соседкой семьи Грам[367] после того, как в Прейли вместе с частями Красной Армии вошел брат убитой – боец Латвийской стрелковой дивизии[368] – Гутман Грам.
Оставшаяся в живых семья Хаги из Прейли[369] передает следующие подробности об авторе дневника Шейне Грам.
К моменту начала войны семья Грам состояла из шести человек: отца Ицика, шестидесяти лет, по профессии портного[370], его пятидесятидвухлетней жены[371], старшей дочери Фрейды, двадцати лет[372], сына Гутмана, восемнадцати лет, дочери Шейны, пятнадцати лет и сына Лейбы, двенадцати лет[373]. Из всей семьи остался в живых лишь Гутман, эвакуировавшийся в Советский Союз и теперь находящийся в рядах Красной Армии[374].
Дочь Грама – пятнадцатилетняя Шейна, как раз накануне войны окончила шестилетку[375]. Она была духовно развитой и интеллигентной девочкой. Она прекрасно училась.
Свой дневничок Шейна Грам вела на еврейском языке, лишь надпись «Дневничок Шейны Грам» сделана на латышском языке[376].
По рассказам семьи Хаги, Шейна Грам и вся ее семья была убита 9 августа 1941 года. Ее старшая сестра Фрейда, упоминаемая в дневнике, в этот день была задержана после работы комендантом, который, натешившись ею вдоволь, уничтожил ее 16 августа. Дневник Шейны начинается в день начала войны 22 июня 1941 года[377].
Б. Герцбах
22 июня. В 12 часов дня радио сообщило: «Германия объявила войну СССР. В 4 часа утра немецкие самолеты бомбили несколько русских городов».
Под вечер я уехала в Рибенишки[378] (семь километров от местечка Прейли. – Б. Г.) Все время до 12 часов ночи я сижу у радиоприемника. Передают, как охранить себя от воздушного нападения.
23 июня. Утром мы узнаем, что бомбили Двинск[379]. Я достаю подводу и возвращаюсь домой. Объявлено осадное положение и по улице разрешается ходить только до 8 часов вечера. Мы беседуем дома до 11 часов. Ночью слышен шум многочисленных самолетов. По городу проходят танки. Стоит большой шум. Все домашние всю ночь бодрствуют.
24 июня. Встала очень рано, на улице тихо. Нет никаких известий. Учреждается кружок скорой помощи, и я немедленно записываюсь. В 4 часа состоялась первая лекция. Врач объясняет, как нужно оказывать первую помощь. После занятия мы все ожидаем автобуса. В город приходят все новые люди. Каждый рассказывает что-нибудь новое. Немцы успешно наступают. Все взволнованы. В городе люди все волнуются. Под вечер начинается дождь. Надо маскировать окна. Я ложусь в кровать одетая. В час ночи меня будит сестра. Слышен шум моторов пролетающих самолетов. Я долго прислушиваюсь к шуму, но затем засыпаю.
Среда, 25 июня. Рано утром я уже выхожу на улицу. Сведений с фронта нет.
Все ожидают автобуса. У всех конфискуются радиоприемники. Ежеминутно пролетают самолеты. Базар разгоняют. Нельзя собираться в группы. Автобус прибывает лишь под вечер. В 6 часов вечера я иду в Красный Крест. Там нас обу чают перевязкам. Из кружка выделили две смены дежурств: с 8 вечера до часа ночи и с часа ночи до 5 утра. Меня назначают во вторую смену. До двух часов ночи тихо. С двух до восхода солнца слышны заглушенные удары. Бомбят железнодорожное полотно. В 5 часов утра нас с дежурства освобождают.
Четверг, 26 июня. В городке страшное волнение. Немцы наступают. Советские автомобили снуют туда и обратно. Все укладывают вещи. Многие едут в сторону границы[380]. Мои братья с двумя товарищами направляются на велосипедах. Я достаю велосипед и с еще одной девушкой также уезжаю. Уже вечер, мы приезжаем в Рибенишки. Там мы ночуем.
Пятница, 27 июня. Мы не едем дальше. Целый день мы сидим у моей тети. Проезжают солдаты. Едут многие, бежавшие из Польши и Литвы. Вечером приходит дядя моей подруги. Она уезжает с ними. Я также еду с ними. Потом, однако, я передумала и к утру возвращаюсь к себе домой.
Четверг, 3 июля. Мы уже второй день живем с немцами[381]. На улицах никто не появляется. Через Прейли прошло огромное немецкое войско с большой амуницией.
Первый день прошел тихо. На второй день немцы взломали магазины и все расхитили. Ворвались в синагогу, вытащили свитки Торы и растоптали их ногами. На других улицах они устраивают разные дебоши. Все время разъезжают немецкие автобусы и танки. Мы ничего не знаем о положении на фронте. Мы все переживаем много страха. У нас остановилось несколько немецких солдат. Среди них имеются и очень благородные люди. Они все время успокаивают нас, что рабочих не будут трогать. Публикуется распоряжение, что евреи и русские не имеют права вывешивать свои национальные флаги. Ходьба по улицам разрешается до 10 часов вечера, но никто не осмеливается высунуть и головы. Мы сидим только в квартире.
Каждый день новые репрессии. Посылают на работу: полоть огороды, мыть полы и т. д. Крестьянское население призывается ничего не продавать евреям. Суббота, 19 июля. Издается приказ, что евреи должны носить желтый отличительный знак. Он состоит из пятиконечной звезды[382] двенадцати сантиметров ширины и длины. Мужчины должны его носить на спине, груди и чуть повыше колена левой ноги. Женщины – на груди и спине. Многих арестовывают и сажают в тюрьму.
Понедельник, 21 июля. Группу в пятьдесят евреев отправляют на торфяные разработки. Каждый из них должен выработать пятнадцать стер (пять кубометров. – Б. Г.). Они работают четыре дня и потом возвращаются домой. Из нашей квартиры никого не взяли.
Четверг, 24 июля. На торфяные работы угоняется новая группа. Надоело сидеть дома, я сама хочу работать. Меня записывают вместе с сестрой. Вечером мне сообщают, что в пятницу в 5 часов утра нужно отправиться на работу.
Пятница, 25 июля. В 5 часов утра мы собираемся на базарной площади около пожарной каланчи. Делается перекличка, и мы отправляемся. До торфяных разработок десять километров. В половине девятого нас уже распределяют на работу. Мы работаем группой в десять человек: восемь девушек и двое юношей. Мы заняты переворачиванием нарезанного торфа. Работа тяжелая. Каждую минуту подбегает лесник и нас подгоняет. В 7 часов вечера работа прекращается. Для ночлега нам отводится сарай (палатка). В два часа ночи нас окружает группа неизвестных, кажется, партизаны[383]. Один из них призывает выйти всем евреям, но когда никто из нас не откликается, они открывают стрельбу. Картина в сарае ужасная. Все сбежались в один угол, и каждый молит Бога. К счастью, над нами только забавлялись. После стрельбы, когда никто не отозвался, окружавшие сарай ушли. Но всю ночь мы не спали. В 5 часов утра мы снова вышли на работу.
Суббота, 26 июля. В 6 часов мы уходим на работу. На обед дается один час. После обеда от нашей группы забирают несколько человек. Нас остается семь. Мы выполняем, однако, нашу норму до трех часов дня и направляемся затем в лес, где находятся наши вещи. Через некоторое время собираются все остальные, и мы направляемся домой. Выйдя из леса, мы спохватились, что не хватает одного. Начинаем поиски, но безрезультатно. Переживая судьбу потерявшегося, мы направляемся домой. Придя домой, мы застаем его в комнате. Оказывается, он пошел другой дорогой. В городке – волнение. Забирают лошадей, и ночью несколько евреев уводят в Малту[384].
Воскресенье, 27 июля. Это кровавое воскресенье для латвийского еврейского народа.
Утро. Всем евреям Двинской улицы приказывают одеться в лучшее платье, взять с собой продукты и выйти на улицу. В домах производятся обыски. В 12 часов всех евреев загоняют в синагогу. Одну группу молодых евреев отправляют рыть могилы за кладбищем. Потом в синагогу загоняются евреи еще двух улиц.
Половина четвертого дня. Всех евреев угоняют за кладбище и там расстреливают. Всех двести пятьдесят евреев: мужчин, женщин и детей.
Это ужасно. Такого конца мы не ожидали. Горсточка оставшихся ожидает каждую минуту смерти.
Понедельник, 28 июля. Кошмарный день. Мы узнаем подробности ужасного и трагического конца. Днем новая группа оставшихся евреев угоняется на торфяные работы.
Вторник, 29 июля. Рано утром они уезжают. Распространяется слух, что их тоже отправили рыть могилы. Девушек забирают для чистки улиц. Мы смотрим друг на друга и удивляемся тому, что еще живы. Каждая желает себе смерти. Положение евреев ужасное. Как долго мы будем мучиться? Ходят слухи, что под вечер опять возьмут. Мы решаем не ночевать дома. Один крестьянин разрешает нам переночевать в бане. Поздно вечером мы, поодиночке, идем спать в баню. Нас шестеро, баня маленькая. Спать могут лишь трое. Однако никто не спит. Всю ночь ужасно лают собаки. Я сижу с закрытыми глазами. Передо мной встают лица расстрелянных. Мне кажется, что они сквозь закрытые веки плачут.
Среда, 30 июля. Утром мы возвращаемся в квартиру. Комнаты не тронуты. Все было спокойно. Я валюсь на кровать и немедленно засыпаю. Каждый час новые известия. Один говорит, что будут еще брать, другой – больше не будут брать. Кому верить? Пока ужасно. Каждый сидит и ждет смерти.
Мы узнаем, что остальным евреям готовится еще более ужасная смерть. Нас сожгут. Мне безразлично. Я не хочу жить, не хочу умирать. Одно лишь меня поражает: как мы все это в состоянии перенести? Мы с сестрой решаем прятаться в бане. Приносят хорошую новость. Евреев больше не будут трогать. Они довольствуются двумястами пятидесятью. Сестру берут на работу мыть полы. Я в это время спала. Сегодня мы спим дома. Восемь часов. Нельзя выходить на улицу. Погода такая изумительная. Неужели для еврейской молодежи все потеряно? Неужели никогда не наступят лучшие времена? Что творится на фронте, мы не знаем. Ходят слухи, что немцы получили крепкий удар и что их теснят обратно. Насколько это правильно, неизвестно. Ночью тихо. Я долго не засыпаю и смотрю в окно. Кругом тишина, только далеко в поле лают собаки.
Четверг, 31 июля. Сегодня тихо. Мы получаем привет из Рибенишки. Там никого не тронули. Утром отправляют на работу. Я с сестрой иду в поле. Мы там сидим до двух часов дня. Создается еврейское гетто. Три человека обходят, записывая трудоспособных. Ежедневно от евреев сорок человек должны идти на торфяные работы и подметать улицы. Каждый день новые преследования, и конца не видно. До всего мы дожили, но удастся ли нам пережить, не знаю. Еврейских девушек посылают убирать освободившиеся еврейские квартиры для тех, кто их убивал. Меня не берут. Но когда убирают квартиру моей убитой подруги Мэри Плаговой[385], которую готовят для пристава, я иду туда. Собираю ее фотоснимки и оставляю их себе[386]. Мне не верится, что мои друзья Плаговы уже мертвы…
Пятница, 1 августа. Пока все спокойно. Должны ли мы съехать с нашей улицы, мы еще не знаем. Ночью моей сестре кажется, что где-то кричат. Сегодня она спит со мной. Я открываю окно, спускаюсь через него на улицу и прислушиваюсь. Никого, однако, не видно. Кругом тишина.
В половине седьмого я и моя сестра должны идти подметать улицы. В нашей группе пятнадцать человек. Мы чистим Двинскую улицу. Потом нас отправляют чистить базар. После этой работы пристав отдает распоряжение собрать группу в двести евреев. Долго мы стоим с метлами на базаре. Каждый проезжающий избегает смотреть на нас. Затем, однако, нас всех отпускают. Я прихожу домой и ложусь спать. Поднявшись, я с сестрой иду осматривать квартиру на случай, если нас выселят. Мы решаем зайти к моей подруге Дамба. Ее отца арестовали, и неизвестно, что с ним стало. Свежая новость. Приходят и рассказывают, что те самые, которые здесь расстреливали, уезжают в Рибенишки. Хотим предупредить, но не с кем. Снова паника. Мне, однако, сердце говорит, что ничего не будет. В половине девятого мы ужинаем. Прошлой ночью мимо наших окон были слышны шаги. Я подхожу к окну. Идет немецкий солдат. Не проходит и минуты, и откуда-то появляется целая группа солдат. Мы сильно перепугались. Я все время стояла у окна и наблюдала. Солдаты прошли и сейчас же вернулись. Долго я еще сидела у окна, но глаза мои сомкнулись, и я заснула на вещах…
Суббота, 2 августа. Сейчас же с утра меня с сестрой зовут на работу. Нас шестеро девушек, и мы убираем все ту же квартиру пристава. Это снова в доме моей убитой подруги Мэри Плаговой. На сердце все так же больно и тяжело. К тому же к нам приставлен в качестве наблюдателя полицейский шпик, и это совсем плохо. До двух часов мы убираем, и когда остается подвесить гардины, нас отпускают на обед. Через час мы снова должны явиться. Так проходит целый день. Поздно вечером нас встречает пристав и отпускает домой. Ночью тихо.
Воскресенье, 3 августа. Сегодня Тиш’а-бе-Ав[387]. Никогда я не говела в этот день и вообще не придерживалась постов, но как раз сегодня, через неделю после большого несчастья, после кровавого воскресенья, когда пало столько невинных жертв, я решила, конечно, тайно от властей, говеть целый день. В половине второго приходят ко мне и регистрируют на торфяные работы. Мама велит мне покушать что-нибудь, иначе я не смогу работать. Я слушаюсь ее. Потом список меняют и вместо меня посылают братишку. Уходить надо завтра в 5 часов утра. Я ухожу подметать базар. Придя с работы, я сижу дома. Ходят слухи, что немцев отбросили до границы. Так все спокойно. Перебираются в гетто. Нашей улице велят пока остаться на месте. Ночь прошла спокойно. Понедельник, 4 августа. Сейчас же с утра угоняют подметать базар. После этого я занимаюсь различными домашними работами. Распространяется слух, что все покинувшие свои дома и переехавшие на еврейскую улицу должны будут вернуться обратно. Правда ли это, я не знаю. В час дня опять новость. Наш пристав ужасно злой человек. Он заявил трем еврейским представителям, которых он сам назначил, что если улицы не будут достаточно чисты, он их расстреляет. Тогда решают, чтобы каждый час работало по пять девушек. Пока на работу выходят три девушки, и мы подметаем всю Режицкую улицу. Там живут русские крестьяне. С фронта нет никаких известий. Потом я немножко занимаюсь. Читать нечего.
Вторник, 5 августа. Встаю поздно. Остальные домашние заняты на работе. Я немножко занимаюсь русским языком, потом поднимаюсь на чердак и складываю журналы «Идише билдер»[388]. В 4 часа я иду подметать базар. К нам приходят и сообщают, что мы должны съехать с квартиры.
Вечером приходит пристав осматривать дома. Мы должны съехать. Нашим соседям приказывают оставаться. Таким образом, мы не знаем толком, как быть. Пристав входит в нашу квартиру и осматривает мебель. Вероятно, все это и нашу квартиру также передадут кому-то другому, как это сделали у Плаговых. Мы готовы к этому. Он разрешает нам все взять с собой. Пока мы остаемся до утра.
Среда, 6 августа. Ночь прошла спокойно. Утром опять волнения. Приходит комиссия. Один велит оставаться на месте, второй – съехать. Квартиры, куда съехать, нет. Живем как бы в воздухе. Когда кончатся наши страдания, никто не знает! Приходит еще одна комиссия и решает, что мы можем оставаться на месте. Опять хорошо. В 4 часа я ухожу подметать улицы. Был базарный день, и улицы полны сором. В половине восьмого я возвращаюсь домой усталой и запыленной. Умываюсь и уже в половине девятого ложусь спать. Четверг, 7 августа. Рано утром нас зовут мыть полы у пристава в канцелярии полиции. Пристав относится к нам очень хорошо. Мы моем четверо, и нам приказывают ежедневно приходить на эту работу. Сегодня вновь ходят слухи, что опять будут или сжигать, или расстреливать евреев. Каждый приходит с новостью.
Пятница, 8 августа. Крестьяне рассказывают, что ночью пролетало много самолетов. В 7 часов мы идем мыть полы в полицию. Сегодня начальник в плохом настроении. Все время идет дождь. В 12 часов дня арестовывают трех еврейских представителей. От них требовали, чтобы они отправили на работу тридцать человек. Двадцать один человек прибыл, а девять не хватает. Комендант требует этих девятерых. Иначе будет плохо. Эти девять евреев спрятались. Мы все переживаем.
Целый день идет дождь. Хотят назначить девять других евреев, но он требует только прежних. Пока представители еще находятся под арестом. Когда кончатся наши страдания, никто не знает. Я чувствую, что ко мне все ближе подвигается самое страшное…
Действительно, на этом дневничок заканчивается. На следующий день Шейна Грам со всей своей семьей была убита.
22 июня – 8 августа 1941 г.Предисловие и перевод – Б. Герцбах[389]
Гибель пяти тысяч евреев в г. Резекне (Режица)
Рассказ Хаима и Якова Израэлитов
В городе Режица до войны жило свыше шести тысяч евреев при общем населении в двадцать пять тысяч[390]. Город до войны сильно разросся и широко отстроился. Теперь Режицу не узнать. Немецкие захватчики за четыре дня до вступления частей Красной Армии подожгли и взорвали свыше 70 % всех каменных домов. Центральные улицы представляют собой сплошные руины.
Из общего числа около пяти тысяч евреев, оставшихся в Режице к моменту захвата города немцами[391], сохранились и теперь в нем проживают всего лишь три еврейских души: пятилетний сын семьи К. Тагера – Мотя Тагер, пятидесятисемилетний Хаим Израэлит и его шестнадцатилетний племянник Яков Израэлит[392].
Маленького Тагера спасла их домашняя работница О. Варушкина. Когда убили отца и мать Тагер, она спрятала ребенка и выходила его в течение всех трех лет фашистского хозяйничанья[393].
Хаима Израэлита и его племянника Якова спасла режицкая польская семья Матусевич, которая спрятала их на чердаке своего дома[394]. В течение почти трех лет они прятали Израэлитов у себя в доме, подвергая себя риску быть расстрелянными. Но, несмотря на это, они заботливо ухаживали за своими невольными узниками и ежедневно доставляли им на чердак пищу.
Первые три месяца после прихода немцев Израэлиты скитались по разным дворам и сараям в самом городе и в деревнях, подвергая себя ежечасно опасности быть кем-нибудь узнанными. Лишь потом их приютила семья Матусевич, и тогда прекратилась их бродячая жизнь.
Израэлит и его племянник рассказывают кошмарные подробности мученической гибели пятитысячной еврейской общины города Режица.