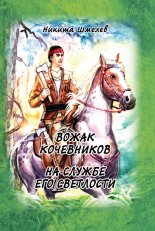Неизвестная «Черная книга» Альтман Илья
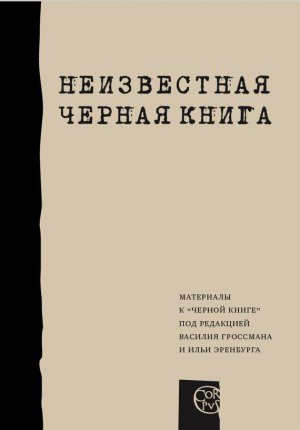
3) что пошлют в колонии Фрайдорфского и Лариндорфского районов, так как озимые еще не засеяны, словом, пошлют для работы;
4) что всех евреев вышлют в СССР за фронтовую полосу;
5) и последнее – всех уничтожат.
Эти пять вариантов бродили в умах всего населения и в еврейской и русской части.
Русская часть – окраинное население тесно соприкасалось с военнопленными или людьми, которые пошли в порядке вольного найма: железнодорожные рабочие, рабочие с производства, некоторые производства уцелели, как завод № 99, на железной дороге работало депо. Люди самим ходом жизни были втянуты в германизацию. Какой был вариант правильным, кто мог знать.
Я не верил в уничтожение.
10 декабря по городу утром разнесся слух, что явка отменена. Моя сестра жила отдельно, работала химиком горлаборатории, с высшим образованием, говорила по-немецки. Мы условились идти вместе. 10-го числа утром я ее ждал, но она долго не являлась, затем пришла часов в одиннадцать или двенадцать и говорит, что в городе есть слухи об отмене этого распоряжения, что слышала от соседки и еще от кого-то. Она решила, что нужно узнать из первоисточников, и обратилась в гестапо на Госпитальной площади. Она пошла туда узнать, нужно ли являться, и на нее набросились с криком (по-немецки она говорила не совсем свободно), что распоряжение пока не отменено. Она говорила, что должен быть приказ, говорила, что никаких распоряжений нет, предложение о явке тоже только слухи. С этим она и пришла ко мне.
Мы решили, что если завтра пойдем, тоже ничего не потеряем, может быть, действительно что-нибудь изменится. Так прошел день десятый, наступило 11-е число – последний день явки.
В ночь с 10-го на 11-е число ночь была тяжелая, нервы были напряжены до последних пределов, чувствовалась какая-то катастрофа, что ничего хорошего это не предвещает, даже отправка на работу, лучше во Фрайдорфский район (Крым, АССР), хуже в Бессарабию. Не укладывалось в голове, что могут послать на фронт впереди своих войск, допускали, что могут выслать за пределы СССР. Я совершенно не допускал мысль о расстреле. Люди собираются с детьми, стариками. Все, что было здорового, ушло в армию, честно, добросовестно люди ушли в армию.
Я говорю, когда я читал в течение летних месяцев газету «Красный Крым», это все мало отражалось, а центральные газеты редко попадали, потому что трудно было достать. Если освещалось, то в «Правде», «Известиях», а в «Красном Крыму» слабо, центральные газеты были малодоступными. Так что о том, что делали немцы, которые уже оккупировали территорию, было малоизвестно.
Я считал, что, несомненно, преувеличение политически нужно для создания в массе определенного настроения, но несколько краски сгущены.
По-видимому, окраина больше знала из своих соприкосновений с немцами либо путем работы. Что бы ни было из пяти вариантов, но все они грозят катастрофой. Мне почти шестьдесят лет, сестре тоже около сорока пяти, к физической работе она была не приспособлена. Мне почти шестьдесят лет – какой из меня работник в условиях сельского степного района при отсутствии теплой одежды. Ничего у нас теплого нет – значит, мы свернемся быстро.
Я знал положение наших районов, особенно степной части, бывал в селах в 1931 году. Я экономист-плановик, мне приходилось докладывать на заседаниях РИКа[255], и знал, что лучше кучи соломы на земляном полу там ничего не будет, и решил не идти и не пускать сестру. Для себя я наметил возможность пристанища у одного знакомого. В прошлом я оказал этому человеку очень большую услугу и на протяжении жизненного пути оказывал разного рода мелкие услуги и был вправе рассчитывать, что этот человек не откажет помочь.
Население двора было смешанное: русские, евреи, татары – там было до двадцати квартир. Я жил в этом доме двадцать восемь лет, ко мне все люди нашего двора относились хорошо. Я зашел к этому человеку 11 декабря и сказал о своем намерении и надежде. «Хорошо, приходите». Я сказал: «Сегодня в два часа дня я приду к вам с постелью, вы должны дать приют на некоторое время, как долго придется, не знаю». Договорились. Теперь нужно было подумать о сестре. У нее отдельный мир знакомых людей из химиков. Я решил, когда придет – я передам ей свое предложение и после этого пойду на обеспеченную квартиру.
Жена уехала с семьей сына, он летчик, трижды орденоносец, жена его – молодой профессор, русская, состоит в смешанном браке, жена – врач, работала на Южном берегу. В августе все получили предписание выехать из Симеиза, жена с невесткой и двумя девочками-внучками выехали. У невестки была какая-то армейская бумажка, которая давала право рассчитывать, что ей будет оказано внимание в городе Турткуль, для сына это была база. До мобилизации он был в армии, а затем был командирован 19 августа – жена, невестка и двое внучат уехали.
Я решил, что уйду из квартиры – мебели нет, вещей нет, соседи поближе жили хорошие, относились по-хорошему в тяжелую минуту. Уходя из дома, я предполагал официально передать свою квартиру этому самому знакомому – он будет формально жить здесь – специалист, русский человек. Написал, что эта квартира принадлежит русскому человеку.
Староста пришел попрощаться и напомнить о явке, потому что кто-то из полиции обходил этот район города и давал распоряжение проследить, ушли или нет. Это было примерно около двенадцати часов. Сестры не было. Я уже начинал чувствовать, что нужно поторапливаться, потому что нужно зайти за ней, чтобы не нарушать срока. Староста пришел, я рассказал, в чем дело, он скрепил подписью, что эта квартира принадлежит русскому человеку, расцеловались с ним, и я пошел к сестре, но сестры дома я уже не нашел. Когда я спросил, то оказалось, что на Архивной улице с 10-го по 11-е русская вспомогательная полиция ходила из дома в дом, из квартиры в квартиру и все еврейское население забирала. Значит, она была взята, вот почему она не пришла. Ждать я не мог, должен был спешить. Я вышел с портпледом, в котором было две смены белья, кусок мыла, взял думку[256] и одеяло, квартиру закрыл на ключ и ключ положил в карман. Я собирался ключ передать человеку, который впоследствии и будет там жить.
Было около часу дня. В моем распоряжении не оставалось времени для поисков сестры, и я вынужден был пойти туда, куда направлялся, – скрыться от немцев. В этот день я ничего не мог предпринять. На следующий день, по моей просьбе, лицо, которое меня приютило, начало обходить сборные пункты с тем, чтобы установить связь с сестрой, но эти попытки ничего не дали, потому что сестру найти не удалось.
Остались последние часы, назначенные для явки, и по всем улицам города тянулись вереницы еврейского населения на сборные пункты с багажом в руках, в редких случаях – на линейках. Из нашего дома группа жителей взяла линейку, нагрузила ее до отказа узлами, чемоданами, свертками и – направилась. Потянулись и молодежь, и детвора, и старые люди. Тягостно было смотреть. Я вспоминаю лица, смотрел и на русских людей, тяжелое было впечатление.
12-го числа по моей просьбе сделать последние попытки разыскать сестру мне было сообщено, что побывали на Гоголевской (здание ОК партии), в здании Мединститута, но сестру встретить не удалось.
По городу висели трупы, висело семь-девять человек. В районе городского сада, на Ленинской улице, висел труп старика, на груди доска с надписью: «За неявку в срок».
12-го обнаружить сестру не удалось. 13-го – тоже не удалось. 13-го числа мне передали записку от нее, которая была передана одной еврейской женщиной, отпущенной немцами, сделавшими у нее на паспорте странную отметку: «Вирт нихт умгебрахт», – не должна быть уничтожена или не подлежит уничтожению, что-то в этом роде.
Был профессор Клепинин – автор целого ряда почвенных карт[257], который был женат на девушке из семьи Фригов. Семья Фригов состояла из пяти сестер, и все были за русскими. Одна сестра за Бобровским, другая – за Клепининым. Две или три пошли на эти сборные пункты и вовремя явились. Они сообщили о себе, что замужем за русскими людьми, и кто-то сделал им всем такие отметки в паспортах: «Не подлежит уничтожению».
Через нее сестра передала моим знакомым записку, в которой спрашивала обо мне. Эта записка у меня и сейчас имеется. Это было последнее, что я от нее получил. Между прочим, мне с этими сведениями принесли сообщение о повешенных на улицах города. Принесли сообщение, что доктор Русинов на территории больницы повесился, не желая делать жену свидетельницей этого акта. Его вынули из петли, и товарищи-врачи тут же на имя германского командования написали заявление, чтобы его не брали. Его привели в чувство, а затем за ним приехали и забрали.
После этого связь с внешним миром была прервана. Я стал жить ожиданиями, что делать.
В первые дни явки один из немцев, который жил в этом доме и имел соприкосновение с жителями этого дома и с лицом, у которого я жил, под влиянием настроений, которыми жил город, и, безусловно, косвенным образом это влияло на всех остальных, сообщил, что он был свидетелем массового расстрела евреев в Бухаресте и что у него был там приятель, врач в румынской армии, так он его не то из дома вывез, не то с места расстрела[258]. Этот немец был начальником авточасти автопарка, а его приятель-шофер был фашист. Он заставил его подать машину, посадил врача-еврея и вывез с семьей, куда я не помню, но спас его от расстрела. У меня явилась мысль, что, по-видимому, нечто в этом роде будет и здесь. Я говорю о том, что происходило в городе. Состояние, естественно, нельзя было назвать и подавленным, я чувствовал, что схожу с ума, мне стало очень тяжело. В сознании не укладывалось – понять чудовищное намерение германского командования об уничтожении двенадцати тысяч человек евреев. Город был, население – терроризировано, люди просто боялись выходить на улицу, даже русские. Казалось, воздух даже изменился и был насыщен ужасом, кровью. Одним словом, все это произвело тягостное впечатление на все национальности, все люди тягостно переживали это явление.
В эти первые дни от явки уклонились многие, за что были повешены. После этого по городу начались облавы только на улицах. Сначала действовала полевая жандармерия, задерживала прохожих и требовала предъявления паспортов. Совершенно очевидно, многие были задержаны, и не только евреи. Это были первые попытки прочесывания населения на улицах города. Происходили они довольно часто, по отдельным районам, улицам, в различное время дня, с небольшими интервалами. Так было в течение всего декабря 1941 года, а в начале января 1942 года, после 5-го, была первая массовая облава на все население города. Город был оцеплен по кварталам, районам, всюду были расставлены посты, которые направляли население в определенные пункты. С рассветом из улицы в улицу, из дома в дом, из квартиры в квартиру шли с обходом. Была сплошная, массовая, одновременная проверка населения, поиски оружия. Эта была первая проверка населения, а пришлось пережить пять. Тягостно было.
Лицо, которое приютило меня, уходило из дома. Я, стараясь оставаться незаметным, закрывал окно из комнаты. Окно из комнаты выходило на улицу, а общая дверь из комнаты выходила в коридор. Дверь старинной стройки, крепкая, массивная, была с хорошим американским замком. Я старался закрывать замочную скважину.
Я каждый раз, когда мой хозяин уходил, закрывал замочную скважину щеколдочкой, что не давало возможности заглянуть в комнату. У окна стоял стол, за которым я читал или писал. Так что если бы заглянуть оттуда, то я был бы на фоне окна. Нижнее стекло было забито фанерой.
Я уже знал, что в городе идет облава и что, вероятно, немцы могут прийти сюда. Мы не знали, как это происходит, что делается, проверяют сплошь или на выборку. Я был на страже, выхода не было. Надо было принять предохранительные меры. Я об этом не мог думать, потому что всякое движение было затруднено. Выйти на чердак или в подвал не было возможности. Не было представления о том, как они будут искать. Я собрал всю силу воли, чтобы держаться в равновесии, потому что от этого зависит сохранение головы. Часов около девяти слышу по необычайным шагам, что явились немцы. Я привык разбираться в звуках, во всякого рода шагах. Нет сомнения, что в дом пришли немцы. Местное население немного говорило по-немецки. Дом этот большой, там было много комнат, но я слышу по шагам, что они подходят к нашей комнате, зашли в смежную комнату, подошли к моей двери и раздается неистовый стук. Я никак не реагирую. Стук повторяется. Я решил молчать, что будет дальше. Я слышу голос немца, который спрашивает, кто в этой комнате живет, ему отвечают: женщина, русская, учительница, одинокая, у нее никого нет. Население дома, которое владело немецкой речью, дает объяснение, и тут же ввязывается в разговор немец, который жил в нашем доме. Очевидно, он был неплохой человек, по профессии – трактирщик на Рейне, и этот Вилли был настроен очень благожелательно, и офицер удовлетворился его ответом, но все же хотел попасть в комнату. Сделали попытку открыть дверь, но дверь была массивная, крепкая, с американским замком, сильно толкнули в дверь, но дверь не поддавалась. И вдруг я слышу самое ужасное, что рядом с ним скребется собака. Офицер, оказывается, пришел с овчаркой. Вы сами понимаете – овчарка может почувствовать через дверь, и так или иначе, офицер мог распознать, что за этой дверью кто-то есть. Здесь произошло то, что иначе, как чудом, я не могу назвать. В этом доме у одного из обитателей была собака, громадная, породистая, молодая, жизнерадостная собака, здоровая, крепкая, весь день она бегала по улице, играла с детьми, прохожими и домой попадала только вечером. В последний момент, когда был решительный стук в дверь, собака соседей каким-то чудом появилась в квартире, то ли она была недалеко, то ли ее кто позвал, но между собаками началась такая кутерьма, что немец побоялся за судьбу своей собаки. Вилли и офицер бросились разнимать собак. Офицер боялся выпустить из рук пса, а солдат не мог оттащить в сторону второго; наконец удалось оттащить на некоторое расстояние.
После этой комнаты в эту сторону оставалась только одна комната, а в этой последней комнате столовались немцы-зенитчики. Мы знали, что бывают целые группы – немцы. Прошло несколько мгновений, они отошли в сторону, и все успокоилось. Это была первая облава.
О судьбе еврейского населения немцы с местным населением не беседовали. В первое время они с населением не соприкасались, были какие-то преграды. Конечно, население не могло не интересоваться, и слухи о том, что произошло, стали проникать в городскую среду, сначала на окраинах, потом – в центре и докатились и до меня. Что-то глухое, о какой-то катастрофе, о массовом уничтожении еврейского населения стало проникать и упрочиваться.
Пошел слух о том, что какая-то часть женщин, выводимая из здания по улице Гоголя № 14, выходила с поднятыми вверх руками, причем у этих женщин у двери сопровождавшие вырывали дамские сумки. Говорили и о том, что какая-то часть была выпущена с чемоданами, а другая – уничтожена; что выводили без вещей, с поднятыми руками.
Расстрел производился около Курмана. Говорили, что братские могилы рыли военнопленные. Расстрел проводили из автоматов. Затем говорили, что расстреливали на 8-м километре, а в каком направлении, я так и не установил. Только так, связывая отдельные корни, я думаю, что это было по Феодосийскому шоссе у противотанкового рва. Вот скудные сведения, которые исходили от населения города.
В марте месяце стали проникать слухи о том, что лица, находившиеся в смешанном браке, которые были отпущены, как вдова Клепинина и другие, будут также вызываться на сборные пункты. По всему городу ходят лица и устанавливают смешанные браки и детей от этих смешанных браков.
Здесь был Михайлов, приват-доцент, с женой-еврейкой, когда пришли за женой, он не хотел ее одну отпустить и пошел вместе с ней. Судьба его неизвестна. Мне удалось установить, что он домой не вернулся.
Слышал, что погиб внук Щировского, инженера, мать еврейка, она разошлась с мужем, а ребенок воспитывался у стариков. Пришли и взяли ребенка.
Слышал об одном случае: муж армянин, жена еврейка. Он не отпустил ее и пошел вместе.
Через несколько месяцев слышал о таком случае: дочь отбилась от своей семьи во время выхода на сборный пункт, осталась на улице, и ее приютили знакомые караимы и продержали несколько месяцев. Потом девочку вывезли в Саки, там была русская женщина одинокая, хорошо знакомая им, которую посвятили в существо дела и просили приютить, потому что боялись держать в Симферополе. Надо сказать, что русская женщина, приютившая эту девочку у себя, не знаю, как записала, но даже устроила недалеко от себя на работу. Девочка жила, меня занимала судьба этой девочки, и я просил свою знакомую, когда она была в этой караимской семье, наводить справки о судьбе этой девочки.
После большого перерыва, когда совершенно не было соприкосновений с хозяевами, все было в порядке, эта девочка, помогая по хозяйству, пошла куда-то по улице и встретила своего знакомого по Симферополю. Она по-детски поздоровалась, тот очень удивился и спросил, очевидно, каким образом она сюда попала. Она рассказала, и будто бы к вечеру девочки не стало. Какие душевные побуждения были у того человека? Трудно сказать.
По-видимому, те лица, которые имели возможность вначале укрыться у родственников или знакомых, постепенно были выявлены. Сестра моей жены должна была пойти за два дня до явки к одной знакомой. Старая женщина пришла посоветоваться, как быть. Я спрашиваю: «Что думаете?» «Хочу не пойти». Я спрашиваю: «А кто вас приютит?» «Я, – говорит она, – решила пойти на слободку около Рабочего поселка, там живет мать зятя, русская женщина, она поможет. Хочу к ней пойти за картошкой». Но, по-видимому, она погибла во время одной из облав, а облавы происходили время от времени. Все облавы, которые происходили по городу, все прошли над моей головой.
Во время второй облавы, она, кажется, была в марте месяце 1942 года, мне пришлось из комнаты выйти. Там было много комнат с большим количеством темных закоулков. Была небольшая кладовая, в которую вход был закрыт. Во время первой облавы немцы прошли, не заметив этого помещения. Ключ от этой кладовой был у моей хозяйки. В кладовой хранилась очень большая медицинская библиотека, медицинский инструментарий, географические карты, а затем помещен всякий хлам: доски, кровати. Мне пришла мысль укрыться в кладовой. Но это трудно было сделать, так как было непрерывное движение по всем коридорам. Нужно было улучить мгновение, чтобы попасть в эту кладовую. Эту операцию сделали вскоре после облавы. А облава была на рассвете. Часов около пяти прошел слух, что в городе идет облава, и мы решили, что нужно переходить из комнаты в кладовую. Перешел в кладовую. Движение в доме было слабое. Моя знакомая стояла в коридоре на карауле и дала знак о том, что можно из комнаты выйти, прошла в глубину и стала на пороге. Я зашел в кладовую в пальто, шапке, спрятался за шкафом с книгами, причем мы договорились, что, когда в доме начнется облава, я зайду за шкаф и заставлю себя диктовой доской. Ключ от кладовой был у моей хозяйки. Она закрыла за мной дверь и ключ положила в карман. В дом пришли немцы. Она подошла к кладовой, кашлянула. Я зашел за шкаф, заставил себя диктовой доской, передвинул книги; из книг устроил небольшое сиденье, сверху было заставлено, загромождено всевозможными вещами. Я слышу по движению, что приближаются шаги, слышу, что подходят к этой части квартиры, остановились около этой двери. Первый раз не заметили, а потом спрашивают по-немецки, что находится в этой комнате. Соседка говорит: «Кладовая небольшая, вся завалена книгами». «Где ключ?» – спрашивают. Говорит: «Сейчас принесу». Открыли кладовую. Он заинтересовался массой книг и инструментарием, чемоданами и начал брать книги на выдержку, начал двигаться по этой кладовой, хотя там буквально некуда ногу поставить. Отошел к щели, которая была заставлена, отодвинул стенку, взялся за диктовую доску, и, по-видимому, как ни сумрачно было в этой кладовой, он увидел контуры моей фигуры и вдруг совершенно явственно говорит: «А».
Я решил, что на этот раз, кажется, мне уйти не удастся. Нужно было собрать все свои силы, чтобы не подать вида и чтобы не подумали, что жиды цепляются за жизнь и умереть не умеют.
В самую последнюю секунду произошло такое событие. Очевидно, тоже на его сознание пала пелена. Книги не дали возможность видеть того, что было вокруг. Он совершенно спокойным движением поставил фанеру на место и заявил хозяйке, что через пятнадцать минут пришлет солдата забрать книги, инструменты и т. д.; вышел из кладовой, закрыл дверь на ключ и ключ положил в карман и ушел. Через пятнадцать-двадцать минут пришло пять-шесть человек солдат, но меня уже не было в этой кладовой. Представляете, какой был риск. Это было трудно сделать, потому что за мною могли наблюдать тысячи глаз. Мне нужно было выйти из кладовой, чтобы никто из соседей, немецких зенитчиков, не видел, и надо было уйти до истечения пятнадцати минут. Словом, меня не открыли, я вышел из этой комнаты уверенно, спокойно, прошел в дверь комнаты, которая предварительно была оставлена открытой, и закрыл ее за собой. Моя хозяйка закрыла кладовую, вернулась в комнату. Солдаты пришли с ключом и соседку хотели взять только в качестве переводчицы. Эти шесть солдат занялись работой самым тщательным образом, потому что забрали всю библиотеку, книги по медицинской части направили в лазарет, а остальные – в библиотеку для обслуживания госпиталей.
Я вспоминаю то, что мне пришлось пережить. Я был потрясен тем, что ушел и второй раз. Был потрясен участием какой-то посторонней силы, которая вмешивалась в мое скромное существование. Таких случаев было пять. Один раз пришлось спрятаться в подвал, в четвертый раз – на чердак и один раз – на другой квартире, в которую хозяйка моя во время массовых переселений перешла: с Луговой на Крестьянскую. Нужно было сделать переселение так, чтобы не заметили ни старые соседи, ни новые, чтобы меня не видели, а также не видели те, которые будут выносить вещи. Пришлось продумать каждую мелочь. Пришлось уйти на чердак в тот день, когда хозяйка решила перебираться. Было два часа дня. Немцев-зенитчиков в доме уже не было. С самого утра на рассвете пришлось перейти на чердак с тем, чтобы вечером моя знакомая придет, дверь будет широко открыта, все могут заглянуть, посмотреть в комнату, а вечером она должна была прийти (движение было разрешено до семи часов вечера). Это было в конце сентября или начале октября [1942 года]. Все видели, что она перешла на жительство в другую квартиру. Она была единственная квартирантка у хозяев – двух супругов. Дверь была отдельная, словом, можно было прийти, не беспокоя.
И во второй квартире на Крестьянской улице пришлось пережить посещение немцев. Они весной 1942 года в солнечные дни облюбовывали жилые помещения. По квартирам ходили немцы, зашли и в эту квартиру. Хозяева были старые люди. Они пытались всякими поводами отвадить немцев, говорили, когда приходили немцы, – и печи развалены, и то плохо, и это плохо. Это было в начале пятого, уже близко к темноте. Пришли в коридор, раздался стук в дверь. Немец спрашивает, не найдет ли он здесь для себя подходящую комнату. Хозяйки не было. Я стеснялся подходить. Они подошли к двери, и немец просит открыть эту дверь. Хозяева говорят: «Как же быть, дверь закрыта, ключа нет, открыть нельзя». Офицер подошел к двери и начал стучать. Тогда хозяйка говорит: «Может быть, попробовать нашим ключом открыть». Муж говорит: «Открой». И хозяйка пошла за ключом. Передо мной стала задача, как быть. У нас были такие возможности: у моей хозяйки были два шкафа, один – платяной, другой – буфетный. Эти шкафы стояли друг от друга на небольшом расстоянии, таким образом, чтобы можно было зайти, между шкафами было небольшое расстояние, но такое, что я мог стоять. Комната была небольшая, загромождена кушеткой, кроватью, столами, стульями, шкафами, а шкафы стояли на другом конце комнаты. Когда хозяйка пошла за ключом, я стоял неподалеку и зашел за шкаф и спрятался за ним. Если бы немец вздумал подойти ближе, то обнаружил бы меня, но на этот раз дело обошлось благополучно. Хозяйка чувствовала себя неважно, что в отсутствие жилицы открыли комнату. Когда открыли, все стояли у входа. Комната, правда, непрезентабельная. Хозяева говорили, что в этой комнате живет учительница. Дверь закрыли. Домохозяйка чувствовала себя неловко, почему я говорю это, что даже не сообщила моей хозяйке о том, что заходили немцы. Вот это была последняя тревога.
Занимался я книгами, читал, писал; я занимался библиографическими работами. Обо мне как о библиографе есть отзывы, у меня есть печатные работы по библиотечной группе. Были составлены целые каталоги-картотеки по разным вопросам, что представляло большую ценность для меня и известную научную ценность. Часть библиотечного материала удалось вынести. Это давало возможность держаться и работать спокойно.
Общее настроение было тяжелое, особенно когда была взята Керчь – 15 мая 1942 года, Севастополь – 1 июля. Первая большая тревога после пережитых декабрьских дней. Тяжело было после взятия Керчи и еще более тягостно после взятия Севастополя. Пока Керчь и Севастополь были советскими, как-то теплилась надежда на скорое освобождение. Когда немцы взяли Керчь, Севастополь, проводили перешивку железной дороги, переименовали улицы на немецкий лад, я почувствовал себя похороненным.
Конечно, взятие Керчи – не конец войне. В войне возможны всякие изменения. Немцы знали, может быть, что придется Крым отдать. Советские люди были уверены, что Крым будет освобожден, но нужен был отрезок времени, чтобы проделать мозговое усилие, чтобы привести себя в известное равновесие.
Было голодно, холодно – всему населению вообще и моей хозяйке, в частности. Даже наши скудные запасы, которые удалось сохранить: пуд муки, пуда полтора картофеля, бутылка постного масла, начатая баночка смальца, которую мне принес один знакомый русский плотник, встретил я его как-то в районе Феодосийского моста. Спрашивает: «Как вы поживаете?» Это было 3–4 декабря. Я говорю: «Голодно и трудно со всех сторон». Он говорит: «Я вам кое-чем могу помочь, я зарезал кабана и вам немножко принесу сала». И действительно принес. Даже было так дело, он не застал меня дома и отдал моим знакомым Кенифест и просил мне передать. Вечером я возвратился, и они принесли смалец и еще кое-что. Кроме того, у меня было крупы килограммов двенадцать. Этим мы жили месяца три. Ели один раз в день, картошку варили в кожуре, из муки делали клецки, клали немного крупы, ложку масла и получалась какая-то пищевая бурда. Затем начались усилия по восстановлению пединститута, и мою хозяйку привлекли в качестве библиотекаря, она приводила в порядок библиотеку, получила хлебную карточку, и мы делили хлеб по сто пятьдесят грамм; затем она получила частные уроки, давала их за продукты. Жили впроголодь, трудно рассказывать. Варили только вечером, плита была без тепловых ходов, кончил топить, и все тепло улетучивалось. Я боялся шевелиться, чтобы не было никаких звуков. Вечера приходилось сидеть в темноте из-за того, чтобы не было признаков света.
Так протекала жизнь в течение двух с половиной лет.
Газеты я читал регулярно, не только «Голос Крыма», но и немецкую «Дойче Крым Цейтунг». В немецкой газете, а она была рассчитана на обслуживание средней массы, там были антисемитские выпады в ничтожном количестве, они обслуживали среднюю массу, и пропаганда была, очевидно, направлена по другим каналам; а русская газета «Голос Крыма», я антисемитские выступления в печати знаю, приходилось читать и «Новое время» и «Почаевские известия»[259] Иллиодора, это был монах-изувер, оказался прощелыгой, который терроризировал русское царское правительство. Антисемитскую литературу дореволюционного периода я знал, но то, что собой представлял «Голос Крыма», не идет ни в какое сравнение. Это было что-то жуткое. Если вы читали газету из номера в номер, то вы видели, что из себя представляла эта газета, одна за другой статьи антисемитского характера. Трудно себе представить, до какой степени изощрялись, до какой степени были сосредоточены высказывания, например, под руководством германского представителя Маураха, который здесь возглавлял бюро пропаганды. Отец был хороший врач-окулист. В 1920 году выехал в Германию, сын воспитывался в Берлине. Этот мальчишка попал в Германию в 1920 году, а сейчас уже приехал как деятель бюро пропаганды. Гитлер в 1920 году только начинал делать первые шаги. Доктор Маурах умер, семья попала в тяжелое положение, и мать пристроилась к фашистскому движению, и на этом фоне сын Маурах воспитался в Германии и явился сюда в качестве представителя бюро пропаганды. Сынок этот давал до того концентрированную антисемитскую продукцию, что трудно себе представить. С каждой строчки проглядывал антисемитизм площадной, грубый, вульгарный, рассчитанный на низменные наклонности. Это был основной лейтмотив, который проглядывал во всем материале: в статьях, в фельетонном материале. Чувствовалось, что та группа людей, которая представляла эту газету, совершенно ясно ставила цель – создать психический заслон тому, что делали немцы в Крыму. Это была какая-то маскировка, жидоедство, это была ширма, которая поддерживалась целым рядом координированных усилий. Они все каналы жизни подчинили этой газете. У них в редакции в кабинете замредактора сидела барышня, просто технический работник, сидела и внимательно выписывала из дневника писателя Достоевского, где были антисемитские высказывания, затем Суворина, Розанова, Шмакова – это были солидные книги, и барышня целыми днями выписывала этот материал для статей Быковича и других.
Гитлеризм наступал не только на хозяйственную жизнь, но и на психику населения. Это была лаборатория, в которой изготовлялся яд. Этот яд не прошел бесследно. Этот антисемитизм отравил население, не то чтобы все принимали всю лживость, но вбирали в себя это печатное слово.
Разрушение зданий города Симферополя, взрывы, пожары начались задолго.
В январе 1942 года, когда начались советские десанты, которые проходили главным образом в конце декабря, положение в немецкой среде было настолько напряженным, что местное немецкое командование сидело на чемоданах. Если бы командование Советской армией несколько энергичнее сделало бы бросок в Крым, он был бы освобожден. В Симферополе были готовы к бегству числа около 7 января, но дали срок, пока напряженное состояние разрядилось. Немцы из-под Ленинграда подбросили подкрепление. Если бы этот бросок в Крым со стороны нашего командования был бы энергичнее, то Крым был бы освобожден значительно раньше.
Второй раз, когда наши войска подошли к Перекопу, после этого начались пожары, уничтожение зданий, но особенно энергично они начали действовать перед падением Крыма, и, наконец, совершенно исключительно, что произошло в Симферополе 12 апреля [1944 года], когда горело около четырехсот крупнейших зданий. Весь горизонт представлял сплошное море огня, горели архивы. В разных частях города горели здания-склады, и в довершение всего вечером по городу начали разъезжать автоматчики и бросать бомбы в жилые здания. Чувствовалось, что они в какой-то лихорадке.
13 апреля были партизаны, которые дали небольшой, в течение одного часа, бой.
В районе Архивного моста партизаны сделали заслон, а вечером 13 числа я вышел в первый раз из своего 28-месячного заточения. Прошел по городу, встретил нескольких знакомых русских, которые встречали меня со слезами, объятиями, пожатиями, а 14-го я пошел на свою старую квартиру. Настроение встретил хорошее. Русские люди обнимали, плакали, удивлялись, встречали поцелуями и объятиями. В своей квартире я застал татарскую семью. Немцы взломали квартиру, уничтожили часть книг, то, что было на столах, стульях, растаскали, часть книг была продана в комиссионном магазине, а часть, та, что была в шкафах, сохранилась. Они вначале в моей квартире устроили для небольшой группы людей казино. Казино существовало шесть месяцев. Все имущество было вывезено жилотделом, а книги сданы в центральную библиотеку. Сейчас я получаю их обратно. На моих книгах есть значки. В центральной библиотеке подбирают книги для пединститута, парткабинета и выбирают мои, откладывают в сторону, а вообще моя библиотека состояла из двух тысяч томов – это труд сорока лет работы, ценность всей моей жизни. Очень много книг погибло, часть рукописей, коллекция планов города Симферополя, которые я собирал продолжительное время. Все это, к сожалению, погибло.
16–17 августа 1944 г.Записал Д. Бричинский[260]
Рассказ бухгалтера Льва Юровского
Симферополь
Вот рассказ бухгалтера спортивного магазина в Симферополе Льва Юровского[261].
В Симферополе осталось не эвакуированных четырнадцать тысяч евреев. 10 ноября 1941 года немцы «организовали» еврейскую общину. Одного почтенного старца Бейлинсона они назначили председателем[262] и предупредили, что распоряжениям общины все евреи обязаны подчиняться.
При помощи правления общины немцы выкачивали все, что им хотелось. Комендант города заказывал, а община была обязана поставлять точно к сроку – мебель, одежду, золото, ковры…
Был такой случай: какой-то генерал «заказал» пару калош, но община не успела получить к сроку нужного номера. За это престарелый председатель получил пощечину.
Когда через общину уже больше ничего нельзя было получить, фашисты начали грабить собственноручно.
Через общину немцы распорядились, чтобы все зарегистрировались на бирже труда. Велели надеть нарукавные повязки с «могендовидом» и посылали на самые тяжкие работы: копать землю, таскать камни… Подгоняли плетьми. Я не зарегистрировался и не надел повязки, так как хотел уйти из города.
Однажды все же я пошел на работу. Мы обивали грузовики фанерой, другие перетаскивали груды заступов. Мы тогда еще не знали, для чего все эти приготовления. Потом в этих грузовиках возили людей на смерть, а заступами засыпали убитых. Нам, группе работавших здесь, приказали идти домой и вернуться на следующий день с тем, однако, чтобы каждый из нас привел с собой еврея-столяра и еврея-слесаря. Это было невозможно, так как все мастера были уже выловлены… В отчаянии мы обратились к председателю общины: «Что делать?» Он махнул рукой и ответил: «Делать уже нечего». Он уже, очевидно, знал, как обстоят дела.
По дороге домой мы встречали людей с узлами и чемоданами. Это были местные старожилы – евреи, крымчаки. Их вызвали для «эвакуации» на 9 ноября[263]. Немцы наметили три сборных пункта. Все эти пункты были заняты гестаповцами. Это были лучшие многоэтажные дома в самом центре города: педагогический институт, медицинский институт и здание областного комитета партии. На следующий день, 10-го, началась, согласно приказу, «эвакуация» симферопольских евреев. Люди отобрали самые ценные свои вещи и направились к сборным пунктам. Передать эту трагическую картину невозможно. Плач, вопли! Средь бела дня тащатся тысячи людей, не зная, куда и зачем. Немцы вели себя спокойно и вежливо, не возбуждая никаких подозрений. «Эвакуируют на Украину, – говорили, – в колонии…»
11-го я с женой решил: мы тоже пойдем. Мозг не выдерживал напряжения последних дней. Будь что будет, лишь бы скорее какой-нибудь конец.
По дороге к пункту нас встретила знакомая русская женщина. Она сказала:
– Ни в коем случае не ходите туда! На смерть идете. Я встретила переодетого цыгана, который чудом ушел от расстрела.
Цыган немцы «эвакуировали» за несколько дней до того. Мы вернулись. Жена пошла прятаться в одно место, я – в другое. Я направился к другу моих родителей по фамилии Матейка. Василиса Митрофановна Матейка мне и в дальнейшем во многом помогла. Шесть суток я прожил у них, они кормили меня, прятали и информировали обо всем, что происходит в городе. 11-го, 12-го и 13-го числа расстреливали евреев. На улицах висели повешенные с табличками: «За невыполнение приказа». Это были те, кто не пришли вовремя на пункт. Я понял, что дальше подвергать риску моих друзей нельзя, и ушел из города.
За несколько дней до того моя жена получила удостоверение о том, что она крещеная. Ее таскали в гестапо, и, когда ее вели на расстрел, она сошла с ума. Только 16-го перед моим уходом из города Василиса передала мне письмо от нее. Она прощалась со мной, с жизнью… Ее вызывают в гестапо.
Одна русская женщина предложила мне паспорт ее мужа, находящегося на фронте. Паспорт надо было привести в порядок. Внук Василисы, четырнадцатилетний мальчик, раздобыл тушь, и мы исправили документ. Старик Матейка проводил меня до станции, и я пошел деревнями по направлению к Мелитополю. По дороге было несколько встреч с такими же, как я, и с немецкими патрулями, – паспорт не подводил. Таким образом, я 31-го пришел в Мелитополь. На окраине города в доме одного бухгалтера мне разрешили переночевать и встретить Новый год. Можно себе представить, каким был этот праздник для меня…
По пути мне пришлось проходить через крымские еврейские колонии. Там еще ничего не знали о том, что происходит, но предчувствовали и ужасно беспокоились. Я не решился рассказать им обо всем, что произошло в Симферополе, и что их ждет, и ушел.
В Мелитополе меня не захотели прописывать. Пошел в другое место, но и там не хотят. Что делать? Решил вернуться в Крым. Пришел в полицию за свидетельством на обратный проезд. Шеф полиции заинтересовался, для чего я ушел из Крыма. Я объяснил, что хотел устроиться на работу, но не устроился.
Как раз в те дни наш десант высадился в Керчи. Немцы были смертельно напуганы. Увидев крымчака, они меня окружили и долго осматривали. Затем отвели в отдельную комнату и стали допрашивать. Оттуда меня отвели в более высокую инстанцию, в Орткомендатуру[264].
Комендант, еще два немца и переводчица снова учинили мне допрос. Все как будто бы идет гладко. Вдруг комендант вскакивает с места, ударяет кулаком по столу и кричит: «Здесь кроется еврейская голова!» И меня посадили в камеру гестапо.
Двор гестапо обслуживали два еврейских мальчика. Тайком они приносили арестованным пищу. Однажды гестаповцы узнали об этом и так избили мальчиков, что я их узнать не мог. Тем не менее они продолжали приносить нам еду. Я был уверен, что меня расстреляют, и решил повеситься. Две тысячи рублей, которые были у меня, я хотел отдать этим мальчикам. Но они ни за что не хотели брать деньги и говорили: «Нет, вас не расстреляют…» Я потом стал верить в различные приметы. Утопающий хватается за соломинку…
Позднее я жил в деревне, в доме, принадлежавшем раньше еврею. На чердаке этого дома валялась груда бумаг, писем, документов. Однажды, когда я был в особенно угнетенном состоянии, с чердака прямо на меня упало какое-то письмо. На чердаке копошились куры. Я раскрыл письмо и прочел:
«Дорогой Лейб (меня тоже зовут Лейб), не огорчайся, все уладится…» И это меня успокоило.
Тем временем меня перевели из камеры Мелитопольского гестапо в хлев с цементным полом. Сидеть на улице, на морозе было легче, чем в этом хлеву. Есть не давали. Дошло до того, что собственное дыхание стало еле теплым. Словом – конец!
Но к этому времени меня неожиданно освободили. Я могу вернуться в Крым. Я вспомнил, что у меня имеется письмо, которое Василиса Митрофановна дала мне к своей сестре, живущей в бывшем еврейском колхозе «Возрождение». Название колхоза показалось мне знаменательным, и я отправился туда.
Сестра Василисы и ее муж приняли меня хорошо, и я остался в деревне на должности колхозного конюха. Тут я узнал, что большинство живших в этой деревне евреев успели вовремя эвакуироваться, а оставшихся сорок человек немцы увезли в Джанкой.
Несколько раз контролировали мои документы, но все обошлось благополучно. Но вдруг – новая напасть: почему я не женюсь? Здесь все женятся… Стало быть, это неспроста…
Однако вскоре мне снова пришел на помощь мой добрый ангел, Василиса Митрофановна. Она приехала в гости к своей сестре. У меня в глазах посветлело, когда я увидал старушку. Одиночество и необходимость постоянно притворяться меня угнетали. Я рассказал ей о своих делах. Она предложила сказать своей сестре по секрету, что якобы моя жена, которую я крепко люблю, ушла от меня с немцем. И по этой причине я никем успокоиться не могу. Такой «секрет», конечно, немедленно распространится по деревне, и меня оставят в покое. Так оно и было.
Между тем я познакомился со всеми колхозниками, а с учителем, корейцем Точеем, и с его женой мы подружились. Я сразу почувствовал, что я больше не одинок. Он приходил ко мне на конюшню, беседовал со мной, потом приглашал к себе. Однажды Точей сказал мне: «Я вижу, что вы человек надежный. Немцев вы ненавидите. Надо связаться с людьми».
Это был для меня счастливый день. При следующей встрече Точей сказал мне, что он имеет от одного коммуниста поручение создать вокруг себя группу, и предлагает мне помочь ему. По ночам Точей ездил в Карасан, там был радиоприемник. Мы располагали последними новостями, установили связь с партизанами. Жена Точея была прекрасным человеком: она воодушевляла нас на самые смелые предприятия против немцев. У нее был маленький ребенок, а второго она ждала со дня на день. Она говорила: «Не хочу, чтобы мои дети видели этих извергов. А если, паче чаяния, немцам удалось бы здесь задержаться недолго, я таких детей воспитаю, что им от них тошно будет!» В колхозе «Возрождение» я дождался прихода Красной Армии.
[1944]Записал Лев Квитко[265]
Рассказ симферопольского портного Макса Соломина
В портновской мастерской, работающей на армию, я отыскал этого оставшегося в живых симферопольского портного Соломина. Сухощавый, среднего роста, с умным морщинистым лицом, человек лет пятидесяти. В тесной и шумной мастерской не было, где присесть и побеседовать. Он повел нас во двор на узенькую железную галерею, изнутри окаймляющую этот большой многоэтажный дом. Мы прислонились к перилам, и он начал.
За четыре дня до прихода немцев в Симферополь я приехал домой из дальней поездки. Я дамский портной. Прихожу и застаю пустой дом: жена с детьми заблаговременно эвакуировались. Соседи-евреи тоже. Верчусь по пустой квартире – неуютно. Пошел к своей сестре и застал ее. Бросилась она ко мне с плачем: у нее болен ребенок, и она не может эвакуироваться.
Прихожу домой, а у меня уже немцы расположились на ночлег. Однако на рассвете они ушли.
Между тем издан приказ: всем евреям обязательно регистрироваться.
В первые же дни оккупации произошло следующее. Два немца зашли в один дом на улице Толстого к бухгалтеру Пекерману. Увидав на руках у матери грудного ребенка, один из них схватил его и сунул в печь. Мать набросилась на немца, но в это время второй пристрелил ее. Отец накинулся на бандитов, но они смяли его, вытащили во двор, перебили ему ноги и стали волочить по каменной мостовой.
Я созвал к себе человек пятьдесят знакомых и рассказал им об этом несчастии. Я предложил: пусть тысяча-другая наших людей соберется и нападет на немцев. Многие при этом погибнут, но зато несколько сот человек добудут себе оружие и смогут уйти в леса, в горы… Однако мне возразили, что население в пятнадцать-двадцать тысяч человек уничтожить невозможно. Лучшим доказательством может служить то, что немцы ведут себя прилично: не избивают на улицах, вежливы…
Но вот настал этот день. Евреев начали вывозить и убивать. День прошел, два, три… Творится что-то страшное. Я не выхожу из дому. За уклонение от регистрации вешают на улицах. Я не иду. Но когда началась облава, я больше не мог оставаться один в доме, набрался духу и пошел, чтобы отдаться в руки палачей. Дело было днем. По дороге в гестапо меня вдруг окликают. Оборачиваюсь и вижу свою давнишнюю заказчицу Марию Ивановну. Рассказал я ей о своих делах, а она и говорит: «Сумасшествие! Самому идти в гестапо? Я и то боюсь в городе оставаться. Иду в деревню. Идемте со мной. Я запишу вас своим мужем».
При этом она указала мне человека, который может сделать мне паспорт. Короче говоря, через день мы оба ушли из Симферополя. Шли три дня, пока добрались до деревни, где старостой родственник Марии Ивановны. Она представила меня.
– Когда же это ты замуж вышла? – спрашивает староста и поглядывает на меня.
– Три года тому назад! – отвечает она.
– И он, значит, и фамилию твоего первого мужа носит?
Это, словно гром, поразило нас, об этом мы даже не подумали.
Но не успели мы выпутаться из этой неприятности, как подвернулась другая:
– Ну, ладно, – говорит староста, – это еще куда ни шло. Но как ты можешь оставаться здесь со своим мужем, когда ему стоит только слово вымолвить, чтобы каждый узнал, кто он такой… Нет, лучше уходите отсюда, я вас тут не оставлю… Однако он разрешил нам переночевать. И вот лежу я ночью и мучаюсь. Что делать? Мой еврейский акцент губит меня! Ворочаюсь, лежу, как на иголках, и вдруг приходит мне в голову… Вот это мысль! Готов сейчас же будить Марию Ивановну, утра дождаться не могу!
Утром я рассказал ей о своем плане. Ей понравилось. Пошли мы к старосте и объявили, что я становлюсь глухонемым!
Он рассмеялся:
– А выдержишь? – спрашивает.
– Выдержу! – говорю.
И староста взял мой паспорт и вписал «глухонемой». Но оставлять нас в деревне он все же не захотел и выдал нам бумажку: такая-то со своим глухонемым мужем таким-то направляются для поисков работы туда-то.
И пустились мы в путь-дорогу в надежде на мою глухонемоту. Пришли в деревню Онуфриевку. Ночь. У старосты необходимо получить разрешение на ночлег. Посмотрел он на мои документы и говорит:
– Дальше я вас не пущу. Мне портной нужен. У меня семья большая, всех обшить надо.
Мария Ивановна делает вид, что остаться мы никак не можем, а мне показывает знаками, о чем речь идет. А я тоже головой и руками показываю, что это невозможно. А в душе радуюсь тому, что у нас есть кров, работа! Правда, опасно то, что мы у самого старосты, что называется, у зверя в пасти. А он, между прочим, седой, заросший, как дикарь. Разрешил он нам переночевать, а наутро отказывается отпускать. Хозяйка накрыла на стол, невестка принесла материю для шитья, швейную машину, стол приготовили, а Мария Ивановна – мой язык и уши – показывает знаками, чего от меня хотят. Так мы тут и остались и принялись за работу. Обшили дом, всю большую семью, а староста нас не отпускает. Ему выгодно – денег за работу нам не платят. А я, говорят они, понятливый глухонемой, и каждый хвастает тем, что я понимаю его знаки. Проходит день, два, неделя, другая, а я глух и нем. Вокруг меня постоянно люди, так что даже словом перекинуться с Марьей Ивановной никак не удается. Видите, у меня даже морщины возле рта? Это потому, что я все время держал рот на замке. Все время находишься среди детей, женщин… Иной раз услышишь такое, что надо быть крепче железа, чтобы не расхохотаться, или наоборот, такое, что кулаки от злости сжимаются… Но уж раз взялся – надо молчать.
Но вот случилась такая история: однажды ночью налетели на деревню наши бомбардировщики – бомбить немецкие эшелоны на станции. Я проснулся, когда все в доме уже были на ногах, разволновался и вдруг как ляпну:
– Где мои брюки?
А тут от зажигательной бомбы стало светло, как днем, и я вижу около себя старосту.
– Тьфу на тебя! – плюнула в мою сторону Мария Ивановна.
Староста стоит надо мной, смотрит растерянно и кипит от злости, а я чувствую, что погибаю. Бомбардировка окончилась, немецкие эшелоны горят, а я даже радоваться не могу: сам у себя на шее петлю затянул.
Сидим с Марией Ивановной в комнате при свете пожара и молчим. Что тут придумаешь? Староста, конечно, прикажет нам убираться, а может, и расстреляет. Решили мы тихонько выбраться отсюда, не дожидаясь утра, и пойти куда глаза глядят. Так мы и сделали.
Когда Красная Армия нас освободила, Мария Ивановна пошла своим путем, а я – своим.
[1944]Записал Лев Квитко[266]
Гибель и спасение еврейских детей в Симферополе
Рассказы Люси Рабин и Мириам Павер
В чистенькой квартирке у Люси Рабин сидели мы и слушали грустную повесть о симферопольских евреях, о ее родных и друзьях, скрывавшихся на чердаке этого самого дома в течение двух месяцев после массовых уничтожений.
Мы выслушиваем ее обиду на людей, ее горькие выводы – плод трехлетних преследований. Я пытаюсь ее утешать, но слова мои ее не трогают. Из того, что она рассказывает, я извлекаю факты, эпизоды и привожу их как примеры, отрицающие ее неверие в человечность и дружбу окружающих людей. Но слишком огорчено ее молодое сердце, слишком сильно чувствует она еще одиночество, охватившее ее после того, как она потеряла свою жизнерадостную и талантливую семью. Боль, выраженная на этом красивом и благородном молодом лице, – не из тех, что проходят или залечиваются даже в том случае, когда лицу этому всего еще двадцать шесть лет.
– Кто этого не пережил, тот не может понять, – повторяет она. – Кто так одинок, как я, тот почувствует.
– Вы всем нам очень дороги! – говорят ей. – Вы не одиноки. На вас, на считанных, оставшихся в живых, народ перенес всю свою любовь, всю заботу, причитающуюся миллионам погибших. Вы у нас, как единственные дети. Сколько евреев из семнадцати тысяч осталось в Симферополе?
– Человек тринадцать-четырнадцать из семнадцати тысяч. Вот уже почти шесть месяцев, как Крым освобожден, а больше этого количества не появляется. Оставшихся мы знаем всех. Тетя Павер, служащий «Динамо» Лев Ильич Юровский, портной Марк Ефимович Соломин – он два года был глухонемым, жена инженера Пукайло, я и еще…
В комнату входит крепкая женщина средних лет. Нас знакомят: Мария Исааковна Павер. Она сразу же приносит множество новых сообщений.
– А свыше пятидесяти еврейских ребят вы забыли? – говорит она. Весь город говорит о заведующей детдомом Прус. Она спасала еврейских детей, устраивала в надежных местах[267]. Родственники или родители этих детей сейчас приходят к ней и не знают, как благодарить. Сколько раз заведующая Прус рисковала жизнью, сколько раз была она на краю гибели! Но она ухитрялась, обманывала немцев и из-под носа у них уводила малышей. Она отыскивала русских людей, на которых можно было понадеяться, что они спасут еврейского ребенка. Они приходили к ней, и она все это обеспечивала. Городской священник попросил у нее на воспитание еврейского мальчика[268]. Многие неевреи брали ребят, чтобы спасти их от немецких палачей.
В Наркомземе работал инженер Пукайло. Его жену-еврейку и дочь немцы увезли. Но им удалось вырваться, и они ночью бежали на кладбище. Неподалеку от него жил их знакомый агроном. Они пошли к нему. Агроном поместил их в погребе и прятал там вплоть до прихода Красной Армии. Пукайло был уверен, что жена и дочь его погибли. Он опустился, ходил ко всему безразличный, обросший, пришибленный и молчаливый. Когда пришла Красная Армия, он точно вновь родился. Агроном привел к нему жену и дочь – живых и здоровых.
Когда немцы расстреливали крымчаков, я с мужем и четырнадцатилетним мальчиком находилась на чердаке. Вскоре начались обыски в домах. Муж говорил: «Уходи, спасай мальчика, ты не похожа на еврейку. А я останусь здесь». К одной моей соседке-старушке пришла некая Шляхова Александра Трофимовна. Она увидела, как я пришиблена, и отдала мне свое удостоверение – совершенно незнакомая женщина. Соседка, старушка набожная, надела моему сыну крестик на шею. С этого дня его стали называть Васей. Я попрощалась с другой моей соседкой Екатериной Андреевной Столяр и с ее детьми – и мы ушли из города.
Мы шли из деревни в деревню, где дневали, там не ночевали, пока добрались до деревни Кентугай. Здесь у нас был адрес. Обменяли кое-какие вещи на продукты и кое-как стали жить. Десятки раз нас вызывали на допрос, днем и ночью только и делали, что выпутывались из подозрений, стороживших нас на каждом шагу.
Понемногу прижились. Мой «Вася» стал пастухом. Я прихо дила к нему в поле. Он играл на дудочке, и деревенские ребя тишки постоянно его окружали. Он затевал с ними такие игры, в которых надо было читать молитвы и креститься, – таким обра зом, мы учились у ребят этой премудрости. В Кентугай эвакуи ровалась из Перекопа русская семья Данилиных, с которыми мы подружились. Но через несколько дней после их прибытия к ним пришли немцы и полиция. Данилиных забрали и расстреляли.
Однажды соседка пригласила меня на поминки. Было это вечером. Посреди молитвы налетели немцы с полицией и всех забрали. В сутолоке я выскользнула и удрала. В эту ночь немцы выловили и утащили около шестидесяти семейств. Моего «Васю» тоже поймали и отвели в жандармерию. Я стою под дверьми и слышу, как избивают моего сына.
Из моего укрытия я вижу – прибыла машина, полная людей из района – из Найзана или Фундуклеи, – пожилые русские люди. Много детей. Запомнилась маленькая девочка, которую кто-то прижимал к себе. Холодно было. С машины никого не сгрузили, а из жандармерии вынесли лопаты, сложили их у шофера в кабине и велели ехать дальше. Я поняла, что это их последний путь.
Моего сына отпустили чуть живого. Надо бы его подлечить – он весь был в ранах, но мне нельзя его дома держать. Несчастье свалилось на мою голову: к хозяину, у которого мы живем, приехала его родственница из Симферополя. Она нас знает. И мой мальчик вынужден уходить со стадом еще до того, как она встанет, и возвращаться поздно ночью, когда она уже спит. Двадцать пять лет она сюда не приезжала, а сейчас ее принесло! А я все время должна прятаться и притворяться больной, чтобы, упаси бог, на глаза ей не попадаться.
Вдруг приехала дорогая гостья: моя симферопольская соседка, Екатерина Андреевна. Уже второй раз эта женщина отправляется в путь за девяносто километров, чтобы повидаться со мной и привезти мне кое-какие вещи для обмена на продукты. Привезла она и кое-что из продовольствия, то, что она с детьми сумела сэкономить из своего скромного пайка для «тети Мани». Я узнаю, что ее старший сын ушел к партизанам в часть Ямпольского[269]. Два младших сына живут с ней. Кое-как перебиваются. Я знаю, что и до войны ей приходилось туго: муж ее давно болеет, и она единственная кормилица семьи. Я обливаюсь слезами от благодарности к ней за дружбу и внимание. «Как же, – говорю я, – вы в такое время пускаетесь в путь-дорогу, когда и сами-то еле держитесь, когда сами нуждаетесь в помощи».
Плачу, а она, на меня глядя, тоже плачет. Пробыв в деревне два-три дня, она пошла обратно. За два года, которые я прожила в Кентугае, Екатерина Андреевна приезжала ко мне четыре раза, и утешение и помощь, которую она мне оказывала, давали возможность мне с сыном поддержать нашу жизнь. Вот какие есть люди. Когда я шесть дней просидела взаперти в жандармерии, кто-то передавал для меня пищу. Я по сей день не знаю, кто была эта добрая душа.
В деревне обосновалась немецкая часть. На кухне у них работали пять пленных, совсем еще мальчики. Наши дети с ними познакомились. С одним из них, Гришкой, мой «Вася» пришел ко мне. Парень был ужасно угнетен своей работой на кухне у немцев.
Он приходил к нам еще несколько раз, и я видела, что мой сын что-то глубоко переживает. В конце концов мальчики поделились со мной своим планом: пятеро поварят вместе с моим «Васей» решили уйти в партизаны. Но так как уход «Васи» отсюда может повредить мне, его матери, то они придумали, чтобы «Вася» тоже поступил на работу в немецкую кухню, а потом ушел бы вместе с кухней из Кентугая и уже из другой деревни или с дороги – бежал.
Я смотрела на «Васю», на его товарищей и видела, что другого выхода нет. Так они и сделали. Через несколько дней они ушли из нашей деревни, а в дороге где-то бросили немецкую кухню и пустились в Тамань. Что сталось с моим сыном, я по сей день не знаю.
[Не позднее октября 1944 г.][Записал Лев Квитко][270]
В мезонине, на дворе гестапо
Феодосия
Я мог бы рассказать о тысячах трупов расстрелянных женщин, стариков и детей, раскопанных нами в противотанковом рву, о разграбленных квартирах, о сожженных и подорванных домах. Но об этом уже писали.
Мне хочется рассказать вам о дощатом мезонине во дворе Феодосийского отделения гестапо. Я побывал в нем уже больше года тому назад, но оторванность от Москвы, загруженные тысячами хлопот боевые будни не позволяли мне до сего времени урвать время, необходимое для написания этой коротенькой корреспонденции. Да и, по совести говоря, трудно было об этом писать под свежим впечатлением.
В самых первых числах января прошлого [1942] года мне удалось попасть в только что занятую нами Феодосию. Это был первый наш освобожденный от немецких оккупантов город, в котором мне пришлось побывать. До войны я здесь бывал не раз, и все же сейчас я должен был каждую минуту обращаться за справками, как пройти на ту или иную улицу. Было почти невозможно разобраться в этом хаосе разрушения, который был когда-то чудесным курортным городом Феодосия. От проспекта роскошных санаториев, располагавшихся на набережной, остались только обгорелые и обвалившиеся стены, а очаровательный вокзальчик, находившийся на том же проспекте, был так основательно сровнен с землей, что обнаружить его остатки мне удалось только после консультации с местным жителем.
Законное чувство любопытства привело меня наконец к трехэтажному кирпичному зданию, в котором всего несколько дней назад помещалось местное отделение гестапо. Я бродил по мрачным комнатам, в которых каждая валявшаяся на полу бумажка была как бы сгустком человеческого горя и чудовищной, разбойничьей несправедливости, каждая невинная фото графия – «вещественным доказательством», достаточным для уничтожения человеческой жизни. На дверях сохранились аккуратные карточки, на которых аккуратными готическими буковками были выписаны фамилии людей, в сравнении с которыми Джек-Потрошитель был сущим ангелом.
Осмотрев все комнаты этого департамента убийств, я выбрался на двор и по скрипучим и зыбким деревянным ступеням поднялся в мезонин с обыч ной в этих местах посеревшей от непогод верандой. И здесь я увидел, пожалуй, самое страшное, что мне пришлось повидать в этом проклятом учреждении.
Я увидел несколько комнат, доверху заваленных верхней одеждой: мужскими, женскими и детскими пальто, шубами, жакетами и полушубками, салопами и меховыми куртками. На каждом из них белела пришитая эмблема – шестиконечная картонная звезда «Маген-Давид». Я знал: все евреи должны были под страхом самого сурового наказания носить эту звезду как символ величайшей отверженности, как знак того, что они именно те люди, которые в «Третьей империи» [Третьем Рейхе] находятся вне закона.
Незадолго до нашего десанта был вывешен приказ на улицах Феодосии: все евреи должны явиться в установленное место для «переселения». С собой разрешалось захватить только самые необходимые вещи и двухдневный запас продовольствия. А когда евреи явились в «установленное место», с них с деловитостью палачей сняли верхнюю одежду, забрали вещи и продовольствие, а самих повели за город и перестреляли из автоматов. Но не всех. Детей не расстреляли. Детям мазали губы какой-то отравой, кажется, цианистым калием.
Мне рассказывала одна русская женщина (нет больше евреев в Феодосии), как дрожавших от холода и смертельного ужаса евреев вели по улицам города в их последний путь и как шла с застывшим от горя лицом молодая женщина и вела за руку свою пятилетнюю дочурку, которая, к счастью для нее, не понимала в чем дело. Девочка от души веселилась, скакала время от времени на одной ножке и никак не могла понять, почему ее мама не хвалит ее за исключительную ловкость и сноровку.
И вот я стал рыться в этих горах одежды.
В одном пальто старинного покроя я обнаружил четыре кусочка сахара, завернутых в бумажку, кусок хлеба, посыпанного солью, и бархатный мешочек с тфилин[271].
В кармане детского пальтишка я нашел свернутую в трубочку клеенчатую «общую тетрадь», на каждой странице которой были наклеены почтовые марки. Это была, очевидно, самая необходимая вещь, которую захватил с собой отправляющийся «для переселения» неизвестный еврейский мальчуган.
Когда-нибудь, когда кончится война и покроются дымкой времени воспоминания о кошмаре фашизма, я пошлю этот сохраненный мною альбом на первую международную филателистическую выставку, чтобы никто и никогда не мог и не смел забывать о гитлеровских убийцах.
В женском жакете я нашел фотографии молодой женщины с черноглазым мальчиком на руках. На оборотной стороне карточки была надпись: «Нашей любимой маме и бабушке от любящих дочери и внука. Ялта. 12. IV. 1931 года».
Может быть, этот жакет принадлежал как раз бабушке нашего маленького филателиста. Во всяком случае, его пальтишко лежало рядом с ее жакетом.
В кокетливой шубке, принадлежавшей девочке лет семи, я не нашел ничего, кроме совершенно чистого, еще ни разу не использованного носового платочка. С этой шубки я снял себе на память маленькую картонную шестиконечную звездочку. Я всегда ношу ее с собой в моей полевой сумке.
А в одном старом женском салопе я разыскал написанное карандашом на вырванном из арифметической тетради в клетку заявление, которое я позволю себе привести целиком:
Господину начальнику германской полиции
от гр. Кац Марголи Израилевны,
проживающей по ул. К. Либкнехта, д. 87
ЗАЯВЛЕНИЕВвиду того, что у меня муж душевнобольной, ему 51 год, и мальчик 12 лет, неспособный к физическому труду, я прошу оставить нас в городе Феодосии. Ставлю Вас в известность, что наша семья трудится на табачной фабрике с 10 лет. В последнее время я служила продавщицей в буфете воды и никогда не состояла в какой-нибудь партии. Очень прошу принять во внимание и оставить нас.
Просительница (Подпись)2. XII .1941 г.Феодосия
Это заявление писалось наспех с пропусками букв, вкривь и вкось, в последнюю минуту перед тем, как надо было отправляться на зловещее «установленное место». Конечно, она прекрасно знала, что за переселение уготовлено для нее немецкими властями, но нужно было создать для самой себя и ее несчастной семьи какую-то жалкую иллюзию, что не все потеряно.
Я не знаю, почему заявление Марголи Кац осталось в кармане ее салопа, а не попало в руки начальника полиции. Возможно, ей приказали раздеться так неожиданно, что она не успела вспомнить о своем заявлении. А может быть, она, прибыв в «установленное место», поняла, что отныне нет у нее больше никаких надежд на спасение.
И вот я храню сейчас у себя на память альбом с марками, маленькую картонную шестиугольную звездочку и ужасающее своей безнадежностью и трагической беспомощностью заявление Марголи Кац, которая «работала продавщицей в буфете воды и никогда не состояла в какой-нибудь партии».
[28.01.1943 г.]Очерк Л. Лагина[272]
Девочка из Феодосии Алла-Роза Бразголь
Анна Степановна Скляренко жила со своим мужем-механиком на хуторе Сарагол, в трех километрах от Феодосии.
Она получила строгое предписание явиться в гестапо и уплатить налог за собаку.
Анна Степановна торопится в Феодосию выполнить предписание: она знает, что значит затевать историю с «ними»…
В городе на одном из перекрестков подбегает к ней плачущий ребенок – девочка. Анна Степановна взяла ее за ручку: «Что такое?» В это время подбегает какая-то женщина. Девочка прижалась к Анне Степановне, ухватилась за нее и кричит: «Эта тетя хочет отдать меня в гестапо!»
– Как это так?
Женщина рассказала, что ребенка оставила у нее мать, которую затем убили. Сейчас немцы расстреливают всех, кто скрывает у себя еврейских детей. Вот она и шла сдать ребенка в гестапо, но этот чертенок вырвался…
Анна Степановна возмутилась:
– Что же это, ничего святого больше нет! – сказала она и отчитала женщину.
А девочку она взяла за ручку и поспешно вернулась в Сарагол.
За городом, успокоившись, она остановилась и стала разглядывать ребенка. Это было изможденное, измученное существо с черными умными глазищами. Выглядела девочка года на четыре, хотя она уверяла, что ей все шесть. Разговаривала и держала себя она как взрослая.
Девочка тоже пришла в себя и рассказала, что зовут ее Розой, что дедушка ее, крымчак Абрам Бразголь, жил в Феодосии с бабушкой Стерой и с ними, то есть с ней и матерью, которую звали Ривой. Немцы всех расстреляли и вырубили дедушкин сад.
Анна Степановна обняла ребенка:
– Моих детей со мной нет, а ты без родных – будем жить вместе.
Она привела девочку к себе домой. В траншее-бомбоубежище ребенку устроили теплое местечко для ночлега, одели ее тепло, обеспечили пищей, а ночью Анна Степановна ходила к Розе спать. В сумерки муж Скляренко выводил Розу на свежий воздух… Забота о ребенке стала смыс лом жизни этих одиноких людей. С Розой (которую они, неизвестно почему, назвали Аллой) они беседовали, как с взрослой, рассказывали ей о двух своих сыновьях, которые находятся на фронте, изливали перед ней свою душу.
Так Роза прожила в траншее месяц. Днем света божьего не видела. Вдруг разнеслась весть: наш десант высадился в Феодосию! И действительно, вскоре в доме Скляренко разместился штаб десантников.
Началась новая жизнь. Роза-Алла перебралась из траншеи в дом. Днем она гуляла по улице, сколько хотела. Штабные командиры и красноармейцы носились с ней.
Но в это время десант решил эвакуироваться. Однако первое, что сделали наши бойцы, – они обоих Скляренко и ребенка переправили на Большую землю.
При переезде через водный рубеж случилось несчастье: немцы обстреляли их и убили Скляренко-отца.
Анна Степановна с ребенком уехала в Ташкент и там поселилась. Однажды до них дошло письмо от младшего сына с фронта. Он писал, что ранен и едет в Ташкент на лечение.
Сейчас Роза-Алла со своей второй матерью Анной Степановной в Москве у сына. Он теперь студент Художественного института. Живут они втроем очень дружно. Аллу никому отдавать не хотят, да и Алла-Роза от них никуда уходить не желает.
Записал Лев Квитко[273]
Уничтожение еврейских колоний в Крыму
Из актов ЧГК
Привожу несколько актов об убийствах в еврейских колониях в районе Евпатории. Жертвы в большинстве своем – дети, женщины, больные и старики. Более сильные и выносливые были вывезены в районные центры и там убиты.
Село Икор[274] (из акта):
С первого же дня оккупации Икорского сельсовета палачи начали свое кровавое дело – уничтожение мирных советских граждан, не щадя никого, ни стариков, ни грудных детей.
Все еврейское население было взято на строгий учет и переносило пытки, ожидая с минуты на минуту смерти, так как в городе к тому времени все евреи были уже убиты.
Зная, что они обречены на гибель, эти люди все же работали, а после работы их вели на расстрел.
Уничтожение евреев происходило в двух километрах от села, где расстрелянных бросали в глубокий колодец. Некоторых туда бросали живьем. Погиб тридцать один человек – старики, больные, беременные женщины и дети[275]. Комиссия подчеркивает зверства, учиненные над женой и детьми старшего лейтенанта Савченко. Эта женщина, еврейка, оставалась в Икоре еще в течение полутора месяцев после уничтожения евреев в этом селе. Она была не похожа на еврейку. Однажды село проезжала немецкая часть. Немцы расстреляли ее вместе с четырехлетней девочкой и двухнедельным мальчиком в девяноста метрах от ее дома.
Жертвой немецких злодеяний были не только евреи. После десанта в Евпатории, когда некоторым красноармейцам и матросам удалось разбрестись, спрятаться, нашлись предатели, которые их выдали. После ужасных пыток были расстреляны двадцать один человек и еще семеро лучших сынов народа. Районная комиссия удовлетворила просьбу старшего лейтенанта Савченко и поставила на площади в Икоре памятник невинно замученным советским людям и героям-десантникам.
Председатель Комиссии – КнязевМайор – МарченкоСт. лейтенант – СавченкоПредседатель колхоза «Икор» – Муратов
В селе Икор мы зашли в дом Раи Фельдман, уже вернувшейся из эвакуации с Урала. В доме у Раи Фельдман чисто, прохладно, обставлено по-хозяйски, как если бы она и не уезжала отсюда. Стены выбелены, сверху тянется каемочка карниза. Пол покрашен, лежит коврик. На полке возле печи – ряд бутылей с солениями и настойками, совсем как в лучшие довоенные времена.
Из большого ящика в сенях она достает арбузы и дыни, нарезает их и щедро угощает нас, подает свежий, пахучий деревенский хлеб.
– Почему, – говорит она, – меня не предупредили о том, что вы должны прийти, я бы зайца зажарила.
– Откуда у вас зайцы?
– Сын ловит.
Приходит сын. Это – одичавший мальчик лет десяти. Первое, что приходит в голову при виде него, – скорее восстановить взорванную немцами школу, усадить мальчика за парту!