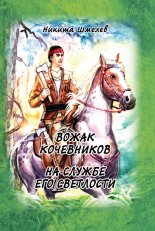Неизвестная «Черная книга» Альтман Илья
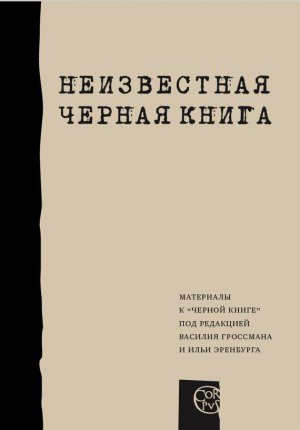
Роберт Кантарович при помощи сестер Ольги и Елены занимается в подвале сбором всех газет, выходивших в Одессе в период оккупации. Газеты сохранены.
В феврале 1942 года Ольга и Елена Кантарович были арестованы жандармерией по обвинению в еврействе и как якобы оставленные по заданию органов НКВД для подрывной работы в городе. Был произведен обыск в квартире с целью задержания Роберта Кантаровича (свидетель Исаев – просп. Шмидта, № 14), но последний обнаружен не был.
В жандармерии Ольга и Елена подвергаются избиениям, но за выкуп освобождаются. С 22 мая 1942 года, с момента перевода Ольги Кантарович в Одесскую тюрьму из военно-полевого суда в связи с новым арестом и обвинением при наличии вещественных доказательств – фальшивого паспорта со штампом о ее пребывании в Львове, начинается более конкретная работа в тюрьме по связи тюрьмы с волей через Кантарович Елену, которая, будучи на воле, получает сводки Совинформбюро от брата Роберта, передавая их вместе с местными газетами ежедневно в тюрьму через Ольгу Кантарович посредством свиданий и передач. За взятки охране тюрьмы сводки Совинформбюро передавались в складках вещей, на дне корзины и в вареных варениках, кроме того, Елена Кантарович организовывала помощь для партизан, евреев, военнопленных, находившихся в тюрьме, в виде продуктовых передач, которые передавались Ольгой Кантарович, и последняя распространяла передачи среди этой категории товарищей.
Ольга Кантарович через сестру Елену из тюрьмы передавала большое количество разных записок на волю, записки доставлялись по адресатам.
Ольга Кантарович в самой тюрьме получаемые сводки Совинформбюро, газеты – распространяла через товарищей Скули, Бочковского, Доброва, Боровского, Фелюву Наташу по камерам как в 1-м, так и во 2-м корпусах тюрьмы. Вся эта работа проходила до 25 октября 1942 года, то есть до освобождения Ольги Кантарович из тюрьмы за выкуп (взятка секретарю тюрьмы Кормушу).
Кантарович Елена, будучи на воле, распространяет на базарах, в трамвае, под тюрьмой[135], где есть возможность, устно сводки Совинформбюро, помогает женщинам под тюрьмой за взятки офицерам, солдатам – получать свидания и передавать передачи (свидетели Кучук Клавдия – Троицкая, 45, Калашникова Нина – Раскидайловская, № 1).
С 28 октября 1942 года, т. е. сейчас же после освобождения Ольги Кантарович из тюрьмы, последняя, зная уже сама нужды томящихся в тюрьме партизан, евреев, коммунистов, военнопленных, вместе с сестрой Еленой организовывала женщин под тюрьмой, в домах для оказания помощи голодающим и умирающим от голода в тюрьме (выдавалось в сутки 100 г мамалыги и вода-баланда).
Наряду со сводками Совинформбюро, газетами, поступавшими в тюрьму от них для голодающих, они приносили и пищу, передавая все это через товарища Доброва П., продолжая поддерживать связь с Мишей Бочковским, Федором Скули, которым также передавали литературу. Бывали случаи в дни передач, а их было много, когда Кантарович Ольга и Елена за подкуп офицеров из охраны тюрьмы с организованными ими женщинами приносили прямо в тюрьму, на круг и в вестибюль, еду, одежду и через того же Доброва П., заранее знавшего от Бочковского Миши, что они придут, распределяли продукты и одежду среди голодающих партизан, евреев, коммунистов (особенно помогая еврейским детям), которых выводил Добров из камер на круг и в вестибюль посредством подкупа гардиянов[136], на тот момент дежуривших.
23 декабря 1942 года и 8 февраля 1943 года из тюрьмы были два этапа, Кантарович Ольга и Елена, узнав от товарищей Бочковского и Скули об этих предполагаемых этапах, получив от них задание, организовали передачу как продуктами, так и одеждой и деньгами для этапированных, принеся все это под тюрьму, частично раздавая под тюрьмой. В тюрьме раздача проводилась через Мишу Бочковского и Доброва П., под тюрьмой раздавали Кантарович и организованные ими женщины.
Безусловно, вся эта работа по оказанию материальной помощи, проводимая продолжительное время для голодающих в тюрьме, проводимая с воли Кантарович Ольгой и Еленой при помощи женщин, а в тюрьме с помощью Бочковского, Скули и Доброва П., была сопряжена с некоторым риском и рядом неприятностей. Были случаи, когда Бочковского Мишу за это закрывали в карцер, а Доброва жандармы и гардияны избивали (те, которые не были подкуплены), однако все это не останавливало никого. Товарищи Скули, Бочковский, Добров, получая с воли от Кантарович Ольги и Елены сводки Совинформбюро, газеты, – передавали все это из камеры в камеру, с этажа на этаж, с корпуса в корпус, поддерживая голодающих (свидетели Райкис Шура, работает в порту, Ободзинская Мария – Баранова, 15, Якерс – К. Маркса, 18, Николенко П. З. – Военный спуск, 3/43).
В феврале 1943 года через товарищей Бочковского и Скули передаются в тюрьму Кантарович Ольгой и Еленой материалы, посвященные годовщине РККА в 1943 году, полученные Кантарович Ольгой и Еленой дома у себя от товарища Мироненко В. Ф. (Уютная, № 8), которая работала в подпольной организации в группе товарища Василькова, а доктору Стояновой Кантаровичами был отнесен один экземпляр этих материалов для читки их среди работников Медицинского института по системе: «Прочел – передай другому» (свидетель доктор Стоянова – ул. Торговая, 49). Кантарович Ольга и Елена продолжают на базарах, под тюрьмой устно распространять сводки Совинформбюро, невзирая на то, что Бочковского Мишу выслали в лагерь Вапнярка, а Скули Федора выпустили на волю (свидетель Новицкий – Леккерта, № 6).
С июня месяца 1943 года для еще лучшей работы и связи с тюрьмой Кантарович Ольга и Елена поступают на работу продавщицами в продуктовый магазин, находящийся против тюрьмы, к владелице Бобровской Ядвиге, и, работая продавщицами, они через находящихся в тюрьме старых заключенных, которых они, Кантаровичи, знали по тюрьме, – товарищей Селинова Михаила, Габрилиана Михаила, налаживают связь и работу, которая принимает более расширенные размеры, потому что Селинов и Габрилиан имеют возможность выходить за ворота тюрьмы и заходить в магазин (как носившие передачи с улицы по камерам).
Эти создавшиеся условия дали возможность продолжать передавать в тюрьму сводки Совинформбюро, газеты, вести, переписку с волей и, наоборот, в большем масштабе (вся почта проходила в основном через магазин). В период, когда в тюрьме были карантины и передач тюрьма не принимала, то в магазин женщины приносили передачи, и Кантарович, имея уже связь с жандармами и гардиянами, посредством подкупа последних, передавали передачи в тюрьму по назначению, организовывали свидания (так как свидания были запрещены), особенно проводя эту работу для группы сельских партизан сел Варваровки и Александровки (свидетели Николенко П. – Военный спуск, № 3, Савельев А. с женой – Петропавловская, 29, Катрич Иван и Смирнов, жители села Варваровки).
Товарищ Забора Елена – также получала от Кантарович из магазина продукты и деньги, приходя под тюрьму, передавая все получаемое и свое принесенное голодающим в тюрьму. Кроме этого, Боровский М. (ул. Лагерная, возле тюрьмы) получал от Кантарович сводки Совинформбюро для распространения последних, где это возможно, затем он, Боровский, помогает Кантарович Ольге спасти удравшую при помощи последней из тюрьмы Татьяну Заславскую, имевшую 25 лет по суду, которую переодевают в магазине и выводят к Боровскому домой (свидетельствуют адвокат Бродский – ул. К. Маркса, № 20, Савельев – Петропавловская, № 29).
Наряду с проводимой работой в тюрьме, Кантарович Ольга и Елена организовали работу среди военнопленных РККА, находившихся неподалеку от тюрьмы в лагере, а именно приходившим в магазин военнопленным передавались устно сводки Совинформбюро, а также частично оказывали материальную помощь военнопленным в виде продуктов, в результате чего в добровольческий штаб № 117 поступает донос Дмитрия Васильева на Кантаровичей о том, что они евреи и занимаются в магазине подпольной работой во вред существующего строя, в результате чего у Кантаровичей был на квартире обыск, никаких улик не было обнаружено, и за взятку Кантаровичи у агента забрали этот донос, откуда и узнали автора доноса. Донос был сожжен в присутствии агента тут же дома на квартире Кантаровичей.
5 февраля 1944 года Кантарович Елену арестовывают как еврейку и отправляют в тюрьму, где она продолжает, получая от сестры Ольги через Мишу Селинова сводки Совинфорбюро, газеты, – распространять последние среди женщин в 5-м корпусе.
Сестра Кантарович Ольга продолжает держать связь с товарищем Скули на воле, получая от него указания.
29 февраля 1944 года Кантарович Елена была освобождена из тюрьмы полковником-прокурором военно-полевого суда Салтан за взятку (имеется справка об этническом происхождении), а 30 февраля 1944 года в доме Кантарович полиция 1-го района производит обыск по обвинению Кантарович в еврействе (но за взятку дело снова прекращается).
При выходе из тюрьмы Кантарович Елена, последняя с сестрой Ольгой, организовывают побег Селинову Михаилу, который продолжал все время передавать почту (сводки, газеты и т. п.) из магазина в тюрьму и обратно, вплоть до побега, т. е. 16 марта 1944 года, через Доброва Петра по 1-му корпусу, Николенко П. по 3-му корпусу и Сойфера по 2-му корпусу (расстрелян).
16 марта 1944 года Селинов Михаил вечером совершает побег при помощи Кантаровичей, последние его направляют на квартиру в город, где он находится до прихода Красной Армии, и 11 апреля направляется в действующую Красную Армию.
Перед сдачей тюрьмы румынами немцам румыны за взятки освобождали многих заключенных, в частности, были освобождены при помощи Кантаровичей – товарищ Добровольский, осужденный на 25 лет за хранение оружия (выкуплен через своего дядьку Каменчука – Становая, 10/35), Тимченко, осужденный к шести годам тюрьмы за листовки советского содержания (Лагерная, № 47). Кроме того, Кантаровичи помогали женщинам связаться с секретарем тюрьмы для выпуска через последнего за взятки своих родственников (свидетельствуют Тимченко Валентина – Лагерная, № 47, Драгомирецкая – Лагерная, № 13).
В первых числах апреля 1944 года, после ухода из тюрьмы немецкого карательного отряда, Кантаровичи уходят из магазина под тюрьмой, переключив свою работу по распространению сводок Совинформбюро на базары (устно при продаже пирожных с лотка), и эта работа проводилась до 8 апреля 1944 года.
При отходе румыно-немецких войск на квартире Кантаровичей дополнительно к скрывавшимся два с половиной года еще добавляется шесть человек, мужчин, боявшихся попасть в облавы по городу и быть либо угнанными в Германию, либо уничтоженными (свидетельствуют Кочук Анатолий – Троицкая, № 45, Деонченко Андрей и Михаил, Кванин с сыновьями – Авчиниковский пер., № 7).
В 1942 году во время нахождения в подвалах сигуранцы товарищей Скули, Николенко, Доброва – на Бебеля, 13, ими была организована работа по объявлению политической голодовки, которую произвела Лида Машковская, в результате чего она была вскоре освобождена, а по тюрьме в том же 1942 году этими же товарищами была проведена работа по объявлению политической голодовки, которую проводили Евгения Гловацкая (в результате чего была освобождена полковником-прокурором Салтан) и Бантышева Александра (также была освобождена).
В тюрьме в феврале 1943 года товарищи Николенко, Скули организовали бунт, так называемый табачный, после отобрания табака и спичек, в результате чего все было возвращено арестованным. В марте 1943 года были запрещены передачи в связи с побегами, и тут товарищи Скули с Николенко добились разрешения для всех арестованных покупать продукты питания через гардиянов в результате нового бунта.
С приходом в Одессу Красной Армии товарищ Скули сдает 110-му отряду ВОХР связи – 16 винтовок, 2000 патронов, пистолет-револьвер с патронами, машинку, радиоаппарат, моторы, насосы для восстановления связи – все хранившееся во время оккупации и извлеченное из кочегарки.
По требованию Обкома можем сдать при отчете комплекты газет, выходивших в Одессе при оккупации, печати – русская и румынская, стихи и письма, писанные в тюрьме и сохраненные до сих пор, а также фальшивый паспорт.
СкулиКантарович О.Кантарович Е.
Уважаемый товарищ Михоэлс![137]
Как радостно мне сегодня, когда могу написать Вам несколько строк, не боясь гестапо.
Вас, наверно, удивит, почему именно я к Вам обратилась, а это потому, что сильно тяжело чувствовать унижение, но еще больше, когда на протяжении трех лет, невзирая на весь риск, ведешь борьбу с существующим строем румынской оккупации.
А теперь тебя стараются затереть. Мне могли дать образование, мне мои родные дали воспитание, но родить меня другой нации не могли.
А теперь мне приходится терпеть и видеть, как труд и риск затирается.
Вы будете сами читать доклад, и Вам кое-что станет понятно.
У меня к Вам величайшая просьба, и я думаю, Вы сумеете исполнить. Прошу выслать мне временный пропуск на приезд к Вам, и тогда я сумею большее Вам досказать.
Если не сумеете, то не делайте во вред Вашему положению.
Заранее благодарна.
[1944]
Западная Украина
Лагерь принудительных работ
Воспоминания Степана Якимовича Шенфельда
[1943]
[Львов, ул. Яновская, 134]
Это было осенью 1942 года. Дождливые тучи стояли над городом Львовом. Начало ноября месяца принесло уже и морозы.
В субботу 14-го, ранним утром, как и всегда, я поднялся из моей складной койки (из-за тесноты применялись складные кровати), помылся и стал одеваться в драный комбинезон. Поднялись и все мои сожители. (В маленькой комнате проживали две семьи.) Моя бедная матушка дала мне позавтракать, и я вышел из дома, направляясь на работу. Было еще темно. Вонючие, грязные лужи на улицах еврейского квартала замерзли, и воздух был относительно чист, и почти не чувствовалось постоянно господствующего здесь запаха. В темноте видны были силуэты людей, направляющихся на места работы. Все шли спеша. Кое-кто на ходу кончал свой скупой завтрак. У каждого на правой руке виднелась белая повязка с синей шестиконечной звездой, отличительным знаком евреев. Я шел быстро. Прошел дверь в заборе, закрывающем квартал, сразу же окружили меня перекупщики, торгующие хлебом, блинами, варениками по невероятно высоким ценам. Так как жителям еврейского квартала выдавалось только сто граммов хлеба в день, население голодало. Питалось оно тем, что могло покупать у спекулянтов неевреев, имеющих связь с деревнями, взамен за одежду или другие ценности, которые продавали по безобразно низким ценам. Кое-кто из выходящих из квартала, так называемого гетто, покупал кое-что и продолжал спешно идти. Я смешался с толпой трудящихся из других кварталов города. Почти у всех те же самые утомленные одиннадцати– или двенадцатичасовым рабочим днем лица. Только уж редко попадались белые повязки. Быстро поднялся по крутой улице Яновской, повернул на улицу Перацкого и очутился перед подъездом учреждения, где работал рабочим. Свет раннего утра указал мне зеленую форму, стальной шлем, а в нем самом жирное зверское лицо часового. В испуге поднимаю руку к фуражке, стягиваю ее с головы. Хорошо помню это утро, когда нашелся перед [пропуск в тексте]. Ничего не подозревая, приблизился к караулу, и он схватил меня за плечо, бросил мою фуражку в уличную грязь и стал руками и ногами преподавать мне правила «учтивого» отношения к немецкому солдату. Машинально достаю из кармана справку с фотоснимком с места работы. Солдат смотрит на меня, на снимок и наконец машет рукой. Этот жест обозначает разрешение войти. Нахожусь на территории так называемого ГКП 547 (автомашинно-ремонтный парк). Направляюсь в отделение по уборке поломанных машин, металлов и т. п. В шесть часов начинается рабочий день. Рабочие шевелятся на площади, занимаемой отделением, передвигая ржавые, металлические части машин с места на место без смысла и цели, «как бы немец не заметил, что отдыхаешь». Один за одним тянутся часы. Только о том и думаешь, чтобы дождаться перерыва. Уже 7, 8, 9, все ближе и ближе, уже 10,11, 12, только полчаса осталось…
В три четверти двенадцатого – колокол. Удивленно бросаем работу. Как это возможно? Неужели подарили нам пятнадцать минут, смотрим вокруг и видим что-то необыкновенное; все ходы закрыты, а солдаты, наши начальники, с автоматами в руках. Через несколько минут нас устроили в три ряда и повели на площадь, где уже стояли рабочие-евреи из других отделений. Скоро пришли офицеры, командующие парком, во главе с майором. Все сразу узнали его по высокому росту и лицу, похожему на морду расового английского бульдога. «С сегодняшнего дня начиная, не будете после работы возвращаться в гетто. Мои солдаты будут провожать вас в лагерь принудительных работ СС», – сказал и ушел, а за ним офицеры. Выстроенных в пять рядов, нас повели Яновской улицей в сторону концентрационного лагеря. Скоро мы увидели на правой стороне кирпичный забор, вдоль которого прохаживались люди, одетые в черные формы с серыми воротами и манжетами и вооруженные винтовками. Это были «казаки»[139], охранники лагеря. В конце забора высится большая широкая парадная, над которой виднеется надпись, сделанная из многочисленных электрических лампочек: «Лагерь принудительных работ СС». Нас ввели в лагерь. «Казаки», караулящие при подъезде, встретили нас грубыми шутками. Мы находились на просторной площади, покрытой снегом. По двум сторонам площади стоят здания, возле которых работали оборванные, грязные люди с желтыми латами на спинах и грудях. По третьей стороне видны здания, в которых помещаются конторы лагеря, по четвертой стороне двойной забор из колючей проволоки и деревянные караульные башни, на которых стояли «казаки» с пулеметами. За забором находится сам настоящий лагерь. В углу забора находится дверь и будочка. Часы над будкой показывали один час. Нам велели стоять. Мы стояли на снегу и смотрели вокруг, ожидая какой-нибудь перемены. В три часа мы увидели лошадь, на которой ехал верхом хорошо всем известный кровожадный командир лагеря СС унтерштурмфюрер Густав Вильхаус. Приблизился к нам и остановил лошадь. Посчитал нас. Пятьсот с лишним человек. Офицер был недоволен: ожидал восемьсот. Почти триста человек сумели бежать по дороге. После подсчета обратился к нам с речью на немецком языке: «С сего момента вы являетесь жителями лагеря принудительных работ СС. Удаляться из лагеря на работу будете только с конвоем. Вас обязывает строжайшая железная дисциплина. За малейшую провинность ожидает вас смерть или на виселице, или расстрел. Будете разделены на бригады. За полный порядок в бригаде отвечает бригадир. Понятно всем?» «Понятно», – отвечаем. Вильхаус уезжает.
Приближаются к нам два эсэсовца с автоматами. Кроме автоматов, у каждого в руке кожаная плетка со свинцом на конце. Ведут нас в здание конторы. Каждого входящего в контору встречает эсэсовец Битнер: «Деньги у тебя есть, давай все!» Смотрит в карманы, в сумки, щупает одежду. У кого находит хотя одну спрятанную копейку, того бьет плеткой до крови, топает ногами. Забирает все документы, часы, кольца и т. п. Все документы бросает в мешок (как о том позже узнал, сжигают). Забирают тоже белые повязки. Служащие записывают фамилию, имя и другие данные. После этого наступает пришивание желтых лат с номером. В этот момент я почувствовал, что перестал быть собой, а стал просто членом концентрационного лагеря № 14.
Потом ведут группы человек по пятьдесят в зал, где работают заключенные парикмахеры. Всех стригут под нольку. Несмотря на то, что стрижка проводится для гигиены, я совсем уверен, что парикмахеры оставляют каждому своему гостю немалое количество насекомых, так как зал полон срезанных волос, кто знает, как долго здесь валяющихся, и сами же парикмахеры не очень-то чисты. В этом же зале пишут красным лаком ленты вдоль спин на одежде кандидатов. Все эти церемонии происходят в присутствии эсэсовцев, которые бьют свои жертвы, насмехаются и всяким способом издеваются над ними.
Повели нас в барак. Барак представляет собой длинное низкое здание, слагающееся из двух залов, между которыми находится коридор. Залы эти имеют вид каких-то странных кладовых с шестью рядами пятиэтажных полок.
С удивлением мы узнаем, что эти полки являются нарами, на которых будем спать. Мы заняли места. Было очень тесно, и кости болели от столкновения с твердыми досками. Потому что расстояние между нарами повыше и пониже было чересчур малое, нельзя было даже сесть прямо. При каждом движении лежащего надо мною товарища сыпалась в мои глаза пыль из досок его нар. Несмотря на мороз, господствующий на дворе, здесь было невыносимо жарко от дыхания сотен грудей. В десять часов вечера потушили свет. Все лежали на нарах. Возле дверей стояли так называемые орднеры, т. е. наблюдающие за порядком в бараке. Их начальником является лагерный полицейский, выдвинутый из заключенных, вооруженный резиновой палкой. В лагере пребывало тогда около пяти тысяч человек, в том числе около полутора тысяч поляков и украинцев, остальные евреи. Полицейских, власть которых ограничивалась только до евреев, было около десяти. Часть из них чувствовали себя прилично на своих постах: били, грабили и издевались, но часть из них помогали заключенным сколько могли. Все они, подлые и хорошие, знали, что их ожидает та же самая судьба, что всех евреев под фашистской властью. И действительно, начальники полиции менялись быстро, один за другим. Такова была судьба начальника Шефлера, которого немцы использовали при закапывании своих жертв в песчаных горах возле Львова, месте казни всех неудобных им ни в чем не повинных людей.
После одной из казней, которой жертвами пала группа детей и женщин и при которой присутствовал Шефлер, эсэсовцы, опасаясь оставить живого свидетеля своего преступления, расстреляли и его.
В половине четвертого утром второго дня моего заключения будит всех в бараке громкий голос лагерного полицейского Ормлянда: «Вставать, подъем, вставать!» Зажигается свет. На нарах начинается движение. Заключенные потягиваются по лестницам вниз. Понятно, что из-за тесноты топают по головам тех, которые стоят в узких проходах между рядами нар. Начинаются ссоры, ругань. Спускаюсь осторожно с четвертого этажа, где пролежал эту ночь. Благополучно приземлившись и никого не задев, направляюсь к выходу, помогая себе голосом и локтями. Перехожу коридор, где в углу полицейский угощает кого-то палкой. Выхожу наружу. На дворе еще полная ночь. Дует теплый ветер, и площадь, вокруг которой стоят бараки, покрылась противной глубокой грязью. Прыгая по менее болотистым местам, я приблизился к двери малого здания, распространяющего вокруг пронизывающую острую вонь. Перед дверью этой, как, наверное, все догадались, уборной, толпились оборванные, худые, сгорбленные, дрожащие от ветра существа, когда-то бывшие людьми.
Дождавшись очереди, я вошел в вонючий зал. И здесь, как снаружи, люди толпились и толкали друг друга. Вследствие этого нередко случалось, что едва стоящие на ослабленных ногах заключенные, поскользнувшись, падали в грязь. Почти все остальные имели столь окаменевшие совести, что большинство оправлялись, ляпая на упавших. И в этой невероятно противной атмосфере, в вони и грязи, при виде оправляющихся грязных тел, сосредоточились все встречи между знакомыми, а также торговля лагеря. Здесь торгуют хлебом, кашей, фруктами, одинокими кусками сахара, пилюльками сахарина. Иногда можно найти даже малое и грязное, пожатое запачканными руками пирожное. Поскорее ухожу оттуда и направляюсь к бараку. К счастью, не доходя к нему, я заметил опасность: изнутри толпой бежали мои товарищи. Над их плечами и головами поднималась и опускалась с ослепительной быстротой знакомого мне уже вида кожаная со свинцом плетка и доносился немецкий голос: «Быстрее, быстрее, ты еще здесь, еще не вышел! Идите умываться!» Мы направились к длинному зданию, где имелись краны со скупо текущей водой. Внутри толпа грязных человеческих теней. Умываться. Легко сказать, только трудно выполнить. Сырой ветер сквозит вдоль барака. Люди толпятся тесно, не только нельзя снять пиджак, но даже невозможно поднять руку к крану, ни сполоснуть сонные глаза. Наконец с помощью локтей «помылся». Чувствую обязанным объяснить значение этого слова, а именно, мыться значит сполоснуть руки и влажными пальцами тронуть веки и часть лица. Понятно, что о мыле никто и не думает. Таким образом, уже «очищенный» я вышел на двор и, чувствуя утренний холод на лице, высушился в отсутствии полотенца носовым платком. В полной уверенности могу сказать, что на каждого, кто посетил одну из двух выше мной описанных «гигиенических» институций, перелезли и перепрыгали целые отряды насекомых всякого вида, ищущих новые, богатые пищей территории.
После выхода из умывальной я очутился на малой площадке. По ее левой стороне увидел здание кухни с ее окошками, где выдавали длинным очередям заключенных редкую черную жидкость, т. н. кофе. По другую сторону площадки, наверно, для улучшения аппетита питающихся, в кухне стоит виселица.
Не имея посуды, я перешел площадку, направляясь к баракам, расположенным чуть ниже. Ничтожный свет осеннего пасмурного утра указывал два прямоугольно стоящих ряда однообразных желтых бараков длиной и шириной метров в десять-двенадцать. Каждых два барака были соединены коридором, образуя, таким образом, одно низкое здание длиной в 25, а шириной в десять-двенадцать метров. Кухня, умывальная и построенный рядом с ними самый большой, противный барак образовали вместе с вышеописанными бараками подкову, окружающую с трех сторон просторную, покрытую грязью площадь, по бугоркам и долинам которой струились грязные ручейки. Вокруг всех зданий и площади я увидел густой, метра в три, высокий забор из колючей проволоки… В расстоянии полутора метров от него второй, точно такой же, забор.
Между заборами прохаживался охранник – «казак», предатель, в такой же форме, как те, которых я видел, входя прежнего дня в лагерь. На полях и холмах за заборами виднелись вокруг лагеря башни.
На башнях стояли «казаки», вооруженные пулеметами. На каждой башне висели мощные прожектора, качающиеся под влиянием ветра. Тоже на заборах светили еще лампы. Слева за лагерем милые, уютные, незадолго до войны построенные дачи. Там проживают эсэсовцы, командующие лагерем. Наверное, спят спокойно на теплых кроватях. За мною высокие холмы, покрытые увядшей травой. Справа и напротив железнодорожный путь, а дальше в гуще попутанных рельсов Главный и Клепаровский вокзалы.
По рельсам ползут паровозы и тянут за собой ряды нагруженных вагонов, дыша со свистом и выпуская из своих труб тучи дыма.
Вот один из них быстро продвигается вправо, прячется на минуту-две в балке возле лагеря. Один за другим исчезают вагоны. Только облака черного дыма поднимаются из невидимого паровоза. А вот и он, его черное, блестящее тело указывается правее, и опять ряд красных вагонов, больших и малых, движется в снегу. Поезд поворачивает вправо и окончательно скрывается за холмами – опять вагон за вагоном тонет, как будто бы под землей. Еще десять вагонов, пять, два, один, и все исчезло. Куда направляется длинный ряд вагонов? Куда-то на восток, на восток, где храбрые бойцы страны свободы, страны цветущей жизни, страны счастья и радости борются за нашу общую Родину, за нашего мудрого, любимого отца, вождя и друга, за Сталина. И вдруг поднимается мне грудь жалостным вздохом, чувствую скорбь, что я нищий, заключенный в строжайшем концентрационном лагере, над которым свистит нагайка эсэсовцев и гремят выстрелы из пулеметов, не могу поехать этой дорогой на восток! На восток к бойцам социализма, чтобы в их рядах бороться за общее дело. Но знал, что моя мечта совершится в недалеком будущем.
Я направляюсь в «мой» барак. Прибыл туда как раз в тот момент, когда бригадир делил хлеб. Каждый заключенный получил один кусок. Кусок такой должен был весить по норме 175 граммов. Но в большинстве случаев не превышал весом 120 граммов. Хлеб был черен, полон отрубей, и его очень трудно было глотать. Я взял хлеб и поднялся на нары четвертого этажа, на мое место, потому что внизу было невыносимо тесно и все время люди толкали друг друга. Не успел еще скушать мой кусок хлеба, как внизу раздался голос лагерного полицейского: «Выходите и бегите на зарядку. Через десять минут барак должен быть пуст». Я спрятал недоеденный кусок хлеба в карман и стал ожидать момента, когда можно будет спуститься на пол, не делая никому вреда. Дождавшись, одним прыжком осунулся вниз, боясь, чтобы опять кто-нибудь не заградил мне дороги. Когда стоял уже на полу, услышал громкий голос полицейского: «Смиирно! Шапки снять!» В двери показывается зеленая форма и морда профессионального бандита. На плече висит автомат, в поднятой руке нагайка. Это шарфюрер Эплер. Все голоса молкнут. Слышны только поспешные удары сотен ног выходящих из барака о пол и свист плетки, ударяющей и плечи и головы выходящих. Через минуту и я дошел до двери. Нагайка опять свистнула, и я почувствовал на выбритом черепе острую пекучую боль. Я выскочил на двор, пощупал рукой голову и почувствовал под пальцами толстый шрам. При столкновении с холодным воздухом мне стало очень больно, и я быстро прикрыл голову. Я направился на большую площадь лагеря, где уже все бригады сформировались в пять рядов. Слышны были крики людей, ищущих свои отделения. Нашел свою группу и встал в ряд. Мы стояли долго в грязи, и я доел свой кусок хлеба. От нечего делать я стал присматриваться к окружающему. С удивлением заметил, что вся громадная площадь, расположенная между подковой зданий и забором лагеря, заполнена толпой оборванных, хилых существ. Просто непонятно было, куда все эти люди деваются ночью. И только нужно было вспомнить эти ряды пятиэтажных нар в бараках и невыносимую тесноту на нарах, чтобы понять этот удивительный и невероятный, а все-таки истинный факт. Вдруг донесся до моих ушей знакомый мне звук ударов нагайки о человеческие спины. Сзади за рядами заключенных, обернувшихся спинами к баракам и лицами к забору, незаметно появился шарфюрер Шенбах и стал угощать своей плеткой каждого, кто стоял поблизости, с целью привести дисциплину и порядок в ряды ослабевших во время долгого ожидания. Группа, среди которой я находился, стояла столь далеко от места, где «работал» Шенбах, что успела сама навести в своих рядах порядок, вследствие чего мы получили относительно малое количество ударов. Скоро после этого происшествия начался так называемый утренний аппель под командованием шарфюрера Коланко с помощью Шенбаха. «Шапки снять!» – раздается команда. Снимаем шапки. «Шапки надеть!» – кричит немец. Надеваем. Шапки снять! команда. Шапки надеть! повторяется. Такие упражнения проводятся по несколько десятков раз во время одного аппеля, не считаясь с погодой, летом и зимой, в дождь, снег, жару и мороз, пока это не надоест самому режиссеру «спектакля». При этом эсэсовцы ходят между рядами и учат заключенных правилам этого упражнения. Учеба происходит в главной мере с помощью плеток и розог, а роль языка заключается только в ругани и всякого вида криках на немецком языке, в большей или меньшей мере понятных. Затем слышна какая-нибудь речь о том, чего нельзя и что категорически строго запрещается, но никогда о том, что разрешается. Мы, стоящие на наиболее отдаленном крае площади, понимаем только одно: «Строжайше запрещается», произнесенное хриплым от крика голосом. Позже слышно только голос, но слов никак нельзя различить, кроме последних: «Поняли?!», и тогда вся толпа громко отвечает: «Поняли». Затем те, которые стояли поближе и получше слышали, рассказывают тем, которые не слышали, шепотом то, что немец говорил. Затем читают несколько фамилий. Это фамилии тех, которые будут наказаны или переведены из одной бригады в другую. В большинстве случаев вызванный не слышит фамилии. Немцы вызывают вторично или приказывают делать это служащему конторы лагеря так долго, пока заключенный не услышит. За то, что не прибежал при первом вызове, наказывают его на месте плеткой, не разрешая оправдываться.
Очень часто смертные приговоры бывают выполнены сразу же во время аппеля для указания всем остальным заключенным судьбы, ожидающей их за малейшее неповиновение.
Зависимо от вида «преступления» виновника или сразу убивают, или же дают ему перед смертью двадцать пять раз по голой заднице. Тела расстрелянных убирают на обыкновенных малых носилках для песка или камней, так что ноги и верхняя часть тела убитого качаются возле ног носящих носилки. Иногда приговоренных ведут меж заборами возле выхода из лагеря. Всем известно, что тот, кто войдет в это место, т. е., как принято говорить, «меж проволоки», выйдет оттуда только на смерть. Нередко немцы убивают заключенных, стоящих в рядах, без всякой причины, или ранят их, избивая плеткой. Зарядка кончилась.
Наконец раздается голос команды: «Ровным шагом вперед марш!» Колонны выходят из лагеря. Уже вышло несколько бригад, наступает наша очередь. Впереди слышно музыку, исполняющую какой-то марш. Властители лагеря создали капеллу из заключенных, обладающих музыкальным талантом, и видных артистов. Бригадир произносит команду: «Бригада, шагом марш! Шапки снять!» Проходим несколько шагов. Находимся у выхода из лагеря. Левее стоит желтая будочка, возле которой видно несколько эсэсовцев с плетками. Правее два проволочных забора. Между ними несколько человек. Некоторые лежат в грязи, другие сидят или стоят. Присмотревшись к одному из лежащих, я узнаю, что это покойник. Позже рассказали мне, что прошлым вечером немцы бросили его сюда как больного, и он ночью скончался. Мертвые глаза смотрят куда-то в бесконечное пространство стеклянным взором, смотрят спокойно и, можно даже сказать, радостно. Наверное, покойник радовался перед смертью, что впервые после нескольких месяцев перестанет бояться нагайки, что никто не будет издеваться над ним, а тело его не будет чувствовать боли, утомления, холода, голода, что впервые получит отдых – бесконечный, заслуженный отдых. Один полуживой-полумертвый лежал, опершись на покойного. Грудь его дышала с тяжелым стоном. Лицо он имел худое и поросшее редкими, седеющими, короткими волосами. Казалось, что бедный больной уже умирает, только одни глаза отрицали это, нервно передвигая взор с одного объекта на другой, горели каким-то сильным странным блеском. Глаза его столь обращали на себя внимание, что смотрящему на них казалось, что они занимают половину лица. Два заключенных стояли, опершись на забор, и смотрели грустно на передвигающиеся колонны выходящих из лагеря. Ибо знали, что они уж только однажды перешагнут эту дверь, когда через несколько часов нагрузят их на автомашину и повезут в противоположный край города к песчаным горам, где окончится их жизненный путь. Лиц остальных не было видно.
Бригадир, бледный и дрожащий, становится смирно перед шарфюрером Коланко: «Бригада ГКП, утиль отдел, пятьдесят три человека». Немец хриплым голосом командует: «Ровным шагом вперед марш!» Трогаем с места. Эсэсовцы считают нас. Впереди возле здания конторы стоит оркестр и, напрягая все свои силы, исполняет все тот же самый марш. Поворачиваем вправо. Прошедший несколько шагов бригадир командует: «Шапки надеть!» Так как наше учреждение не работает в воскресенье, останавливаемся на площади возле лагеря. Через дверь входят остальные бригады. Кое-какие идут прямо, направляясь на места работы. Часть по поводу воскресенья поворачивает вправо и становится рядом с нами. Видно через заборы, как толпа на площади в лагере становится все меньше и меньше. Бригада за бригадой дефилирует перед эсэсовцами при выходе. Несколько раз отделяют кого-то от его колонны. Немцы бьют его со всех сторон плетками и вталкивают «меж проволокой». Группа между заборами растет.
Наконец выходит последняя бригада. Оркестр трогает и, играя все тот же марш, входит на территорию лагеря.
Приближается к нам полицейский и сообщает, что будем работать при очистке площади, на которой находимся, а также при сортировке досок, брусов и прочих материалов, которыми забросана площадь.
Начинается «работа». Руководят ею десятники бригад, которые занимаются здесь постоянно. Мы будем работать здесь только сегодня, т. е. в воскресенье. Наше задание заключается в том, чтобы перенести несколько куч материала из одних мест в другое, ибо другой работы нет, а заключенный ведь не имеет права на отдых. Вместе с одним моим товарищем выбираем легкую, но длинную доску, поднимаем ее на плечи и несем медленным шагом вокруг всей площади. Затем мой товарищ кричит изо всех сил: «Раз, два – бросили!» Бросаем доску. Поднимаем другую, идем с ней обратно и опять: «Раз, два – бросили!»
Повторяем эту игру, пока не надоест. Тогда прячемся за кучу материала. Немножко погодя выходим и продолжаем «работать». Таким способом трудятся и все другие. Бригадиры громко кричат и ходят с места на место, как будто бы указывая, куда бросать, откуда убирать и как укладывать материал. Вся эта толпа имеет для смотрящего вид очень занятой и думающий только о том, чтобы лучше работать. Все это продолжается до прибытия на площадь какого-нибудь немца. Эсэсовец бьет каждого, кто попадает под его плетку. Бьет за то, что рабочий слишком мало материала поднял, за то, что слишком медленно работает. Хотя каждый стремится не дать причины для наказания, бьет и ни за что, для того лишь, чтобы насытить свой садизм. Так как площадь лежит вне территории лагеря, охраняют ее «казаки». Считаясь с тем, что зима приближается, эти молодцы ходят между работающими и подготовляются ко встрече мороза, а именно – грабят перчатки. Через несколько минут это уже всем известно. Прячем перчатки в карманах, но и это не помогает. «Казаки», не находя их на руках, не стесняются и ищут в карманах, оставляя только совсем драные. После такого рабочего дня ни у кого не найдешь пару хороших или даже мало драных перчаток.
В 11.30 перерыв. Бросаем работу, становимся в группы и идем к кухне. Возле будки при входе в лагерь считают нас. Перед окнами кухни длинные очереди. Наша бригада становится в очередь, ожидает супа. Я одолжил котелок у знакомого, который уже пообедал. На дне котелка была ложка песку. Я пошел помыть посуду. Когда возвращался, увидел то, чего до этого случайно не заметил. На виселице возле кухни висел труп человека, но висел на ногах. Лицо имел пухлое и покрасневшее. Руки тоже пухлые висели вниз, качаясь на ветру. Фуражка его лежала в грязи под трупом. Я почувствовал дрожь. Но голод слишком мне надоедал и, разыскавши мое место, встал в очередь. Наконец, дождался.
Подошел к окошку и поставил котелок на бляху над большим котлом, из которого поднимался густой пар. Повар вынул разливную ложку и налил в мой сосуд. Суп, с размахом налитый, разлился частично и поплыл обратно в котел, сполоснувши мне руку. Посмотревши в сосуд, я увидел серую жидкость, а в ней несколько картошек, сваренных с лушпайками[140].
Уходя от кухни, еще раз взглянул на виселицу. Возле нее стоял сейчас эсэсовец Розенов, незаметно появившийся. Зверь этот поднял из грязи фуражку покойного и, смеясь, натянул ее на его ногу. Затем стал плеткой бить мертвое тело, все время дико смеясь. Больше я уже не видел, ибо побежал быстро в барак. Скушал суп, хотя распространял он вонь гниющей картошки, кроме которой ничего другого в нем не нашел. Я чувствовал столь сильный голод, что слопал даже лушпайки. На дне котелка и сейчас осталась ложка песку.
Я думал уже выйти из барака, когда увидел двух людей, идущих с супом из кухни. Лица их были облиты кровью и выглядели, как будто бы порезанные ножом. На мой вопрос один из них ответил, что Розенов, поигравши с трупом, стал бить живых. Попало большинству ожидающих супа.
В полпервого кончается перерыв. Опять выходим на работу. Вечером после работы идем в барак. Как ни крутились, как ни бездействовали, все же таки мы утомлены. Получаем хлеб столько, сколько и утром. Ложимся на нары. В десять часов тушится свет. Начинается вторая моя ночь в лагере.
Утро следующего дня в общих чертах похоже на предыдущее. Разница заключается только в том, что ужасы лагерного режима не производят на меня такого сильного впечатления. Так же, как и в первый день, происходит зарядка, так же с дрожью снимаем шапки у выхода. Там стоит в ожидании группа «казаков», чуть дальше отделение «еврейской службы» порядка, которого члены служат охранниками. Из последней группы отделяются два человека и идут возле нас. Это наш конвой. Проходим возле исполняющего непременно один и тот же марш оркестра и выходим на улицу Яновскую. Впервые вышли из лагеря! По тротуарам движутся одинокие люди. Как же мы им завидуем, их относительной свободе. Ведь они недавно поднялись из своих кроватей, помылись, оделись и, попрощавшись с родными, вышли из дома. Они надеются вернуться домой, где с любовью их ожидают родные. Правда, и они не знают, что с ними может случиться через ближайших десять минут, ведь и над ними висят черные тучи гитлеровской власти, гитлеровского нового порядка в Европе, они могут быть арестованы, вывезены в Германию, в концлагерь, могут быть расстреляны, но мы чувствовали, что наше положение хуже всех других.
Когда мы удалились немного от забора лагеря и принадлежащих к нему мастерских, мы заметили среди прохожих несколько человек с белыми повязками на руках. Это были родственники заключенных, пришедшие сюда, чтобы их увидеть хотя бы проходящих по улице, принести им пакетики с пищей или деньги.
Я стал смотреть вокруг, ища глазами. В самом деле, заметил отца. Отец тоже увидел меня.
Не стану рассказывать о нашей встрече. Скажу только, что получил пакетик с хлебом и маслом и немного денег. Как раз тогда, когда успел получить все это и стал на ходу рассказывать отцу все то, что со мной во время последних двух суток случилось, прибежал откуда-то сзади «казак», охраняющий какую-то бригаду, которая шла сзади нас.
Бандит схватил моего отца, потянул его в сторону, кинул на землю и затем стал смотреть в его карманы. Взял найденные деньги (к счастью, немного), принялся за перчатки. Снимая перчатки с ладоней отца, заметил на его руке часы, которые тоже пали жертвой бандита. Во время всей этой операции бил отца, оставив ему несколько ран на голове. Отныне отец, не переставая встречать меня ежедневно, стал осторожным и избежал «казаков».
[Письмо Я. З. Шенфельда сыну на фронт]
Дорогой, любимый сыночку!
Не знаю, жив ли ты или нет. Если тебя нет между живыми, могу утешаться только тем, что ты не погиб в рабстве, а ушел, как герой, павший за свободу и независимость Родины.
Если ты жив, прими мой отцовский привет. Помни дорогую мать, твоего брата Зигмунта, погибших от рук фашистов, и неси немцам мщение и смерть.
Твой отец[141][Не позднее 6 апреля 1945 г.]
Отомстите!
Прощальные записи на стенах синагоги в Ковеле Волынской области. Письмо сержанта С. Н. Грутмана И. Г. Эренбургу
В начале сентября сего года мне пришлось быть в гор. Ковель для розысков своей матери и тещи. Я знал уже их судьбу, однако мне хотелось найти хоть что-нибудь от них на память, может быть, фото или что другое. Приехал я в Ковель ночью. Скоро с рассветом начали вырисовываться развалины города. Сердце сжалось от тоски и боли. В 1940 году приехал я в Ковель и работал до начала войны завучем в еврейской школе. Какой это был живой, трудолюбивый городок!.. Развалины!.. Я прошел в «кварталы», где жили самые труженики, ремесленники, где жил и я, где осталась моя мать, где жили мои ученики, но я этого места не нашел. По приказу немецкого командования сами жители снесли свои дома. На этом месте камня на камне не осталось. Не видно никаких следов от домов: пустырь, заросший бурьяном в человеческий рост. Только одна большая синагога стоит внешне не тронутая, как на посмешище. Невольно я зашел в этот дом, где люди проходили свою жизнь от колыбели до могилы, где люди боготворили, благословляли труд и плоды своих трудов. Что ж представилось моим глазам? Огромное, пустое, двухэтажное помещение на тысячу-полторы человек. Алтарь снесли. Свитки Торы сожжены, скамеек нет, а стены испещрены дырками от автоматных очередей. Два огромных льва, единственные «живые» свидетели ужаснейшего зверства, которое творили гитлеровцы в этом некогда Божьем храме.
Невольно остановился на самом пороге, видя опустошение, поругание над святым домом, и уж думал уходить, но хотелось ближе рассмотреть и исследовать дыры в стенах: были ли тут бои? Или, быть может, это был опорный пункт немцев? При подходе к этим стенам – ужаснулся! Стены заговорили…[143]
Оказывается, все стены исписаны карандашом. Нет пустого места на стене. Это последние слова обреченных. Это прощание людей с белым светом. Сюда гитлеровцы сгоняли людей, отсюда они их, обобрав до нитки, голыми уводили на расстрел где-то за Ковель, на ковельское кладбище, болота и леса, а может быть, в Майданек, с которым Ковель имеет прямое железнодорожное сообщение. Тут же они также убивали людей, или ослабевших, или проклинавших убийц. Сильно забилось мое сердце, защемило, заныло. Я видел много горя, прошел всю Отечественную войну с первого дня, видел горе и страдания эвакуированных людей, протягивающих к нам руки, просящих нас не уходить, не оставлять их, когда мы вынуждены были отступать. Много видел городов и деревень, сожженных немцами; я крепился, знал, что мы еще вернемся, изгоним немца и отомстим за все и за всех, но тут я не выдержал… Может быть, тут последнее «прости» и моей матери?.. Я начал внимательно перечитывать надписи. Я спешил, ибо чувствовал, что ноги подкашиваются, слезы душили и мешали читать. Три с половиной года войны я крепился, крепился и заплакал. Мне почему-то было стыдно стен, как будто они говорили или думали обо мне: «Ты ушел и нас оставил, нас не взял с собой, ты знал, что с нами так будет, и оставил нас одних».
Надписей было так густо написано, что каждый старался обвести их рамочкой, чтобы лучше выделить свой крик о помощи, о мести. Написаны они были на разных языках: на еврейском, польском и русском. В каждой надписи четко вырисовываются слова: «Некоме!» (евр.), «Пометы!» (польск.), «Отомстите!» (рус.)[144] Надписи моей матери я не нашел: или я не мог отыскать ее среди этого множества записей, или мать молча присоединилась к этим призывам…
Перечислялись фамилии и имена целых семейств, даты расстрелов и обращения в заглавиях надписей к разным лицам, которым удалось уйти в партизаны, в Красную Армию, к тем, которых польская реакция изгнала из своей страны в далекую Америку, в Палестину и другие страны под лозунгом: «Жиды до Палестины!» Во всех надписях: «Отомстите!»
Вот некоторые записи. На еврейском языке:
Лейбу Сосна! Знай, что всех нас убили. Теперь иду я с женой и детьми на смерть.
Будь здоров. Твой брат Аврум. 20.8.
Дорогая сестра! Ты, возможно, спаслась, но если ты будешь в синагоге, прочти эти слова. Я нахожусь в синагоге и жду смерти. Будь счастлива и переживи ты эту кровавую войну. Помни о твоей сестре. Поля Фридман.
21.9. Бар Хана, Бар Зейлик, Аврум Сегал, Петл Сегал, Фалик Бар – пали 8 недель тому назад с шурином. Давид Сегал.
Ида Сойфер, Фридман Зейлик, Фридман с женой и с детьми, Церун Лейзер с дочерьми и Кац Сруль погибли от рук немецких убийц. Отомстите!
Гитл Зафран с ул. […] № 6, Рива Зафран погибли от резни в четверг 19.8.42 г.
К мести!
На польском языке:
Погибли Боря Розенфельд и жена Лама. 19.8.42.
20.8.42. Погибли Зелик, Тама, Ела Козен. Отомстите за нас!
Невинна крев жидовська нехай сплыне на вшистскых немцев. Пометы, пометы! Нехай их порун забие[145]. Курва их мать. Сруль Вайнштейн. 23.8.42 г.
На русском языке:
Лиза Райзен, жена Лейбиша Райзена. Мечта матери увидеться с единственной дочерью Бебой, проживающей в Дубно, не осуществилась. С большой болью уходит в могилу.
На втором этаже, в коридорах и на лестницах, надписей не было. Очевидно, туда обреченных не пускали, чтобы они не бросались из окон и из балконов…
Пусть наши союзники знают, что и к ним, к их армиям и народам также относятся эти призывы, ибо и среди них есть отцы и матери, братья и сестры, сыновья и дочери тех, которые погибли от рук гитлеровцев. Пусть польские реакционеры в Лондоне знают, что они пособники этих зверств, что они поддерживали Гитлера, они впустили его в свою страну и они же вели свою гнусную антисемитскую политику, обезоружившую народ против Гитлера.
Пусть знает весь мир, что их зовут к мести, что леди Гибб[146] – эта новая пятая, а может быть, шестая колонна, которая готовит новую войну.
Я еще не знаю всей ковельской трагедии, но знаю, что это будет трагедией многих народов и человечества, если восторжествует милосердие к убийцам.
Пусть знает леди Гибб, что никакие дипломатические ноты, никакие конференции, съезды, комитеты, общества, белые, коричневые, черные книги не спасут мир и человечество от новой войны и от варварства, а только огнем надо выкурить, выжечь разбойничьи гнезда, только «Катюшами» и любовью к человечеству.
Пусть также знает леди Гибб, что гитлеризм – это не только оружие против еврейской нации, а против и ее собственной. […]
2 декабря 1944 г.
Ликвидация гетто в Тернополе
Показание немецкого унтер-офицера П. Траугота
Это было в конце сентября или в начале октября [1942 года], когда началась ликвидация гетто в Тернополе[148]. Как заведующий фуражом 2-го батальона соединения БФ[149] я поехал в тот день в батальон. Там я узнал о первых известиях о начавшихся утром «акциях». Насколько было посвящено в это дело и осведомлено об этом командование батальона, мне неизвестно. Об этом могут дать более точные сведения капитан Казар или Подзян или адъютант старший лейтенант Джан и первый писарь батальона унтер-офицер Грубер. Прежде всего, с этим связано отношение полка, который находился в подчинении полевой комендатуры г. Львова, где он стоял. Одно очевидно: отдельные части батальона в этом принимали участие. Это была стрелковая рота, которая в это время находилась в казарме Франца Иосифа в Тернополе, как и части полка бронированного поезда, которые тоже там стояли. Рано утром была в этих частях поднята тревога, и они окружили гетто. Руководил этой «акцией» «зондердинст»[150] города Тернополя. Кроме нее, в этом принимали еще участие украинская полиция и полиция лагеря[151]. Они должны были помогать вытаскивать из различных потайных убежищ своих соотечественников. Они были, как мне известно, расстреляны последними в тот же день. Далее так называемые управляющие магазинами должны были продолжать свои функции до тех пор, пока «зондердинст» не принял от них магазина. Я еще хочу заметить, что в пекарне и на кухне люди работали до вечера, пока они, так сказать, не покормили своих палачей. «Акция» была разделена на следующие этапы: разыскать невооруженные жертвы и собрать их в одно место. Последние прятались в самых невозможных углах и убежищах. Это была приблизительно такая картина: перед гетто стояла большая толпа людей, которая состояла из жителей и посетителей, пришедших из города, как и солдат. Вдоль забора, который окружал гетто, стояла стража. На отдельных местах стояли даже пулеметы. Украинская полиция искала и вытаскивала жертвы из толпы и из убежищ. Полицию поддерживали солдаты. Я сам наблюдал следующее: в одном погребе одного дома, который находился слева от больницы, спрятались несколько человек. Украинская полиция и солдаты искали вход в этот погреб. Один житель, по-видимому, одного из близлежащих домов знал ход в это убежище и показал им его. Они проходили с большой осторожностью, потому что, как я потом узнал, в этом районе раздалось несколько выстрелов. Притом из одного отверстия бросили даже несколько ручных гранат. Когда жертвы вышли оттуда, их под стражей отвели на сборный пункт. Здесь я хочу упомянуть, что я в этот день находился в гетто и частично то, что я выше рассказал, сам видел. Я до тех пор не мог понять, что может произойти что-либо подобное. Эта страшная действительность дала мне возможность в этот день пережить все ужасы. Во время посещения гетто я был в больнице и в одной из квартир. Все было взломано, разбросано и лежало в страшном беспорядке. Под домом (подразумевается здесь больница) находился якобы бункер. По более поздним сведениям стало известно, что там замуровано около 60-100 человек. Это были так называемые более состоятельные и врачи. Как мне стало известно, этот бункер раскрыли несколько дней спустя («акция» продолжалась несколько дней) ввиду того, что не были еще обнаружены те тайные убежища. Мне известно, что «зондердинст» сделал даже снимки этого бункера. В один из последующих дней закололи одного унтер-офицера бронированного поезда, который, как говорили, принимал участие без того, чтобы получить соответствующий приказ, в поисках потайных убежищ.
Прежде чем продолжать, я хочу еще сообщить вам о циркулирующих слухах про коменданта лагеря. Он за день до этого сел в коляску и покинул лагерь и больше не возвращался. Те жертвы, которые шли на сборный пункт, должны были проходить мимо мертвых, которые уже там лежали. Их трупы лежали будто бы многие дни. Согнанные жертвы на сборный пункт должны были отдать все свои ценные вещи и все то, что у них оказывалось при себе. Нужно было раздеться; из одежды образовалась целая гора. В эту гору вещей зарылись несколько жертв, но их потом обнаружили и тут же на месте расстреляли. Если группы состояли из 200–300 лиц, то их отводили на место казни. Солдаты, сильно вооруженные, провожали эти транспорты, чтобы только никто из этих невинных не мог бы уйти. Жертвы должны были свой последний путь на место казни пройти пешком. Выходили они из нижних или задних ворот мимо бойни. Большая часть жителей заполняла улицы. Путь дальше проходил по мосту через Серет у Петойково. Здесь некоторые прыгали через мост в речку и были потом, по-видимому, застрелены провожающей их охраной. В одной из моих поездок на лодке я видел лежащий труп в воде. Место казни находилось в одной из котловин между Петойково и Загробела. Люди с украинского трудфронта вырыли там большие ямы.
Последний акт этого страшного преступления происходил примерно таким образом: пришедшие жертвы должны были на одном определенном месте раздеться почти догола и сесть друг около друга. Первые стояли в одном ряду перед ямой и должны были уже тут совершенно раздеться. Восемь-десять человек подходили потом к яме и садились на ее край лицом к яме. Резники из «зондердинста» проделывали свою работу. Один из них шел с пистолетом мимо этих жертв и стрелял каждому из них в затылок. Пинком ноги он тех, которые сами не падали, сбрасывал в яму. Их было три человека из «зондердинста», которые проводили этот процесс. Пока один беспрерывно стрелял, другой заряжал пистолет и уже заряженный пистолет передавал ему. Третий помогал пулеметом. Рассказывают, что эта команда людей не только в этом случае, но уже раньше на различных других местах проводила эти жуткие дела. Во время выполнения этой страшной деятельности они будто бы всегда находились под влиянием алкоголя. А ведь процесс расстрела проходил всегда вышеуказанным порядком. Во время этого происходили душераздирающие сцены. Но прежде всего всем бросалось в глаза, с каким спокойствием жертвы шли на смерть. Целые семьи водили на казнь. Перед этим они прощались и целовались. Любящие пары шли, крепко обнявшись, вступая на путь смерти. Расстрелы продолжались в этот день до вечера. Почти все были уничтожены. В следующие дни производились, как я уже упомянул, розыски спрятавшихся.
Унтер-офицер Паотуха ТрауготЗаведующий фуражом 2-го штаба батальона БФсоединения ФПН 57158 […]
Приписка:
Оберштурмфюрер Шнайдер из «зондердинста» города Тернополя управлял гетто.
[1942]
Трагедия в местечке Славута Каменец-Подольской области
Рассказы врача Войцещука, ксендза Милевского, учительницы Высоцкой, рабочей Федоровой, слесаря Енина
Славута – это небольшой городок Каменец-Подольской области, населенный до войны преимущественно евреями[153]. Около месяца тому назад Славута была освобождена Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков[154]. Тщетно мы искали здесь хоть одного еврея, который уцелел бы от расстрела. Должно было пройти не меньше месяца, прежде чем удалось установить более или менее полно картину зверской расправы, учиненной здесь немецкими палачами над беззащитным, ни в чем не повинным еврейским населением.
Все, что мы здесь узнали, документально подтверждено и засвидетельствовано заслуживающими доверия жителями города Славуты, в том числе русским врачом, старожилом города Славут, Войцещук, ксендзом местного костела Милевским, учительницей славутской школы Высоцкой, работницей маслозавода Федоровой и слесарем Ениным.
Вот что мы здесь узнали.
Немецкие оккупанты начали свою разбойничью деятельность в Славуте с преследования и уничтожения евреев. Все евреи обязаны были носить специальные повязки на рукаве. Их выгоняли на самые тяжелые физические работы и часто здесь же, на месте работ, расстреливали. Расстрелы производились организованно по приказу немецкого коменданта города Славута и неорганизованно – по произволу любого солдата и офицера.
Таким образом, к концу 1941 года немцы уничтожили в Славуте около пяти тысяч евреев. Среди них были женщины, старики и малые дети. Оставшихся в живых – около семи тысяч человек – немцы истребили путем массового расстрела вблизи водонапорной башни военного городка[155]. Эта водонапорная башня была немым свидетелем того, как в течение нескольких дней фашистские палачи зверски измывались над евреями, которых сгоняли сюда со всего города и из окрестных сел и местечек. Расстреливаемых заставляли раздеться и живьем ложиться в ямы, уже наполовину заполненные трупами. Обезумевшие от ужаса жертвы часто замертво падали в эти ямы. Здесь их расстреливали из автоматов. Документально установлено, что многие десятки евреев были закопаны живьем.
Фашистские офицеры, распоряжавшиеся этим адским делом, говорили солдатам: «Нечего на них тратить патроны, закапывайте!» Слесарь Енин, работавший в лагере для военнопленных, который помещался в военном городке, где производились расстрелы, рассказывает, что он своими глазами видел, как живых еврейских детей бросали в ямы и закапывали.
В общей сложности было уничтожено в Славуте и в окрестностях Славуты до двенадцати тысяч евреев. Живой свидетель, польский ксендз Милевский, рассказывает:
Перед расстрелами евреев сгоняли в особый квартал, огороженный колючей проволокой, а затем партиями выводили на расстрел. Кроме того, многих загоняли в погреба по двадцать пять – пятьдесят человек. Здесь люди погибали голодной смертью. В первые дни после прихода Красной Армии в подвале дома на Больничной улице, № 8 найдены были трупы шестнадцати умерщвленных немцами евреев.
Я не прибавил ни одного слова к тому, что мне рассказали живые свидетели чудовищных злодеяний, совершенных немцами в мирном украинском городке над беззащитными людьми моего народа. Никакая фантазия не в состоянии придумать того, что делали и продолжают делать немцы в оккупированных ими местах. Будь они прокляты во веки веков! Евреи! Никакой суд человеческий или божий не в состоянии найти правильную меру наказания этим врагам рода человеческого. Пусть ни одна еврейская душа не успокоится до тех пор, пока с лица земли не будут стерты и до конца уничтожены эти палачи еврейского народа.
Майор З. Г. ОстровскийДействующая армия, 14 февраля 1944 г.Полевая почта 48828
Судьба евреев местечка Единцы Хотинского уезда Черновицкой области
Из письма Рахиль Фрадис-Мильнер Р. А. Ковнатор
Уважаемая товарищ Ковнатор!
Получила Ваше письмо и прошу ответить, благодарная за внимательное отношение к моей семье.
5 июля 1941 года враги заняли местечко Единцы Хотинского уезда[157]. Население было застигнуто врасплох, не имея ни времени, ни возможностей эвакуироваться. До 28 июля в местечке царил дикий террор, в течение которого было расстреляно восемьсот человек[158], изнасиловано много молодых девушек, почти детей, не говоря уже о жестоких избиениях и грабеже. 28 июля все еврейское население было изгнано из местечка, в котором уже было собрано еврейское население из соседних местечек[159]. Среди них находились мои родители, старший брат с женой и двумя крошками, мать и сестра мужа и много родных и близких людей. Десятки тысяч людей были погнаны, как скот, подталкиваемые нагайками, прикладами и очень часто расстрелами[160]. Гнали без отдыха, жестоко, не давая напиться воды, ни остановиться, чтобы помочь умирающей матери или ребенку. Гнали сотнями километров из Бессарабии на Украину, обратно в Бессарабию и снова на Украину. Весь путь был усеян трупами. Ходили конвой за конвоем и оставляли на большой дороге умирающих детей, стариков, больных и просто потерявших жизненную силу от безумных переживаний, а последующий конвой встречали уже только голые трупы. Первой жертвой из моей семьи была семидесятипятилетняя мать моего мужа Рейзя Мильнер. Она осталась, умирающая, в шестидесяти километрах от дома.
Дочь хотела остаться с ней, но ее очень били, и соседи заставили ее пойти дальше. Бедную мать посадили под дерево, она попрощалась с дочерью, которую она сама просила пойти дальше, и осталась одна… Второй жертвой была сама дочь Маня, она осталась в лесу Косоуцы, где-то в районе Сорок. Она умерла с голоду стойко, без жалоб, не желая принимать никакой помощи. В этом лесу стояли несколько дней, и за дорогие вещи палачи приносили немного воды и пищи. Но вот погнали дальше, и снова та же картина: крики, избиения, ужас и смерть. Пала моя мать Цейтель Фрадис, она вывихнула себе ногу, и ее видели где-то замершей на большой дороге. Моя здоровая, жизнерадостная, деятельная мать, которая всю свою жизнь посвятила помощи больным и обездоленным, которая была идеальной матерью и идеальным человеком, должна была так закончить свой жизненный путь. Шли дальше… Пали дети моего брата. Две красавицы-девочки и его жена Песя Бронштейн. Мне рассказывали, что она просила Бога, когда дети засыпали, чтобы они больше не встали, чтобы не случилось, чтобы она умерла первой и дети остались сами переживать эти муки. Пали две сестры моего отца с мужьями. Последними этапами были села и колхозы вокруг Бершади, уезда Балты. Туда были согнаны остатки конвоев и помещены в неочищенных свинарнях и конюшнях без окон и дверей. Тут от грязи, холода и голода распространился тиф, и сотни людей умирали ежедневно без всякой помощи. По нескольку дней лежали вперемежку живые с мертвыми. Была известная молочарка около Ободовки, где погибли десятки тысяч людей. Последний привет из такого лагеря я имела следующий. Один знакомый из Черновиц, высланный в ноябре 1941 года, встретил моего отца в Бондаровке. Это был старый, дряхлый старик в лохмотьях, с большой бородой, он ходил искать пиявки для моего старшего брата Якова. Они остались последние из всей семьи. Брат пошел без разрешения к колодцу набрать ведро воды. Так его так били за это в голову, что он получил мозговое кровоизлияние. Отцу сказали, что для этого хорошо поставить пиявки, и он ходил просить, чтобы ему их достали. Когда наш знакомый сказал ему, что мы живем, он не переставал спрашивать: «И Шурик тоже, это правда, правда?» Скоро брат умер, а за ним и отец от голода, холода и потери всякой надежды и интереса в жизни. А брат мой был богатырской силы с железными мускулами, отца же я оставила в 1940 году здоровым, красивым, полным энергии и жизнеспособности. Шмил Фрадис, который прожил такую красивую жизнь, почитаемый всеми, кто мог предсказать ему такой скорбный конец. Мой младший брат Ксилик был ответственным работником Госбанка в Черновицах, стахановцем, молодой, способный, красивый, музыкант, он эвакуировался с Госбанком, и, поскольку нам рассказывали, его судьба была следующая. Поезд бомбили. У него было задание уничтожить какие-то важные документы или деньги. Он задание выполнил, выскочил последним из поезда без вещей и попал к немцам в плен. Его отправили в концлагерь, переводили из одного лагеря в другой и, наконец, расстреляли в Баре, где он лежит в массовой могиле. Я пишу обо всем этом, и сердце мое, как камень. Мне кажется, что если бы его резали, так и кровь не текла бы. Вы спрашиваете о том, что мы делаем. Мы оба работаем, мой муж инженером в Союззаготтрансе, я заведующей аптекой в железнодорожной больнице. Материально нам пока не повезло. Мы всего три месяца в Черновицах. Муж попал в общество, которое теперь организуется, штаты у них еще не утверждены, и за три месяца он не получил еще ни одного рубля зарплаты. Я поступила на работу, и через несколько дней больница закрылась на ремонт, а я пока до открытия работаю на полставки. Посылаю Вам фотокарточку сына, а людей, спасших его, не имею. Я им напишу, чтобы они прямо Вам послали, если успеют.
Хочу Вам еще описать несколько эпизодов и сценок из немецкого концлагеря, достойных пера и кино, конечно, больших специалистов, чем я.
В селе Чуков, четыре километра от нашего лагеря, находился наш приятель из Единец адвокат Давид Лернер с шестилетней девочкой, женой и семьей жены Аксельрод. Когда в сентябре убивали детей, им удалось спрятать девочку в мешок. Девочка была умная и тихая, и она была спасена. В течение трех недель отец носил девочку с собой на работу, и ребенок все время жил в мешке. Через три недели наш зверь Гениг[161] приехал к ним забирать хорошие вещи. Он подошел к мешку и ударил в него ногой, девочка вскрикнула и была раскрыта. Дикая злоба овладела палачом, он бил отца, бил ребенка и забрал у них все вещи, оставив всю семью почти без одежды. Все-таки девочку он не убил, она осталась в лагере и всю зиму прожила в смертном страхе, ожидая каждый день смерти. Пятого февраля уже при второй «акции» девочка была взята вместе с бабушкой. Безумный страх овладел ребенком, она так кричала всю дорогу на санях, что детское сердечко не выдержало и оборвалось. Ребенка к роковой яме принесла бабушка на руках уже мертвой. Об этом рассказали милиционеры[162], присутствовавшие при операции. Мать, узнав об этом, с ума сошла, ее расстреляли, вскоре убили отца и всю остальную семью.
В Немирове с нами было два старика из Черновиц – Моргенштерн и Визель. Старые, беспомощные, одинокие, они очень скоро завшивели и лежали отдельно в соломе. Один слабый вскоре умер. Когда пришли его хоронить, было распоряжение взять обоих. Бедный Визель просился, умолял, обещал, что он почистится. С мягкой улыбкой ему велели повернуться, выстрелили в затылок, и оба были брошены в общую яму.
Лагерь Зарудинцы[163]. Туда были привезены евреи из Печоры. Это тоже был лагерь смерти, но от голода и болезней. Оттуда выбрали более молодых и здоровых, остальных оставили в Печоре. Таким образом, оторвали матерей от грудных детей, детей от стариков-родителей, жен от мужей и т. д. Эти люди, пробывшие уже год в лагере, остались совершенно без вещей и денег и были в ужасном состоянии. Первого февраля 1943 года я пришла в лагерь проведать больных и увидела такую картину. Люди с тупыми лицами, потерявшими человеческое выражение, покрытые лохмотьями, босые, с телами, истерзанными чесоткой и самыми разнообразными язвами, которых медицина в нормальное время никогда не встретит, сидят на полу на каких-то тряпках и серьезно, озабоченно бьют вшей. Они так заняты своей работой, что даже не обращают внимания на мой приход, только такие, которые особенно нуждались в моей помощи, поднялись. И вдруг движение, крики, люди вскакивают, глаза блестят, некоторые плачут. В чем дело? Привезли хлеб… и, представьте себе, дают по целой буханке хлеба на каждого человека. Это что-то новое, вероятно, спасение близко, думают несчастные. Оказалось, что наши добросердечные аккуратные немцы, зная, что пятого будет «акция» и несколько дней не будут точно знать количества необходимого хлеба, так как нужно будет высчитать, сколько людей останется, то дали авансом по целому хлебу. Это мы узнали после несчастья.
После 5 февраля нас тоже перевели в этот лагерь.
Суровый зимний рассвет, еще темно на дворе, а нас уже нагайками гонят на работу. Наспех несчастные завязывают мешочки с соломой вокруг порванных ботинок, чтобы не отморозить ноги. Надевают старые одеяла на голову, обвязываются[164].
25 сентября 1945 г.
Белоруссия
Минск
В Минском гетто
Из записок партизана Михаила Гричаника
Когда немецкие оккупанты вступили в Минск, они издали приказ об обязательной регистрации мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Оказалось, что никакой регистрации проведено не было: всех, явившихся в указанное место на «регистрацию», немцы под конвоем угнали за город, на открытое поле…[166]
На поле кругом стояли часовые. Народ прибывал партия за партией. Ночью в открытом поле было холодно, люди обогревались, лежа друг возле друга.
Так прошла первая ночь на поле, наступил светлый, яркий день. Народу много, есть не дают. Очень жарко, хочется пить. Люди просят воды, но и ее не дают. Лишь только подходишь просить воды, солдаты стреляют в упор разрывными пулями. За то, что просили воды, были убиты во второй день больше десяти человек. Немцы заставили вырыть яму и закопать их. Кто еще дышал, того пристреливали.
Так кончился второй день. Наступила вторая ночь. Люди лежат голодные и холодные. Кто одет, а кто просто в летних рубашках: ведь шли они не на истязания, а на «учет». Наступил день. Народ прибывает. Вот показался немец с ведром и начал раздавать воду. Народ окружил и чуть не задавил его. Опять стреляют эти гады в народ!
Наступает восьмая ночь. Народ лежит на поле. Предупредили, чтобы не поднимались ночью, не то стрелять будут. Так прошла ночь. Часто стреляли из пулемета. Вдруг слышим крик: «Убили!» Люди поднимались по своим надобностям, а в них стреляли!
Вот лежит один человек. Пуля попала ему в поясницу и вышла из живота. Вырвала кишки. Он еще жив, просит записать его адрес и написать жене и детям, как он погиб. Подходит немец и спрашивает, кто ему «распорол живот ножом»…
Тринадцатый день. Десять часов утра. Приезжает машина. Объявляют, чтобы поляки отошли в левую сторону, русские – в правую, уголовные – отдельно; для евреев же отводится площадь возле речки. Площадь огорожена толстыми веревками. Начинают расходиться, как приказано. Уголовные пользуются этим моментом: у кого из евреев вырывают еду, у кого срывают плащ с плеч, у кого отнимают пиджак, сапоги. Доходит до того, что люди остаются в одном белье. Немцы стоят в стороне и смеются.
Кругом веревок стоят немцы с резиновыми дубинками, другие из них гонят евреев к веревкам, избивают дубинками. Уголовные помогают немцам гнать евреев. Возле веревок их опять встречают дубинками. Кто сопротивляется, того добивают до смерти, расстреливают. Вдруг объявляют из машины, что будут отпускать домой поляков. Затем новое объявление – будут отпускать русских, а насчет евреев ничего не говорят. Начинают отпускать часть поляков домой…
Семнадцатый день утром. К десяти часам приезжает машина с переводчиком. Объявляют, что все евреи – инженеры, врачи, техники, бухгалтеры, учителя и других интеллигентских профессий – должны записаться, – из лагеря их освободят и отправят на работу. Началась запись. Переписали всю интеллигенцию, построили и отвели в сторону от рабочих. Становится темно. Кроме евреев и военнопленных, на поле никого нет…
Девятнадцатый день. Под утро. Темно. Слышен гул машин. Машины подъезжают к интеллигентам, их сажают в машины и увозят «на работу». После отхода машин проходит минут двадцать и слышится пулеметная очередь. Спустя еще пятнадцать минут машины возвращаются и снова увозят людей. Так увезли всех интеллигентов[167], остались одни рабочие. Явился офицер, выбрал еще человек двести рабочих и таким же образом отправил их «на работу» пешком. Он объявил, что завтра поведут нас отсюда в другое место; там будет тепло, и дождь не будет лить…
Двадцатый день. Утро. На поле остались одни евреи. Явился отряд гестаповцев. Нас всех построили в ряды и повели через город. Кто пробовал подойти к нам, того расстреливали на месте. Всю дорогу до тюрьмы стояли часовые. Нас поместили на втором этаже в небольших камерах. Камеры забили битком. Было очень жарко. В каждой камере железная параша – вонь, дышать нечем. Люди по очереди становятся «в два этажа» (взбираясь друг на друга) возле решетки, чтобы подышать воздухом. Воды давали очень мало, есть же совсем не давали…
Явились гестаповцы, открыли камеры и гонят всех на двор. Внизу, возле двери, в коридоре стоят другие гестаповцы с березовыми палками и никого не выпускают без того, чтобы не ударить его палкой. Но вот стали избивать людей и наверху на лестнице, и народ, бросившись с лестницы, проскочил мимо гестаповцев, которые стояли внизу в дверях. Вот уже все на дворе. Отдана команда: «Становись по четыре». Все построились. Переводчик говорит, что у офицера в канцелярии утащили все списки арестованных, полотенце и кусок мыла, чтобы тот, кто это сделал, признался, или, если кто знает виноватого, пусть на него укажет. Пока не найдут вора, никого из тюрьмы не выпустят, но лишь только его обнаружат, то спустя два дня нас всех отпустят домой. Пошли в ход палки. Одного парня хватают и на его голове ломают палку. Он падает. Говорили, что у него нашли кусок полотенца. Всех нас погнали обратно в тюрьму. У входа в коридор опять бьют палками.
Через два дня является переводчик и говорит, что сегодня же нас отпустят домой. Раздают по камерам бумагу, и переводчик предлагает нам, чтобы мы составили по камерам списки арестованных на немецком и русском языке и передали ему. В два часа дня являются гестаповцы и всех выгоняют во двор. Построились, как сидели, – покамерно. Когда все были в сборе, переводчик стал вызывать некоторых людей по фамилиям и велел им строиться отдельно. Некоторые не отозвались и не выходили. Благодаря этому им удалось на этот раз остаться в живых. Так спаслись, например, Ботвинник, член партии, рабочий фабрики «Октябрь», и Каган, снабженец, работавший на хлебозаводе.
Таким образом, переводчик набрал двести человек и заявил, что они остаются в тюрьме, чтобы следить за порядком. С того времени никто их больше в глаза не видел. Остальным арестованным переводчик велел отправиться в «Еврейский комитет»[168] (когда мы были в тюрьме, немцы организовали «Еврейский комитет»).
Итак, открыли ворота и выпустили нас на волю. Мы пошли к «Комитету». Навстречу нам бегут жены, дети, целуются, плачут.
В «Еврейском комитете» освобожденным из тюрьмы объявляют, что приказано переселиться в гетто, носить желтый знак на груди и спине[169], не ходить по тротуарам, ежедневно являться в «Комитет», откуда будут направлять на работу, и т. д.
На углу и в переулках гетто висят на столбах надписи на немецком и русском языках: «Гетто. Вход в гетто всем, кроме жидов, воспрещен»…
Встречая евреев без желтого знака, немцы избивают их и требуют, чтобы они носили знак. По тротуарам евреям запрещают ходить, они должны ходить посередине улицы. При встрече с немцами евреи обязаны снимать шапку; если не снимают, любой немец может забить их до смерти…
Вдруг на гетто налетают гестаповцы на машинах и начинают ловить мужчин. Входят в квартиры, бьют резиновыми дубинками и уводят людей под видом отправления на работу – на торфоразработки и т. п. Уведенных никто больше не видит в живых…
Ночью, почти каждую ночь, на гетто – то на одну улицу, то на другую – нападают вооруженные люди, грабят и убивают.
Вот гестаповцы снова окружают гетто: опять ловят мужчин. Некоторые успевают спрятаться на чердаках, другие строят подземные ходы и прячутся. Наловив людей, их уводят. Часть их попадает в лагерь на Широкую улицу, там работают, домой оттуда не пускают. В лагере находятся многие военнопленные. Туда немцы посылают русских и других людей, которые провинились перед ними. В лагере за каждую мелочь расстреливают. Многие там заболевают. Часто туда и в другие лагеря ловят новых людей. Там люди быстро выбывают из строя…
Немцы стали вламываться в квартиры ночью, начали отбирать вещи, которые им нравятся…
Немцы окружают часто целые улицы гетто, проверяют бумаги, производят обыски в домах, увозят молодых людей…
Ночью немцы являются в гетто и под предлогом обнаружения оружия убивают людей – человек по сто за ночь…
7 ноября 1941 года начинается открытая расправа и с другими людьми, не только с евреями. По всему городу появились виселицы – на улицах, в скверах, на базарах, на окраинах.
8 этот день были повешены около ста человек. На шею им повесили фанерные дощечки с надписями: «партизан», «за связь с партизанами», «коммунист» и т. д.
7 ноября в пять часов утра гестаповцы и продавшиеся немцам здешние негодяи окружили гетто плотным кольцом, в трех шагах один от другого. Это была первая открытая работа немецких бандитов по массовому истреблению еврейского населения. Ломают окна, двери, входят в квартиры, приказывают одеваться в самую лучшую одежду и одевать детей, обязывают взять с собой даже грудных младенцев. Некоторые пробуют убегать, но всюду стоят часовые и стреляют по убегающим.
На одной из улиц всех евреев построили по четыре в ряд и под конвоем повели по Новокрасной улице. Начал строчить пулемет, и вся колонна была перебита. Возле скверика стояла машина и фотографировала резню[170].
Об этом злодеянии сообщил мне бывший рабочий фабрики «Октябрь», наблюдавший его из своего укрытия на чердаке. Говорили, что расстрелянные должны были изображать группу советских граждан, демонстрировавших якобы в честь Октябрьской революции.
Я работал на швейной фабрике «Октябрь». Всего нас, евреев, мужчин и женщин, работало на фабрике триста – триста пятьдесят человек. Еврейские рабочие слышат выстрелы и узнают, что в гетто начался открытый погром, плачут, бегут к начальству. Лишь к двенадцати часам были выданы справки для семей, чтобы их не убивали. Рабочие хватают справки и бегут в гетто. Каждый спешит к своей квартире, но очень многие никого уже дома не находят. По виду квартир можно судить, что людей стащили прямо с кровати.
Как громом меня ударило! Из восьми человек – жены, троих детей, старушки матери, сестры с двумя детьми – ни одной души! Квартира мертвая, пустая…
Некоторые находят кого-нибудь из семьи, кому удалось спрятаться.
Другие подходят к машинам, в которые усаживают людей, показывают документы, и оставшихся еще в живых офицер отпускает.
Не найдя своих родных, некоторые рабочие просят разрешения поехать с машинами на розыски их – может быть, удастся их спасти. Офицер отвечает прямо, что кого увели, того в живых уже нет; хотите ехать – не возражаю, но вернетесь ли обратно, не знаю. Ясно…
Машины не успевают увозить людей. Многих согнали на Хлебную улицу, на большой двор. И оттуда вывозят на машине. Люди бросаются туда со своими документами. Многие рабочие не находят там своих семей. К ним обращаются с мольбой о спасении, и они, под видом родных, уводят других обреченных, согласно количеству людей, указанных в их документах. Немало спасшихся таким образом людей не отходят от своих избавителей и остаются жить в их семьях…
Вот приходит весть, что и по Танковой улице, по ту сторону железной дороги, в бывших красноармейских казармах томится немало жертв, всех не успели еще перебить. Рабочие пускаются туда. Недалеко от казарм они слышат пулеметные очереди, а со двора выезжают машины с людьми. Обратно идут машины с вещами: пальто, ботинки, сапоги и т. д. Машины открытые, некоторые вещи в свежей крови. Часовой не пускает рабочих и вызывает офицера. Офицер не признает никаких бумаг и гонит: «Прочь, в гетто». Люди вернулись ни с чем.
Так продолжалась массовая резня евреев 7, 8 и 9 ноября 1941 года…
20 ноября налетает на Раковую улицу отряд гестаповцев. Полицейские окружают улицу и выгоняют всех людей из квартир. Никого не оставляют. Часть рабочих не успели еще уйти на работу. Гестаповцы требуют у них документы. И тут же у них на глазах разрывают их. Некоторые пробуют убегать, но вслед им стреляют разрывными пулями. Очень многие лежат мертвыми на улице у входа во дворы[171].
Одному из наших рабочих удалось спастись. Он прибежал на фабрику и сообщил, что в гетто идет новая резня. Начальство дало машину, охрану, и человек десять отправились в гетто. Но их туда не пустили. Среди жертв были высококвалифицированные рабочие, в которых немцы нуждались, поэтому туда выехал офицер, но он их там уже не застал. Узнавши, куда их повели, он отправился туда, за город, на поле, где уничтожали евреев. Многие из его рабочих оказались уже убитыми. Среди уцелевших он узнал несколько человек и договорился о том, чтобы их отпустили. Один из них специалист скорняк, по фамилии Альперович, другой, Левин – парикмахер, бривший офицеров. Вместе с парикмахером находились его жена и дочь. «Хозяин» уничтожения согласился отпустить одного лишь парикмахера и Альперовича и еще кого-нибудь из двух – жену либо дочь Левина. Левин взял дочь. Когда рабочих привели на фабрику, они были белые, как бумага, и ничего не могли говорить. Альперович долго болел после этого.
Это лишь один из эпизодов второй массовой резни евреев 20 ноября 1941 года, учиненной спустя две недели после первой.
Биржа запросила списки, кто из евреев где и кем работает. Когда списки были поданы, квалифицированным рабочим стали выдавать карточки. Чернорабочим карточки не давали. Квалифицированных рабочих заставили жить в определенном районе гетто; всем остальным, жившим в этом районе, приказано было выехать. Началось новое переселение. Началось и другое: женщины ищут рабочих «с карточками», молодые девушки выходят замуж за старых мужчин. Люди, осужденные немцами на смерть, сходят с ума.
Когда все были размещены, согласно предписанию, немцы стали выдавать дощечки для дверей. На входной двери квалифицированные рабочие должны были вывешивать дощечку с указанием места работы основного работника и списком его иждивенцев. Когда и это было готово, вышел приказ, чтобы каждый рабочий получил в «Комитете» номер дома, в котором он проживает, и пришил его под желтым знаком на груди и спине. Номер был написан на белом холсте с печатью. Я жил в гетто в доме № 12 по [в тексте пропущено слово] улице и носил два номера «12» – спереди и сзади.
Вот уже все носят номера. Немцы объявляют, что если кто-либо из какого-либо дома нарушит немецкий закон, то все, живущие под этим номером, будут расстреляны.
Вводятся новые правила. Рабочие не имеют права свободно выходить на работу из гетто: на работу и с работы их будут приводить и уводить. Рабочие обязаны собираться возле биржи. Нам выстроили ворота. В воротах полицейский. Немцы, приходящие за еврейскими рабочими, должны расписываться, сколько они берут людей, а ведущие с работы – расписываться, сколько привели. При выходе у ворот полицейские проверяют количество людей. Если их оказывается больше, чем по списку, полицейский не выпускает ни одного лишнего человека за стены гетто. После работы людей приводят к бирже, там пересчитывают, и лишь тогда разрешается расходиться по домам…
На фабрике бывшей «Октябрь» еврейские рабочие были отделены от нееврейских. Евреи работали на одной половине, отгороженные от другой половины цеха. Даже уборные были отдельные, для евреев и для неевреев.
На фабрике был такой случай. По уборке двора работали двенадцать еврейских женщин. Немцам не понравилось, как они работали. У них отбирают справки о работе и приказывают больше не являться. Но женщины решили просить, чтобы их оставили на работе. Тогда отправляется бумага в гестапо о том, что они относились халатно к работе. На следующий же день являются агенты гестапо и уводят их в тюрьму. Там женщин продержали две недели. Затем их посадили на машину и привезли в гетто на Юбилейную площадь. Работницы обрадовались. Они думали, что их отпустят домой. Но произошло следующее. Немцы выгнали всех людей из квартир на площадь. Когда площадь заполнилась людьми, гестаповец стал на машину и заявил: «Перед вами двенадцать женщин. За симуляцию и отказ от работы они будут немедленно расстреляны у вас на глазах». Одного еврея заставили завязать им глаза. Расстреливали их, целя в голову разрывными пулями. Трупы лежали на площади два дня. На дощечках было написано, что они расстреляны за отказ от работы…
Раз зимой, когда немцы гнали нас с работы, мы были недалеко от гетто окружены гестаповцами. На помощь гестаповцам явились пьяные полицейские в машине – со следами свежей крови на шинелях и сапогах. Кто из рабочих пробовал было пробежать под проволокой, чтобы скрыться в гетто, того расстреливали. По всем улицам валялись трупы. Валялись котелки, кости, картофельная шелуха – все, что люди носили с собой с работы.
Некоторые колонны, состоявшие из квалифицированных рабочих, были отведены в сторону. В одной из таких колонн находился я и таким образом спасся.
Рабочих заставили стоять на коленях, били резиновыми дубинками и, наконец, увели целыми колоннами.
Вот подъехала легковая машина. Из нее вышел худой старый генерал. Это был генеральный комиссар Белоруссии Кубе. Он подошел к офицеру и что-то сказал. Затем он крикнул колонне квалифицированных рабочих: «Юден, шнель цу гаузе»[172]. Если кто-либо пускался бежать недостаточно быстро, то Кубе избивал его палками и для острастки целил из револьвера. Колонна разбежалась. Остальные продолжали стоять на коленях. Началась проверка. У кого была карточка специалиста, того отпускали. Так продолжался этот погром до семи часов вечера.
Очень много убитых лежало около обойной фабрики в ямах.
Уведенных рабочих повели на станцию, посадили в товарные вагоны и ночью повезли по направлению к Молодечно. В дороге, когда их везли, немецкая охрана входила в вагоны, набитые людьми, выбирала молодых красивых девушек, уводила их и насиловала. Недалеко от Молодечно были подготовлены ямы. Немецкие изверги открывали вагоны, расстреливали людей из пулеметов, кидали их в ямы и забрасывали гранатами.
Когда начали убивать, было еще темно, рассказывает еврей, работавший в немецкой тюрьме кузнецом. Подъезжая к Молодечно, поезд замедлил ход. Было еще темно, и дверь вагона была закрыта. Кузнец открыл окошко в вагоне, где он находился с дочерью. Он выпрыгнул через окно, схватил дочь и убежал…