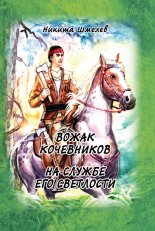Неизвестная «Черная книга» Альтман Илья
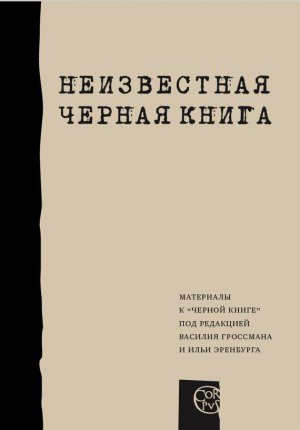
Когда увозили больных, восемнадцатилетний Кучер (сын слесаря, закончил восьмой класс школы) заметил, что кто-то взял его котелок, а если нет котелка, не получишь пищи… Он бросился вдогонку. За это «преступление» комендант заставил отца Кучера выкопать яму для сына. Отец плакал, просил, чтобы его убили вместо сына, но ничего не помогло. Отца заставили засыпать сына живьем. Через несколько дней отец умер от разрыва сердца.
В лагере находились доктор Кофман и ее четырнадцатилетний сын. У сына повысилась температура до тридцати восьми градусов. Мать поняла, что сына хотят расстрелять, и сказала врачу, что сын завтра выйдет на работу. Но забрали и мать и сына. Перед смертью доктор сказала, подняв сына: «За невинно пролитую кровь расплатится Гитлер и тысячи гитлеровцев».
[1944]Записал учитель КРУГЛЯК[64]
В Умани
Воспоминания Мани Файнгольд
Первого августа 1941 года Умань была занята немцами. В городе после мобилизации и эвакуации было больше пятнадцати тысяч евреев[66]. Над жителями повисла черная хмара. Больше всего тревожило евреев, что везде и повсюду были надписи: «Вход жидам запрещен!» Еврейские дети, не понимая этого, неоднократно спрашивали: «Что это за жиды, как можно видеть их?» Но родители им на это должны были признаться и сказать, что мы жиды и нас подразумевают. В это время было приказано немедленно выбрать общину из еврейской интеллигенции и явиться в горуправу для выяснений некоторых вопросов. 13 августа 1941 года община в составе восемьдесят человек мужчин явилась в горуправу. Фашистские варвары жестоко расправились с ними, причем заставляли их физкультуру делать и при каждом движении рубили то руки, то ноги, пока насмерть не замучили. Единичных случаев убийств было очень много, и систематически нападали на еврейские квартиры, где грабили, издевались, убивали. Тут объявляют перерегистрацию всего еврейского населения. «Регистрировали» каждого еврея большой палкой, прикладом и плеткой, проходящие «регистрацию» все были избиты, окровавлены. Для отличия евреев от других народов все, независимо от возраста, должны были носить на правой руке белые повязки с шестиконечными звездами, в отсутствие этих знаков избивали и налагали штраф в неограниченном количестве денег. В убийстве и издевательствах над евреями принимают участие не только полицаи немецкие, но с большим удовольствием помогает им украинская полиция с целью ограбить людей и заслужить авторитет у немцев.
Утром 21 сентября 1941 года всех евреев собирают на работу, в процессе работы они узнают, что часть этих людей погнали яму копать. Больше тысячи людей бросают в погреба, и до утра все были задушены. Другие евреи, попавшиеся в тюрьму, посидели до вечера, вечером пришли зрители смотреть на этих жалких людей, которых заставляли танцевать и петь. Конечно, не по собственному желанию танцевали евреи: их заставляли и при этом же били, избивали до смерти. Когда люди просили пулю, им такого удовольствия предоставить не хотели, самое лучшее для развлечения было убивать прикладом. К утру был приказ женщин с детьми выпустить, а мужчин убивать. Несколько дней подряд продолжался погром, где большей частью убивали мужчин[67]. До первого октября все евреи должны были переселиться на старый базар, то есть жить все на одной улице для того, чтобы легче было собирать их и уничтожать. Несмотря на то что был установлен срок для переселения, украинская полиция нападала и не давала переносить свое имущество, требуя немедленного ухода с квартиры. В этом погроме с целью грабежа активное участие брали больше пятидесяти процентов украинцев города Умань. Меня встретила обыкновенная женщина, которая раздевала, забирала одежду и вместе с тем заявила: «Вот еще одна жидовка, забирайте ее, а то из-за них жить невозможно». Сижу в одном украинском доме, где я пряталась, приходит соседский мальчик, сыночек полицая, и рассказывает об успехах своей матери, сколько вещей она набрала, и при выходе он говорит: «Мама достала себе только зимнее пальто, но она говорит, что как только будут еще раз бить жидов, она себе достанет и летнее пальто». Еврейскому народу деваться некуда было и бежать нельзя было, кругом нас были германские фашисты, а также украинская полиция. Многие представители Умани помогали немцам разыскивать и уничтожать евреев. Украинцы, которые старались скрывать еврея, были уничтожены. Кончилось переселение. Гоняют евреев на работу. Прежде всего их сгоняют в полицию, где полицаи бьют и избивают беспощадно и мужчин, и женщин, и детей. Тут они показывают и проявляют свою храбрость бить, издеваться над беспомощными, жалкими людьми. Эти изверги получают от этого море удовольствия, ведь они уже отправляют на работу побитых людей. После этого «концерта» евреев табунами отправляли на самую тяжелую работу. Не раз собирали молодых девушек и заставляли чистить уборные руками, были и другие работы наподобие этой.
Недолго пришлось работать. 8 октября 1941 года с четырех часов утра начинается второй погром. Жандармерия для того, чтобы не рвать свою глотку, решила взять с собою украинскую полицию, а также желающих участвовать в погроме. Еще темно было на дворе, как в наш дом с выстрелами, стуком и визгом ворвались трое. Мы решили, что идут грабить. Не успели еще засветить лампу и встать с постели, как в дом зашли трое. Двое из них были как бешеные тигры со страшными глазами, которые наводили страх с первого же взгляда на них. Это обыкновенные немецкие варвары-эсэсовцы, третий гражданский, с палкой в руках бил окна и двери, только кричал: «Давай, давай». По-видимому, это был украинец и даже не полицай, что давать ему, мы не знали, и расспрашивать его было невозможно. Нас было в доме тридцать четыре человека взято вместе с детьми. Дети начали плакать и перепугались, а мы все растерялись, не зная, что происходит. Наконец гражданский, который шел с палкой, крикнул: «Всем выходить!» Не понимая, что происходит, все стали выходить на улицу. За нами вышли два бандита с ружьями в руках и указали дорогу, по какой нам идти. Мы поняли, в чем дело, обороняться нечем было. Через десять минут эту маленькую группку людей пригнали на базарную площадь, где со всех сторон была усиленная охрана, и с каждой минутой людей становилось больше. В семь часов утра на базарной площади насчитывали больше десяти тысяч евреев, тут же стояли пять грузовых машин, на которые бросали маленьких детей и старых, всех остальных гнали пешком. Старый еврей взял под руку свою жену, с которой прожил пятьдесят лет, и со слезами на глазах он прощается с ней, зная, что через полчаса их убьют и больше не увидят друг друга. Последнее их слово было обращено к своим сыновьям, которые дерутся с проклятыми немцами, защищая свою Родину: «Дети мои родные, прощайте! Никогда не увидите больше своих родителей, мы жалкие жертвы, расправляйтесь за нас». Маленькая Саррочка обнимала свою мать и крепко целовала, шестилетняя девочка поняла все, что тут происходит. Она еще попросила пить у мамы, но мама ей сказала, что сейчас напьешься навсегда. Саррочка в прошлом году болела и не умерла, ей суждено, как и тысячам других, погибать от подлой руки фашистских бандитов. Заплаканные голубые глазки Саррочки жалостно смотрели, но у бандитов жалости нет, они били, стреляли в толпу для того, чтобы навести на людей больше страха. Отправляя женщин, вырывали детей из рук родителей, а стариков били палками, прикладами. Бандиты заставляли остальных евреев идти в направлении к тюрьме. В тюрьме этих людей недолго держали, их раздевали, забирали деньги и всякие ценности, а потом гнали всех за город. Людей, потерявших сознание и силы идти дальше, убивали на месте, все остальные шли к яме. Инвалидов бросали со второго этажа на машины, так же были вывезены все детские дома и больные из больниц. Пока этих людей пригнали к яме, весь город был завален трупами людей, убитых палками, и тех, которые пытались уйти. Евреи увидели тут три глубокие ямы и лишь теперь поверили, что их привели на расстрел. Испуганная Саррочка смотрела в лицо матери, будто просила помощи. Мама обнимала ее, поцеловала в последний раз, она не плакала и ничего больше говорить не могла, она была беспомощна и ничем не могла помочь своей маленькой дочке. Она пошла с ребенком первая, стояла над ямой и просила немедленной расправы, ее желание удовлетворили. Страшный бандит штыком проколол и бросил Саррочку в яму, через пару минут грянул выстрел, и бедная мать свалилась в яму, где уже лежала ее Саррочка. Они уже успокоились навеки, им уже легче, чем тем людям, которые стоят в пятидесяти метрах от ямы. Они подходят по пять человек, становятся над ямой и получают свою пулю. На дне ямы лежали живые евреи – старики, калеки, для них жалели пуль, на них падали убитые и раненые евреи, и благодаря этому старики и калеки задохнулись. Евреев становилось все меньше, они по пять подходили, и их стреляли, но каждый из этой толпы старался стать задним, чтобы прожить еще несколько минут, другие не могли переживать это все и бежали прежде, чем подходила их очередь. Тут же стояли немцы, смеясь, фотографировали эту картину.
Таких Саррочек было немало. Десятилетняя Маечка даже успокаивала свою мать, она старалась объяснить ей, что нас не убьют, мы будем жить. Конечно, маме было жалко свою дочь и также своей жизни, она даже просила свою дочь, чтобы она попробовала удрать, девочка отказалась. Маечка сказала: «Не хочу уйти, если бы даже меня и пустили, мамочка, я буду с тобою, где ты будешь, там и я. Никогда я тебя не оставлю, если тебя убьют, пусть меня убивают вместе с тобою, но не плачь, мамочка, нас не убьют!» Такими словами Маечка успокаивала свою мать, но сама она прекрасно понимала, что успокаиваться нечего и беспокоиться тоже, ничего не поможет, песенка была спета. Маю убили вместе со своей мамой, последнее ее слово было: «Мамочка! Я счастлива, что буду лежать вместе с тобою, папочка рассчитается за нашу кровь. Папочка! В последний раз вспоминаю твое имя, не забывай нас и бей подлых фашистов!».
Сначала дети обращались к варварам, спрашивали: «Дядя, где ваше сердце, как можете нас, маленьких детей, бить?» В ответ им бандиты показали, что у них сердца нет, показывая на винтовку. Подрастающее поколение было очень умное, они поняли, что просить не надо и ничего не поможет. Некоторые плакали, прощались с родными и знакомыми, другие шли смело, в последний раз пели «Интернационал». Мальчики двенадцати лет смело смотрели смерти в лицо и кричали: «Расплата будет! Прольется кровь за кровь!» Последняя женщина, которую убили, сошла с ума, и со смехом она подошла к яме, и, не успев произнести последние слова, она пошатнулась и упала на десять тысяч трупов только что убитых людей[68].
Кровь их еще не застыла, некоторые еще подымали то руки, то ноги, многие, по-видимому, были тяжело ранены, их быстро засыпали землей, но три дня после этого земля еще подымалась. Этим людям помочь никто не мог, они быстро кончались.
Как ни обидно, но среди них попала одна украинка. Она обращалась к немецкому офицеру, показывала документы, что она украинка. Офицер ей ответил только два слова: «Вшистко едно»[69]. И вместе с тем выстрелил, и она упала, как падали все евреи. Немецкий офицер со смехом обратился к своему другу: «Пусть украинцы не думают, что мы их любим, им также капут, неужели этой украинке не все равно, убью ли я ее теперь или позже? Вшистко едно». Только маленькому Володе удалось на этот раз вырваться из рук фашистов и скрыться, благодаря тому, что он был похож на украинца, хорошо владел украинским языком, и никто его не мог узнать – ни немецкая жандармерия, ни украинская полиция, которая старалась разыскивать всех евреев. Полиция два дня подряд искала, рылась, где возможно и невозможно было. Полицай Поламарчук вывел с погреба одного старика еврея, который лежал целый день, старик испуганно и жалостно просился у Поламарчука отпустить его, полицай требовал у старика тысячу рублей, старик дал ему, он оставил его и сейчас же нашел своего товарища, полицая, указал ему, где находится старик, чтобы забрать его. Товарищ Поламарчука решил, что возиться нечего со стариком, но просил еще денег. У старика больше денег не было. Полицай убил его тут же и ушел к соседям искать добычи.
Двенадцатилетний Володька ухитрился, стоя над ямой со своей пятеркой, по которой начали стрелять, броситься в яму живым. Через полчаса окончен был «сеанс». Подлые бандиты кончили свою работу и ушли. В это время Володя помалу вылез из ямы, посмотрел кругом и быстро скрылся. Своих родителей он не шел разыскивать, он их больше не найдет, они были убиты тут же при нем. Он хорошо видел, как убили его мать, старшую сестру и двух маленьких братиков. Володька распрощался с ними, он не ожидал, что еще будет жить после такого погрома, но суждено было ему еще немного прожить. Трудно представить и описать такую картину, трудно передать мысли Володьки, когда он ушел сам, один, без рода, и нигде больше не найдет он своих родных и даже близких знакомых. Бедный мальчик не плакал, он старался найти причину всему тому, что происходит, и так задумчиво шел он по городу, видел, что полиция бегает, как бешеные собаки, ведут еще поодиночке евреев, которых только что нашли. Полиция торжествует! Володька прошел мимо них, ушел дальше, ближе к своей улице, где украинские мальчишки, девчонки и взрослые таскали мешками всевозможные вещи с квартир евреев. Во всех домах окна и двери были выбиты, квартиры пустые. Люди выносили кастрюли, всякую посуду и прочее. Володька тоже поднял торбу, собрал ненужное тряпье и постарался подойти поближе к своей квартире. Мешок с тряпками весом в два килограмма для него весил три пуда, он от ужаса сам не мог держаться на ногах, но носил он для того, чтобы его не узнали. Володька вошел в свою квартиру, жуткую картину он увидел – бабушка лежала убитая на полу. Она была сильно побита, наверное, побили ее, потому что не могла идти со всеми, она была старая и слепая. Володька быстро повернулся и вышел, он всеми силами сдерживался, чтобы не заплакать, ибо тут же его могли узнать и уничтожить. Он взял свой мешочек с тряпками и быстрыми шагами отходил от родного дома. Навстречу ему шла молодая женщина-украинка, она спросила его, где он брал вещи, просила показать ту квартиру, где он брал: «Может быть, еще есть. Я тоже возьму». Володька говорить не мог, он только рукой показал, сам не зная куда. Пришел он к своему товарищу, с которым учился пять лет. Товарищ, украинец, мальчик Сенька, пионер, ласкаво[70] принял его и предложил ему спрятаться у себя до завтра. «А завтра увидим», – сказал он. Володька плакал. Сенька успокаивал его. Вечером друзья легли вместе спать и почти до утра не заснули. Все говорили, советовались. Сенька всеми силами старался помочь своему другу.
Утром 9 октября еще ходят полицаи, ищут евреев, но никто не предполагал, что евреев, которых найдут девятого, не убьют. И действительно, всех найденных на второй день погрома не убивали (их насчиталось восемьсот человек). И перед вечером 9 октября их отпускают, приказывают занять дома по указанию полиции, всем объявляют прийти десятого на работу и обещают, что больше убивать не будут. Люди измученные, голодные, холодные, после двухдневного гонения над ними, приходят в квартиры, где только следы есть, что тут были люди, но их уже нет. Они спят вечным сном, им уже лучше живых, которые остались, чтобы дальше издеваться над ними. Не было ни одной целой семьи. Остались дети без родных или родные без детей. Каждый человек был разбит, расстроен и завидовал мертвым.
Люди как-нибудь пересидели эту ночь, они ждали, что завтра их убьют, нет, завтра их еще не убивали, они еще прожили до 22 апреля 1942 года. Но как они жили! Конечно, они были правы, завидуя мертвым. Как издевались и мучили их, пером не написать, в сказках не рассказать. Нет таких слов, которые описали бы их жизнь. Людей стало еще больше после того, как пронесся слух, что не будут убивать: многие вылезли из подвалов, чердаков, с сел многие поприходили. Через две недели после погрома уже в гетто (улица, на которой жили евреи) находилось полторы тысячи человек вместе с детьми. При втором погроме убили больше десяти тысяч евреев. Долго их оплакивали их родственники, знакомые, которые остались жить, но вместе с тем завидовали тому, что больше их мучить не будут, а живых еще мучили, и каждый день они ждали третьего погрома.
Жизнь протекает по-прежнему. Опять единичные случаи ареста и расстрела, опять нападение со стороны немцев и полиции на еврейские квартиры, опять грабеж и издевательство. 1 января 1942 года арестовали троих, среди них была одна довольно привлекательная женщина-еврейка Яцус. Следователь полиции хотел быть в близких отношениях с ней, она отказалась, поэтому решили повесить всех троих. 5 января 1942 года их прилюдно повесили. Яцус подошла к виселице, сбросила платок и сама накинула петлю. Палач Воропаев потянул ее за ноги, и секретарь полиции Тонкошкур произнес речь, где он отметил, что двадцать три года советская власть издевалась и мучила украинцев и тут виноваты евреи. 8 января объявили, что все евреи должны носить желтые нашивки на груди спереди и сзади, нашивки круглые диаметром семь сантиметров. Тут уж было за что издеваться! Одного били за то, что нашивка больше, чем указано, других били за то, что нашивки меньше или темно-желтые, у третьих нашивки были светло-желтые. Нельзя было город пройти, кругом полицаи, как бешеные собаки, гоняются с палками и бьют безжалостно кого попало. Вместе с тем было приказано, что каждый еврей должен шапку снять перед немцами и полицаями, за это тоже не одному попало. Снимая шапку, еврей должен иметь большое счастье благополучно пройти. Обыкновенно город был полон всякими чертями, перед каждым снимать невозможно было. В случае, как не снимешь быстро, получишь палкой по голове так, что голова слетит вместе с шапкой. Пятилетний Мишка сказал своему деду: «Дедушка, ну и что, что холодно, идите лучше совсем без шапки, а то рука заболит перед каждым шапку снимать». Не раз колотили дедушку, немало палок он схватил от полиции, но никогда он дома ничего не рассказывал. Очень спокойно он перенес все это, зная, что никто ему ничем не поможет.
В гетто насчитывали тысячу восемьсот евреев после второго погрома. Всех гоняли на работу. Причем каждый день всех людей пригоняли в полицию, тут полицаи стояли с палками в руках и встречали евреев, собирающихся на работу. Каждого еврея хорошо избивали палками, а потом отправляли на работу чистить снег или переносить камни и прочее. Табунами гнали евреев на работу, и каждую колонну сопровождали полицаи. Однажды, когда гнали на работу, мы встретили одну уманскую учительницу. Она улыбнулась полицаям: «[нрзб.] ведете, ха-ха-ха!» Поработав целый день, люди возвращались домой вечером голодные, холодные, и за работу им ничего не платили. Никому даже кушать не хотелось, только отдохнуть до утра, ибо завтра опять в полицию, опять палки хватать, опять то же самое. Вечером все думают отдыхать. Но тут уж сам Бог вмешивается и думает: «Зачем евреям отдыхать, ведь я и ночью найду работу для них?» И только с десяти или девяти часов вечером начинается другая комедия. Пожар. Горит какой-то дом от сильного отопления. Вся полиция уже на ногах, выгоняют всех евреев, и мужчин, и женщин, и детей тушить пожар. Все взволнованы, бегут с ведрами в руках к речке. Ночью. Темно [нрзб.].
Подойдя к речке, полицаи бросают этих людей в воду и одновременно заставляют их вылезать, набирать воды и идти тушить пожар. Люди, которые вылезают с речки, получают по несколько раз прикладом, бегом с ведрами идут к пожару, всех заставляют забраться на крышу и одновременно стреляют. Тут же люди падают на землю. Стоит полиция и хохочет. Так проходит ночь. Утром можно увидеть десять-пятнадцать человек, повешенных за то, что плохо тушили, кроме того, все возвращаются домой окровавленные, избитые, измученные, обиженные и людьми и Богом. Тут наступает утро, и опять вчерашний день и то же самое. Кроме того, после каждого пожара накладываются налоги на евреев. После первого пожара наложили 80 тысяч рублей, во второй раз 170 тысяч, третий раз 360 тысяч. За неуплату этих налогов угрожают расстрелом всех евреев. Но когда уже нечего было платить, позабирали имущество, мебель и разобрали дома. Это еще не все. Люди могут, как видно, больше перенести. Однажды вечером старик Фридман, оборванный и разбитый, возвращается домой с работы. Он идет и думает, что день уже прошел, наступает страшная ночь, как пережить эту ночь. Но тут навстречу идет полицай, известный палач Воропаев. Фридман снял шапку и прошел, но Воропаев не так пропускает еврея, он его позвал обратно и спрашивает: «Ты мне чего дулю дал?» Не успел Фридман ответить на вопрос, как Воропаев начал его бить прикладом. Всего побитого он отправил Фридмана в полицию, где бросили его в камеру. Через полчаса секретарь полиции Тонкошкур вызывает Фридмана на допрос. Ничего не спрашивали его, но обступила его «веселая компания полицаев». Все начали бить его палками, прикладами, заставляли танцевать и петь. При этом Фридман весь истекает кровью, уже на ногах не держится. Тонкошкур кричит, чтобы он не испачкал пол кровью, и заставляет подставить шапку. Почти мертвого Фридмана бросили в камеру, тут какой-то человек привел его в чувство. Открывая глаза, он обиделся на человека и сказал: «Лучше мне умереть, зачем вы это делаете? Разве возможно так жить? Не хочу больше этой проклятой жизни!» Человек его успокаивал и объяснял, что его положение не лучше. Его [текст обрывается].
1944
Что я пережил в фашистском плену
Письмо девятилетнего Бори Гершензона из Умани в Еврейский антифашистский комитет
Дорогие дяди, я сейчас опишу вам, как я мучился у фашистских извергов. Как только прибыли немцы к нам в город Умань, нас всех загнали в гетто. Среди нас были старики, женщины и дети, а также больные. Всех сразу повели в лес на расстрел. Там же расстреляли мою бабушку и тетю Зину с детьми, а мне удалось удрать. Долго я прятался в лесу Софиевка, пока меня снова поймали и загнали в здание Дворца пионеров. Там нас было очень много. Нас там били, душили, раздели наголо и бросили в погреб. Многие из нас не могли выдержать пыток и здесь погибли. Потом оставшихся в живых отправили в лагерь. Несмотря на то что я здесь был самый маленький, меня заставили делать очень тяжелую работу. Кроме того, нас раздели и начали избивать до потери сознания. Морили нас голодом. Верхнюю одежду с нас сняли. Кушать давали шелуху из проса и макухи и пятьдесят граммов хлеба. Спали мы в разломанных конюшнях. Снег падал прямо на нас, а для того, чтобы нам было теплее, мы ложились один мальчик на другого. В этом лагере я пробыл около восьми месяцев, а потом убежал к папе в лес, в партизанский отряд. Будучи вместе с папой, я помогал разносить листовки по селам. Но через некоторое время меня опять поймали и отправили в г. Бер шадь, в румынский лагерь. Румыны нас мучили так же, как и немцы. Каждое воскресенье из лагеря брали сотни советских людей, одних вешали, других расстреливали. Папу тоже поймали. Его вместе с группой партизан расстреляли незадолго до прихода Красной Армии.
Как только освободили Умань, я сразу уехал туда. Но там я прожил недолго. Тетя Рива, которая находится в Красной Армии и работает врачом в госпитале, узнала про меня и забрала меня к себе. Я живу теперь в госпитале с тетей Ривой. Здесь я учусь на киномеханика. Мне девять лет. Думаю поступить в Суворовскую школу. Когда вырасту, стану офицером Красной Армии.
Если захотите мне написать, пишите по адресу:
Полевая почта, № 23336-А, Боре Гершензону.
[1944]
Рассказ партизанки Раисы Дудник, спасшейся из Умани
На днях в Еврейский антифашистский комитет пришла молодая партизанка Раиса Дудник, бежавшая в свое время из Умани. Вот что она нам рассказала.
Когда немцы вступили в Умань – это было 1 августа 1941 года, – мой отец Лейб Дудник предложил мне и моей сестренке Хае бежать из города. Но мы отказались оставить родителей одних.
Первый погром немцы устроили в Умани 23 сентября. В этот день я на рассвете ушла в соседнюю деревню. Возвратившись, я никого дома не нашла. Квартира была разгромлена. Я бросилась к городской тюрьме. Из-за ограды доносились крики «Шма Исроэль», рыдания женщин, плач детей…
Вдруг ворота тюрьмы распахнулись. Немцы вывели на улицу мужчин-евреев.
В руках у каждого была лопата. Я увидела отца и бросилась к нему…
– Прощай, Рая! – сказал отец. – Мать и Хая в тюрьме. Нас ведут на расстрел.
Немцы отшвырнули меня, а всех мужчин погнали к кладбищу…
Женщин и детей – до трех тысяч человек – загнали в жарко натопленный подвал тюрьмы, наглухо закупорив двери и все отверстия. Многие задохлись.
Трупы издавали ужасное зловоние. И лишь когда вонь стала разноситься по всей тюрьме, немцы открыли дверь. Все эти дни я не отходила от ограды. Я видела, как из тюрьмы выезжали подводы, груженные голыми телами. Это были задохнувшиеся женщины и дети. Немцы без стеснения, среди белого дня возили эти сваленные в беспорядке трупы. Я увидела среди них курчавые головки трех моих двоюродных сестренок…
Когда в тюремных подвалах осталось человек триста, немцы совершенно голыми выгнали их на улицу.
Среди этих обезумевших людей, которые никого не видели, ничего не понимали, я нашла мать, сестру, тетю Соню и ее уцелевшего сына.
Через два дня на Раковке было создано гетто[72]. Каждую ночь пьяные бандиты врывались в наши домишки. Насиловали девушек. Избивали старух, забирали последнее. 7 октября по гетто разнеслись зловещие слухи. Говорили, что в Умань приехал новый карательный отряд. Для того чтобы проверить это, я с сестренкой отправилась на Софиевку к нашим русским друзьям. Бухгалтер Ларжевский тепло принял нас и предложил переночевать.
Я проснулась утром с тяжелым чувством страха за мать. Вышла на улицу – вижу, соседка рыдает:
– Ох, доченька, ховайся! Евреев из гетто повели убивать!
Я решила оставить сестренку у Ларжевских, которые обещали ее спасти, а сама направилась искать мать[73].
По дороге в гетто меня задержал полицейский, который заявил мне:
– Иди перед смертью полы в полиции мыть.
Там я увидела еще двух евреек-девушек. Целый день мы убирали помещение, а вечером нам всем трем удалось незаметно скрыться.
В этот день немцы расстреляли в Умани десять тысяч евреев[74]. В их числе была и моя мать.
Бежав из полиции, я обратилась к Николаю Васильевичу Рудкевичу, который дал мне паспорт на имя украинки Лукии Коротенко. С этим документом я пошла куда глаза глядят.
Я прошла более двух тысяч километров. Была в Кировоградской, Кременчугской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях. И нигде не встречала евреев. Я заходила в деревни. Работала на огородах, нянчила детей, стирала. Добрые люди кормили меня. Многие знали, что я еврейка, и, рискуя жизнью, давали кров, делились последним куском хлеба. Я искала партизан, часто видела взорванные ими переправы, искалеченные рельсы, сожженные дома бургомистров. Добралась до Белоруссии, по пути встретила семнадцатилетнюю белорусскую девушку Марию Чик, которая бежала из Донбасса. Она пробиралась к себе на родину в Костюковичский район. Этот район был центром партизанской борьбы. В бессильной ярости немцы сожгли тут девятнадцать деревень, но так и не нашли народных мстителей. Отец Марии, Сильвестр Чик, указал мне путь к партизанам.
Начальник отряда Василий Костюков принял меня как родную. Впервые за два с половиной года я почувствовала себя полноправным человеком.
В этом отряде я нашла старуху-еврейку Фаню Гибхину, которая находилась в нем с первого же дня. Она стала мне второй матерью. Немцы расстреляли ее дочь и мужа. Чудом уцелевшая Фаня вместе со своим шестнадцатилетним сыном Борухом ушла к партизанам. В отряде было еще несколько евреев. Я встретила здесь старика-сапожника Хаима Лезнера, медицинскую сестру Басю Пивченко.
Я рвалась в бой. Командир назначил меня в диверсионный отряд и снабдил трофейным ружьем. В моей боевой жизни всякое бывало. Чаще всего налетали на немцев, переправлявшихся через реку Безеть. Перебьем всех гитлеровцев, увезем их лошадей и, отдохнув немного, отправляемся на новые дела. Наш отряд контролировал железную дорогу Унеча – Кричев. Мы налетали на охрану, стоявшую у железнодорожного полотна, уничтожали немцев и затем уже беспрепятственно взрывали железнодорожную линию.
Осенью 1943 года фронт стал приближаться к нам. 22 сентября 1943 года к нам в отряд пришли первые разведчики-красноармейцы. Вечером в деревне был большой праздник.
Большинство партизан влились в регулярные части Красной Армии и шли дальше на Запад. По настоянию командира отряда женщин и детей отправили в тыл на отдых.
Сейчас Раиса Дудник уехала в Умань в надежде найти там свою сестренку Хаю[75].
[1944]Записала М. ЖЕЛЕЗНОВА[76]
Мама, спасай меня!
Письмо Блюмы Исааковны Бронфин из г. Хмельника Винницкой области
Многоуважаемый товарищ Илья Эренбург!
Ваше письмо, в котором просите меня написать, что я пережила во время немецкой оккупации, я получила. Тов. Эренбург, трудно будет мне все описать пережитое мною, ибо все ужасы, которые я видела своими глазами, не передать. Начну с 9 января 1942 года. 9 января, рано утром, нас, евреев, окружила украинская полиция и отряд CC[78]. Началась паника, никто не мог понять, что нас ожидает. Около восьми утра полицаи и немцы начали громить: били окна, стреляли и наконец начали выгонять из квартир. Собирали партиями и гнали в сосновый лес. Я не знала, что делать, куда деваться с детьми. Старшего сына Мишу я спрятала. Меня с трехлетним сыном Изей избили и выгнали на улицу, где я увидела ужасную картину. Трупы валялись везде, снег был красный от крови, варвары бегали, как дикие звери, и кричали: «Бей жидов, юд капут!» – и стреляли в толпу. Стоило только им заметить маленького ребенка, они сразу набрасывались на него и кинжалом резали на куски. Крики детей: «Мама, боюсь, мама, спрячь меня!» – до сих пор звенят у меня в ушах. Когда собрали человек двести, нас погнали в сосновый лес. Всю дорогу избивали, расстреливали всех, кто только вздумал выйти из толпы. В лесу была вырыта большая яма, в стороне лежала куча одежи; людей по очереди заставляли раздеваться и стать над ямой, их ждала очередь пулемета. Жуткая картина: дикие крики детей, стоны расстрелянных из ямы, заставили меня подумать о побеге, и я схватила моего перепуганного сына на руки и пустилась бежать, думая, что вот-вот меня убьют. Но мне помог сильный снегопад. Я бежала, не зная куда, и чувствовала, что вот-вот меня покинут силы и я упаду с ребенком и замерзну на чистом поле, так как был сильный мороз. Но вдруг недалеко я увидела разбитый, пустой сарай. Я забралась в сарай на чердак, окутала ребенка платком и так просидела там до 11-го числа до вечера. Вечером я решила пойти в город проверить, остался ли мой старший сын в живых. Мне удалось с большими трудностями перейти через речку не замеченной варварами, которые дежурили на мосту. Поздно вечером я очутилась в своей квартире. Окна, как везде, были разбиты, двери открыты, все до мелочи разграблено. Сына я не нашла. Утром 12 января меня в доме заметила женщина Курта, которая ходила грабить, и выдала меня полицаям. Меня с ребенком повели в полицию. По дороге меня встретила знакомая русская женщина Лунина, которая несла на плечах большой мешок с вещами, и спросила меня: «Куда тебя ведут, в женотдел?» И громко рассмеялась, мигнув при этом полицаю Жуку, который сопровождал меня, после чего последовало два сильных удара прикладом по затылку, и кровь полилась у меня носом и ртом. Мой бедный мальчик посмотрел на меня и спросил: «Мамуся, тебе больно?» И заплакал. Между прочим, Лунина сейчас находится в Хмельнике, работает в Райпотребсоюзе в закрытом распределителе (тридцатке). Во время немецкой оккупации Лунина обслуживала жандармерию. Меня, всю залитую кровью, бросили в камеру. Встретилась с такими же несчастными, как я. В полиции я была с 12 по 15 января, что я там видела и пережила, не передается словами, вряд ли кто-либо может это издевательство описать. Сидеть не давали, через каждые десять минут приходили полицаи и немцы, брали людей на работу с криками: «Выходи, жидова!» Водили в камеру, где стоял патефон, ставили пластинку «Еврейский фрейлахс», и под эту музыку надо было бегать вокруг стола, где стояли полицаи с резиновыми плетками и избивали до потери сознания, после чего обливали водой и бросали обратно в камеру. Крики, стоны слышно было кругом. Дети плакали, просили кушать. Немцы приходили с хлебом и спрашивали: «Кто хочет кушать?» Дети, конечно, бросились к ним просить хлеба, но вместо хлеба они получили побои дубинками. Вечером приходили немцы и полицаи, выбирали молодых женщин и уводили их с собою, потом бросали их обратно в камеру, измученных, истерзанных. 15 января мне удалось бежать с ребенком из полиции. 16 января расстреляли всех измученных евреев, которые находились в полиции[79]. С 16 января 1942 года до 12 июня я жила на еврейской улице, отведенной специалистам. Весь этот промежуток времени мы жили в большой панике. 12 июня отряд СС и полиции окружили гетто, в этот день убили 320 человек, по большей части стариков, женщин и детей. Я с ребенком была спрятана в секрете, вырытом под землей. После этого погрома я большей частью ночевала на поле, но когда наступили холода, я вынуждена была вернуться домой, т. е. в гетто, где находилась до марта месяца 1943 года. 8 марта начался погром, который продолжался целый месяц. Варвары этим погромом хотели истребить всех евреев, находившихся в Хмельнике. Я с ребенком ночью бежала через речку, вся мокрая скрылась в скирде соломы на поле, где пролежала без еды три дня. На четвертый день ночью я чувствовала, что силы меня покидают, и ребенок начал просить меня: «Мама, спасай меня, я кушать хочу!» – я решила пойти, куда сама не знала. Я шла без всякой надежды найти где-либо приют. На первом переезде встретил меня человек, посмотрел на меня и говорит: «Я все понял, идемте со мною, но незаметно». Я крепко испугалась, но другого исхода у меня не было, и я пошла за ним.
Он меня привел к маленькому домику, постучался, дверь открыла женщина, которая с удивлением посмотрела на меня, мол, кто ты, мученица? Нас пустили в дом, обогрели, накормили и разрешили переночевать. У этого человека, то есть у Барткевича Ивана Александровича, я жила с ребенком до 20 апреля, а потом я вынуждена была уйти, так как по соседству жил полицай Альвинский, который очень придирался и следил за моими хозяевами. Ушла я на территорию, временно оккупированную румынами, в город Жмеринку. В Жмеринке я жила в еврейском рабочем лагере, работала я в немецкой фирме Вальтер-Шифлер. Кормили один раз на день, терпела голод и холод, но жила надеждой, что придет час расплаты с фашистами, и, наконец, настал долгожданный день освобождения. Красная Армия освободила нас, измученных евреев, из-под гнета фашизма. Я вернулась в родной город Хмельник[80].
25 июля 1944 года к моему соседу Войнеру приехал сын-капитан, которого считали давно убитым. Я пошла повидаться с ним. Стоя там, я подумала: «Как хорошо потерять, а потом найти». В это время вбежала девочка моей соседки и говорит мне: «Тетя Блюма, идите домой, ваш мальчик пришел!» Я не поняла, какой мальчик, и побежала домой. И что я увидела? В кухне стоял мальчик, мой сын Миша, которого я потеряла 9 января 1942 года, оборванный, босой пастушок. Когда он меня увидел, он успел только сказать: «Мама, счастье мое!» – и упал без чувств. Вообще, нашу встречу не могу передать на бумаге, и вряд ли найдутся такие краски в мире, чтобы нарисовать такую картину. Через несколько дней, когда он немного успокоился, он мне рассказал следующее. 9 января, после того, как он увидел, что меня с ребенком выгнали на улицу, он вышел вслед за нами на улицу и решил уйти, куда он сам не знал. Так как ему тогда было десять лет, перебрался через речку, где по нему стреляли. Он упал, притворился мертвым. Когда немцы ушли, он поднялся и пошел дальше в неизвестную дорогу. На второй день он очутился в селе Старой Гуте. Оттуда на следующий день пошел в село Рошкивцы, где три месяца бродяжничал, пока староста села не начал преследовать его. Он вынужден был уйти дальше. Пришел он в село Дашковцы, где приютил его тракторист Коваленко, у которого жил целый год. После он перешел на хутор того же села, так как его хозяина Коваленко обвиняли в связи с партизанами, и он боялся, чтобы не узнали, что он еврей. На хуторе мой мальчик нанялся к одному хозяину пастушком и жил там до прихода Красной Армии.
Когда Красная Армия освободила Хмельник, он сразу боялся идти в Хмельник, так как знал, что мамы и братика нет. Ибо он видел, как вывели нас на расстрел. 25 июня он все-таки решил проверить свое счастье и пошел в Хмельник, где нашел меня и братика и письма от папы с фронта. Вот где настоящее еврейское счастье. Товарищ Илья Эренбург, все, что я Вам пишу в этом письме, тысячная доля пережитого мною и моим сыном. Писать обо всем никак невозможно.
Теперь я работаю завпроизводством индпошива, стараюсь работать продуктивно на благо нашей родины. Дети посещают школу, муж на фронте, от которого получаю письма, с надеждой скоро прийти домой с полной победой над злейшим нашим врагом человечества и культуры.
Жду от Вас ответа. В следующем письме[81] постараюсь Вам, дорогой Илья Эренбург, описать поведение и ответ работников по отношению к евреям.
Бронфин Блюма ИсааковнаМой адрес: Хмельник, Республиканская, 74.8.10.[1944 г.]
Бегство двадцати пяти еврейских девушек из Тульчинского гетто.
Воспоминания партизанки Голды Вассерман
Осенью 1942 года в Тульчинском гетто находилось свыше трех тысяч еврейских семей из Украины, Буковины и Бессарабии[83]. Каждое утро на рассвете всех их, стар и млад, всякого, кто стоял на ногах, гоняли на работу. За работу бандиты Антонеску ничего не платили и не выдавали никакой пищи[84]. Добывать пищу приходилось самому. При этом выходить из гетто евреям было строго воспрещено. Когда же румынские жандармы накроют, бывало, в гетто крестьянина, то, жестоко избив, отнимали у него продукты. Лишь по пути на работу и с работы евреям удавалось приобретать что-либо у крестьян или выменивать последнюю одежду на продукты и тайком приносить их в гетто.
Каждый день в гетто доставлялись новые партии евреев. Это были частью люди, долгое время скрывавшиеся в лесах, пробиравшиеся к партизанам и попавшие в лапы фашистских головорезов, частью евреи из разных стран Европы, оккупированных гитлеровцами[85].
Каждый день в гетто умирали пятнадцать-двадцать человек от голода, тифа, тяжелых язв и прочих болезней. Сверх этого разбойники Антонеску изо дня в день расстреливали на работе всякого, кто, вследствие крайнего истощения, еле волочил ноги. Трупы лежали, неубранные, часто в течение целой недели – не успевали просто этого сделать. Что касается издевательств и избиений, даже детей, – то это было в порядке вещей.
Километрах в пятнадцати от гетто находились итальянские и венгерские резервные части. По требованию интендантов этих частей румынский жандармский комендант Тульчина отбирал в гетто здоровых молодых девушек и отправлял их, как гласила официальная версия, на кухни и в пекарни итальянских и венгерских частей. Оттуда девушки возвращались обычно изнасилованными и зараженными разного рода венерическими болезнями. Большинство девушек кончали самоубийством будучи еще в казармах или по возвращении домой, некоторых расстреливали при сопротивлении насильникам или при попытке к бегству.
Каждый раз комендант отбирал новых девушек на «работу». Из гетто их водили к жандармскому коменданту, и там они передавались на руки венгерским и итальянским канальям.
Отбор происходил почти каждые пятнадцать-двадцать дней. Что творилось в гетто – эти отчаянные вопли девушек, родителей – не поддается описанию. С пути девушки, рискуя жизнью, пытались при малейшей возможности спастись бегством. Фашистские подлецы стреляли им вслед, и кого пуля не достигала, та рано или поздно все же попадалась в руки палачей и расстреливалась. Лишь единицам удавалась скрываться в деревнях под видом деревенских девчат или же после долгих блужданий в лесах оказаться спасенной партизанами.
К последней категории принадлежу и я.
Я в числе двадцати пяти еврейских девушек была отобрана для отсылки на «работу» в венгерских и итальянских резервных частях. Нас вели два солдата, венгерец и итальянец. Дорогой пришлось пройти болотом по узеньким мосткам. Скорее взглядом, чем словом Женя Фукс, Соре Витал, Клара Мейдлер и я приняли единогласно решение спихнуть обоих негодяев в болото и бежать. План этот удался, к сожалению, лишь частично. Одного солдата сразу засосало болото, другому же удалось выкарабкаться: он зацепился за гнилой пень и стал стрелять по нам, убегающим. Одна из девушек, Блюме Кригер, была сражена пулей, когда она переходила по мосткам. Она упала в болото, и ее засосало. Солдат выпустил все пули. Когда он принялся снова заряжать ружье, мы забросали его градом камней. Он потерял равновесие, упал, но ухватиться опять за пень на этот раз не смог – слишком далек уж был от него пень, и завяз в болоте.
Две недели мы блуждали по лесам Тульчинской округи, питались ягодами и прочими лесными растениями. Вслед за этим мы добрались до какой-то деревушки, но зайти в деревню не решились: там слышен был гул автомобилей и танков. На полях, примыкавших к лесу, мы собирали ползком картофель и кукурузу и тем временем все более углублялись в лес. Нас, еле живых, нашли разведчики партизанского отряда и спасли от верной голодной смерти. Из раненых девушек осталась в живых одна – Берта Кимельман. Соня Фукс и Регина Залкинд погибли от потери крови.
Геройски погибли в рядах сражающихся партизан Сима Хабад из Сикурен, Роза Гринберг из Черновиц и Лея Куперман из Кишинева. Все три были дважды представлены к наградам. Регина Котесман, Хана Бекер, Лили Шехтер, Соня Курц и Голда Вассерман были также представлены к высшей награде и ныне находятся в различных центрах Советского Союза, где продолжают учебу в советских вузах.
[1944]
Восточная Украина
Рассказ спасшегося из Харьковского гетто
Воспоминания инженера С. С. Криворучко
Я, житель г. Харькова, по национальности еврей, по специальности инженер, по случаю болезни не смог эвакуироваться из города в октябре 1941 года. С первых же часов занятия города немецкими оккупантами евреи почувствовали особое отношение к ним со стороны немцев. Началось с индивидуальных убийств, выселения из квартир и частых посещений еврейских жилищ немцами, бравшими оттуда, что им заблагорассудится. Кроме неорганизованного грабежа, они занялись грабежом, так сказать, в плановом порядке. Для этого ими был назначен так называемый еврейский староста, престарелый доктор Гуревич[87], обязанностью которого являлся сбор контрибуций, налагавшихся на еврейское население. Контрибуции следовали одна за другой, во все возрастающем количестве.
14 декабря с утра по городу были развешаны объявления немецкого коменданта города Харькова с приказом всем «жидам» переселиться в двухдневный срок в бараки на территории тракторного завода; лица, обнаруженные в городе после 16 декабря, будут расстреливаться на месте.
С утра 15 декабря из города потянулись целые вереницы евреев, переселявшихся за город. Многие шли пешком с узелками в руках, другие катили тачки, ручные тележки с незначительным скарбом, который успели захватить с собой. Ехали также на частных подводах. В спешке выселения почти все имущество осталось на месте.
Дорога от города до бараков тракторного завода для многих стариков и инвалидов оказалась последней в их жизни. Не менее тридцати трупов стариков лежали на дороге. Часов с двенадцати дня по дороге начался погром и грабежи переселявшихся евреев. Таким образом, очень многие евреи прибыли в бараки без всяких вещей, а главное, почти без продовольствия, что дало себя почувствовать на второй же день.
Бараки, в которых нам предложили поселиться, были одноэтажные, полуразрушенные, с разбитыми окнами, сорванными полами, пробитыми крышами. Площадь их была в восемь-десять раз меньше того, что требовалось бы по санитарному минимуму. В той комнате, где я поселился, к вечеру набилось свыше семидесяти человек, между тем как нормально в ней проживали не более шести-восьми человек. Люди стояли, приткнувшись один к другому. С трудом на второй день мы установили штук десять железных кроватей, найденных на свалке. На каждой кровати спали три-четыре человека. Несмотря на холодную погоду и разбитые окна, в комнате от духоты было тепло. На третий день бараки были оцеплены немецкими часовыми, не допускавшими никакого общения между нами и внешним миром.
Питания никакого не предоставлялось. Люди ели те запасы, которые успели захватить с собой и привезти из города. Начался голод. На почве голода ежедневно умирали двадцать-тридцать человек. Мы страдали также и от отсутствия воды. С двенадцати до часу дня разрешалось женщинам, и то ограниченному количеству, под охраной идти к вблизи расположенному колодцу и черпать оттуда воду, вернее, не воду, а грязную мутную жидкость. Мужчинам ходить по воду не разрешалось. Вода стала очень дефицитной и продавалась по сто рублей за бутылку. К нашему счастью, выпал снег, и мы употребляли его вместо воды.
От ужасающей скученности, голода, отсутствия воды начались массовые кишечно-желудочные заболевания, которые привели к еще большей антисанитарии. Из бараков во двор разрешалось выходить с восьми утра до четырех дня. Всякий, выходивший в другое время, расстреливался на месте. К утру коридоры в бараках были загажены до невозможности. Тогда начиналась уборка коридора руками, так как лопат или веников не было, а немцы угрожали расстрелом, если не будет убрано в течение часа. Утром же производилась уборка трупов, умерших за ночь. Трупы стаскивались в противотанковые рвы, расположенные рядом. Эти рвы через неделю уже были заполнены.
Грабежи и убийства были повседневными явлением. Обычно немцы врывались в комнаты под предлогом поисков оружия и грабили, что им вздумается. При сопротивлении людей вытаскивали во двор и расстреливали. За день до Рождества и Нового года от нас потребовали, чтобы мы собрали для охранявшего нас караула продукты для устройства вечеринок, деньги на покупку водки. Нищие, полуголодные люди отрывали от своих детей последний кусок сахара или сала и отдавали грабителям на устройство вечеринок. Мало этого. Почти ежедневно гитлеровские негодяи требовали, чтобы им доставляли то часы, то отрезы дорогой мануфактуры. Требования эти выполнялись, так как подкреплялись угрозой расстрела.
Было много случаев убийств, например, за переход из барака в барак, за отправление естественной потребности у стенки, а не в уборной, за то, что подобрал щепку, лежавшую за зоной охраны. Ежедневно отмечалось пятнадцать-двадцать подобных убийств невинных людей.
В обстановке голода, холода, грязи, тесноты, абсолютного бесправья и диких убийств прожил я до 2 января 1942 года. Дней за пять до этого[88] немцы объявили запись на добровольную эвакуацию в Полтаву. Люди были еще до того наивны, что поверили немцам. Записались человек пятьсот, которых погрузили на машины и отправили в неизвестном направлении. При погрузке вещи были уложены в отдельную машину. Когда на последнюю машину не хватило пассажиров, то немцы начали хватать людей из числа провожавших, насильно посадили их в машину и увезли. Судьба «эвакуированных» ясна – их истребили.
2 января 1942 года, в семь часов утра, в коридоре барака, где я жил, раздался крик немецкого часового, приказавшего за десять минут собрать все свои вещи и выйти во двор. Собрав вещи в мешок и вложив в карманы несколько лепешек, я вышел во двор, куда собрались не менее 1000–1200 человек из нескольких бараков. Последовала команда сложить все вещи и мешки во дворе на землю. Затем нас плотным кольцом окружили немецкие часовые и полицаи и повели, объясняя, что эвакуируют в Полтаву. Вышли на шоссе Чугуев – Харьков и пошли в направлении, обратном к городу, между тем как дорога на Полтаву идет через город. Было ясно, что нас ведут не в Полтаву, но куда именно, никто не знал. По дороге мы встречали много немцев, выбегавших из домов и провожавших нас смехом или ехидными улыбками. В двух километрах за последними домами Тракторного поселка нас завернули к яру (оврагу). Весь овраг был усеян обрывками тряпок, остатками рваной одежды. Стало ясно, для чего нас сюда привели. Овраг был оцеплен двойной цепью часовых. У края оврага стояла машина с пулеметами. Когда люди увидели, что их привезли сюда на убой, начались ужасные сцены. Дикие крики оглашали воздух. Некоторые матери душили детей, не желая отдавать их в руки палачей. Появились сошедшие с ума. Были случаи самоотравления. Многие прощались друг с другом, обнимались, целовались, угощали друг друга последними запасами. Иные вынимали из карманов ценности, ломали их, втаптывали в снег, деньги рвали, ножами резали на себе верхнюю одежду, лишь бы она не досталась убийцам.
От стоявшей колонны немцы стали палками отгонять вперед шагов на сто группы по пятьдесят-семьдесят человек и принуждали их раздеваться до белья. Стоял мороз в двадцать – двадцать пять градусов. Раздетых гнали в глубину оврага, откуда время от времени раздавались взрывы и слышалась трескотня пулеметов[89].
Я стоял в полном отупении и не заметил, как за мною раздались крики и немцы палками стали гнать вперед на раздевание ту группу, где находился я. Я пошел вперед, готовый через несколько минут умереть. Но тут оказалось следующее: стариков и инвалидов немцы привозили на место казни в машинах. В эти машины грузились вещи убитых, которые отвозились в город. Я проходил сзади одной из таких машин. В машине находилось два молодых еврея, которых немцы поставили на погрузку вещей. Я мигом вскочил в машину и попросил ребят забросать меня вещами. Сами они затем тоже спрятались среди вещей. Когда машина была загружена, немецкие шоферы завели ее, и таким образом меня и двух ребят вывезли из ужасного оврага. Через час езды нас привезли во двор гестапо, где при разгрузке машины нас обнаружили.
Во дворе вещи складывались под новопостроенный навес. Впоследствии я узнал, что вещи были рассортированы и отправлены в Германию.
После разгрузки нас заперли в машине и повезли обратно в овраг. В пути нам удалось бесшумно вынуть оконную раму. Первым выпрыгнул из машины я. Падение оказалось удачным. Я получил очень сильные ушибы, но кости оказались целыми. При падении потерял сознание, но, очевидно, кто-то оттянул меня с дороги и привел в чувство. Я отправился к жене (она не еврейка и оставалась с приемной дочерью в городе), которая спрятала меня у своей подруги, у которой я прожил шесть с половиной месяцев[90]. Четыре месяца я блуждал затем по деревням по подложному паспорту и, таким образом, дождался 16 февраля 1943 года, когда Харьков был в первый раз освобожден Красной Армией от оккупантов.
Страницы из Данте
Из дневника жительницы Харькова Н. Ф. Белоножко
[…] 15 декабря 1941 года свыше десяти тысяч евреев были согнаны в район харьковского Тракторного завода; в январе все они были расстреляны возле Рогани. Уцелели только те, кто успел убежать или скрывался под чужими фамилиями. Одна из жительниц Харькова, Н. Ф. Белоножко[91], вела краткие записи. Мы сохраняем их во всех подробностях трагической документальности. «Я увожу туда к отверженным селеньям, я увожу туда, где вечный стон, я увожу к погибшим поколеньям». Эти слова из Дантова «Ада» могли бы стать эпиграфом к приводимым записям скорби[92].
По улицам города носится сердитый ветер. Он раскачивает трупы повешенных, срывает с домов обрывки грозных приказов… «За оказание помощи партизанам – смертная казнь»… Смерть, смерть. Всюду смерть.
В эти страшные дни по пустынным улицам переезжаем мы из разбитого дома в новую квартиру по Сумской улице. В нем живет много народа, но я его еще не знаю. Все сидят по квартирам напуганные. По комнатам бродят немцы и забирают все, что понравится. У нас в комнате собрались жильцы, их было много, и все женщины. Вот сидит красивая девушка Рива с большими черными глазами, цвет лица ее матовый, волосы изящно уложены на голове, голос приятный, гортанный. Возле нее маленький кругленький мальчишечка двух с половиной лет, это Шурик. У нее еще две сестры – Софа, девочка, и Маргарита, постарше, лет двенадцати, со строгим лицом и такими же большими глазами, как у сестры. Их мать умерла. Рассказывают о брате, он в Красной Армии. Окончил в Москве Академию. Где-то он сейчас? Пугливо прислушиваются к стукам. Лучшие вещи у них уже забрали немцы, что же будет дальше? В квартире живет еще семья Гершельман. Мать и две дочки. Мать – прекрасная пианистка, работала в консерватории. По вечерам, при коптилке, она читает, а девушки шьют. Дочери, Шура и Соня, с высшим образованием. Соня приехала из Львова, где заведовала библиотекой. Я живу с мамой. Муж мой в Саратове, на военных курсах. Мне уехать не удалось, все ждали, что он за мной приедет… Зима в этом году началась люто. Печек ни у кого не было. Дров тоже. Я уже работаю в столовой. Сегодня борщ из мерзлых бураков без хлеба, затем пошел казеин, что-то белое, клейкое, противное, вроде резины. Для чего он – не знаю до сих пор. Говорят, использовался в самолетостроении. Целый день мерзну в столовой, крики; казеина не хватает. Люди мрут у дверей. Я пока живу: могу съесть несколько порций казеина и еще принести немного домой, а дома с каждым днем все хуже. Печка в кухне еще тлеет, рубят на топливо мебель. Печка облеплена жильцами.
Люба и Вера делают спичечные коробки. Сто коробок – стакан отрубей. Коптилка едва тлеет. Девочки Мордухаевы сидят на полу у печи. Они молчат. Вечеру нет конца. На другой день работница Надя, забрав с собой вещи, идет на «менялку». Возвращается через пять дней вся избитая. Немцы все отняли, остался лишь мешочек с горохом. Надя без конца рассказывала, как в деревне она ела борщ с хлебом. И вот все молодые решают идти с нею. На дворе – стужа, идти не в чем. Рива идет в босоножках и старых галошах. Ушли… Тихо. Я занимаю лучшее место – на плите.
На улицах появились новые приказы – все евреи в двадцать четыре часа должны оставить город. Тянутся страшные процессии. В четыре часа прибегаю домой. В квартире – паника, плач. Дворник заявил, что Мордухаевы должны немедленно очистить квартиру, так как они евреи. Девочки только что вернулись из села, ничего не принесли, все у них отняли, а Шурик требует лепешку. Что делать? Бегу с Маргаритой на Сумскую, 100, в комендатуру, говорю, что знаю Мордухаевых много лет и что они – армяне (знаю немного немецкий язык, так как недавно окончила институт). Удалось. Разрешили остаться, пока достанут поруку. Они остаются, но у них уже нет сил. На работу их не хотят брать, так как они евреи, вслед им кричат «иуд», жить не на что. В их большой комнате, с окнами на север, холоднее, чем на дворе.
Первой в нашей комнате слегла мать Шуры и Сони. Соня ходила в южный поселок, чтобы достать ей молока. Она медленно угасает. И вот в нашей квартире стоит первый гроб из шифоньера.
Вечерами на кухне все со страхом смотрят на свои ноги, давят их пальцами – не опухли ли? У Сони и Нюры ноги сильно опухли, а девочки Мордухаевы просто тают. Они совсем как восковые. Не причесываются, не умываются, варят что-то из картофельных очисток и снега и тут же едят еще сырое. Люди живут продажей вещей, у них же продавать нечего. По квартире ползают вши, они всюду. Софа и Нюра слегли. Лежит и Шурик. Он уже не плачет и даже не хочет есть суп, который я приношу из столовой. В квартире – второй труп, умерла Нюра, а затем через неделю не стало Ривы. Маргарита ходит просить милостыню, она шатается от слабости, глаза у нее дикие, я не могу без ужаса вспоминать эти глаза. Она падает, поднимается и снова падает. Ей надо кормить Шурика и Софу. Она – старшая, ей двенадцать лет. Софа и Шурик громко кричат из комнаты, они требуют у нее есть. В комнате вонь и грязь, жутко зайти. Все еще работаю в столовой. Холод адский, суп замерзает в тарелках. Терплю – жить надо.
У нас – новый покойник. Умерла в больнице Соня. У нее потрескались ноги. Инфекция, и она умерла от заражения крови. Похоронили в братской могиле. Больше не с кем вечерами вспоминать прошлое, жизнь до немцев. Не о ком мечтать. Слегла и Маргарита.
Вчера Шурик попросил лепешку. «Мама дала», – говорит, улыбнулся, а к вечеру умер. Маргарита встала через силу и сказала, что Шурика надо отнести к родственникам хоронить. Ходит рваная, страшная. Мороз все крепчает. Шуры нет, ушла в Люботин. Надя тоже ушла в село и не вернулась. Очевидно, погибла. Софа и Маргарита лежат, принесла им суп, но есть не захотели. Просят чая. Какие они страшные. Кожа, кости и огромные черные глаза. Утром заглянула к ним в комнату. Мертвые. Обе мертвые. Софа – на кровати. Маргарита – на полу. Как хоронить? Ходила к бургомистру – говорит: «Евреев не хороним». Они лежат вот уже десять дней. Хорошо, что холодно, но все равно пахнет трупами. Лежат еще двенадцать дней. Наконец забрали их. Надо прибрать в комнате. Пришла женщина Петровна, хочет поднять перину, слышу жуткий, раздирающий душу крик. Под периной, где спала Маргарита, лежит Шурик. Умер ли он тогда, или она его нарочно туда положила, чтобы кончить мучения? Кто скажет? Он пролежал там полтора месяца. Когда же это кончится? Когда?
Так кончаются эти записки.
[1941–1942 гг.]Подготовил В. ЛИДИН[93]
Гибель евреев Харькова
Воспоминания Нины Могилевской, жены рабочего-автогенщика
[…] Трудно, мучительно вспоминать Харьков… 14 декабря 1941 года… Я и муж мой Яловский, рабочий-автогенщик, шли на рынок: необходимо было обменять что-либо из вещей на еду.
На улице стояла толпа. Люди в тяжком молчании читали объявление, которым немцы сообщали, что все жиды, независимо от пола, возраста, вероисповедания и состояния здоровья обязаны до 16 декабря переселиться в район Лосево за ХТЗ[94]. Обнаруженные вне этой территории будут расстреляны на месте.
На следующий день, вместе с мужем, мы пошли к Тракторному заводу. По улицам тянулась огромная шестнадцатитысячная толпа евреев. Шли молодые, шли старики и старухи, подростки, маленькие дети. Здоровые несли на руках больных.
Рядом с нами пожилая женщина несла на спине парализованную старуху-мать. Впереди нас шла семья: муж, жена и двое маленьких детей. У мужчины была нога в гипсе, он шел на костылях. Было скользко, он несколько раз падал. У ХЭМЗа[95] его пристрелили.
Было очень холодно. Замерзающие отставали, и, если они оказывались в поле зрения немцев, их убивали.
Еще в самом центре города начались грабежи. Грабили у каждого моста и у каждого места, где колонна идущих замедляла движение. Мало кто донес до Тракторного то немногое, что разрешалось и было под силу взять с собой!
За тракторным заводом нас ожидали бараки. Окна были выбиты, печи разломаны. В комнату размером двадцать – двадцать пять [квадратных] метров набивалось пятьдесят-шестьдесят человек. Бараки запирали. Двери открывались, когда немцы под предлогом поисков оружия приходили грабить. Забирали все: ценности, одежду, еду.
Люди умирали от голода и холода; раньше других – старики и дети. Но все это известно от других очевидцев.
Я расскажу о себе, о своем горе.
25 декабря 1941 года, когда уже было ясно, что нас ждет только смерть, я сказала мужу (он – русский), что ему не следует гибнуть из-за меня, он должен уйти домой. Муж не согласился, и я обещала ему, что убегу.
В одном бараке со мной находилась девушка по имени Маруся. Ее муж, тоже русский, был на фронте. Я уговорила бежать и ее.
На территории бараков не было воды. В воде нуждались и немцы. Они посылали женщин по воду к колонке, находившейся на расстоянии трех километров от бараков.
27 декабря, уйдя по воду, мы не вернулись в бараки. Убедившись, что за нами не следят, мы пошли в сторону деревни Каплиневки, где жили родители мужа моей новой подруги. Сто десять километров в холод и стужу, плохо одетые (все теплые вещи забрали немцы) шли мы, нигде не останавливаясь.
В деревнях нам подавали, но оставаться ночевать – мы боялись. Так шли мы днем и ночью… все шли и шли…
Родители мужа Маруси – Сердюковы, нас хорошо встретили, накормили. Сердюков сказал, что если у нас есть деньги, то у коменданта можно купить документы и тогда жить безбоязненно.
Но денег у нас не было. На следующий день по приходе в Каплиневку я вспомнила, что в семи километрах от этой деревни живет дядя моего мужа. Я решила у него попросить помощи и предложила Марусе пойти со мной. Но она, измученная нашими скитаниями, решила остаться у тестя.
Я ушла. Денег я не получила и в тот же день вернулась в Каплиневку. Подходя к деревне, я увидела толпу. Я сделала еще несколько шагов и увидела Марусю, висящую на перекладине. На ней висела табличка с надписью «Болшевичка та жидовка».
Как потом выяснилось, ее выдал свекор – Сердюков.
Я вернулась к родным мужа. И хотя меня искали, дядя меня не выдал. Его вызывали в комендатуру, избивали, требовали, чтобы он сказал, куда я делась, но он молчал. А я по целым дням сидела в погребе и только ночью приходила в хату.
Я была беременна. Приближалось время родов. Рожать здесь было немыслимо. Крик ребенка мог быть услышан случайно зашедшей соседкой. Я не хотела быть причиной гибели людей, так мужественно приютивших меня. Ночью я ушла в Харьков.
Трудна была дорога до Харькова, но в Харькове – еще труднее. Почти на каждом углу стояли полицаи, проверявшие документы. Я пряталась в подъездах зданий и три дня пробиралась через город на Холодную гору, где жили родители моего мужа.
Мне сказали, что муж мой ушел в партизанский отряд. Старики, зная, что это угрожает им смертью, все же приняли меня. Через несколько часов я родила мальчика.
Соседи догадывались, что я вернулась, и хотя среди них не было негодяев, могущих выдать меня и моего ребенка, – оставаться было опасно. Через две недели с ребенком и метрическим свидетельством на имя Яловского Валентина, на которое в нужных местах я налила несколько капель чернил, – я ушла из Харькова искать работы и пристанища.
Я была с ребенком: меня везде пускали ночевать. Иногда разрешали искупать ребенка, но утром надо было уходить, и конца моим скитаниям не было видно.
Я была уже близка к отчаянию, когда мне сказали, что в Пархомовке в свеклосовхоз «Экономию» принимают рабочих. Но надо обращаться к «пану», а «пан» бывает ежедневно на станции у мотовозов.
Весь день ждала «пана» – не дождалась. А на другой день, уже плохо соображая, я подошла к линии, чтобы броситься с ребенком под мотовоз. Вдруг меня кто-то дернул за плечо: «Стоп, ты куда?» – спросил меня по-городскому одетый человек. «Я голодна, ребенок погибает, работу не могу найти». Последовали вопросы – откуда я, где муж и так далее. Все это уже было привычным, и я отвечала, как всегда.
– Ты – городская, а работа у нас тяжелая.
– Я справляюсь со всякой работой.
«Пан» посадил меня в бричку, и мы поехали. Нас встретила «пани».
– Смотри, – сказал ей пан, – какую Катарину с котомкой за плечами и ребенком на руках я подобрал.
Пани процедила:
– Ты вечно со своими фантазиями.
Пан посмотрел на меня и смущенно сказал:
– Она, кажется, под мотовоз хотела броситься. В страдании лицо ее было прекрасным.
Этой фантазии пана я обязана тем, что, несмотря на неясность моих документов, я получила работу и пристанище.
Работа была очень тяжелая, а мне, горожанке, она казалась еще тяжелее.
Ребенок был все время со мной. Лежит на тряпье неподалеку от меня, а я не могу оторваться от работы, подойти накормить его.
Умер у меня сын. Я продолжала работать машинально и тупо, вызывая нелюбовь и раздражение окружающих.
К концу лета пришел мой муж. Он попросился на работу, и его приняли. Через несколько дней у одного из немцев на огороде выкопали несколько кустов картошки. Кто-то сказал, что это я для мужа. Нас вызвали к коменданту. Меня избили до потери сознания. Рубцы на теле останутся навсегда. Потом нас повели на расстрел.
Не удивляйтесь: за катушку ниток, за папиросу, украденную у немцев, убивали и старых и малых.
Идем мы, а я думаю – видно судьба моя умереть от руки немецкого палача. И зачем я столько боролась за свою жизнь! Хорошо, что сын умер, и ему легче.
Вдруг видим – к коменданту подошла женщина – молодая, красивая, жившая у него уже несколько дней. Она о чем-то с ним говорила, и мы услышали:
– Ну, конечно, это не они. Я их хорошо знаю. Это очень честные люди.
Что потом было, не помню. Знаю только, что нас отпустили. Я бросилась на колени перед этой женщиной, а она погладила меня по голове и шепнула:
– Успокойся, я такая же, как и вы.
Я думаю, что она была партизанка.
Как хотели бы мы с мужем увидеть нашу спасительницу, даже имени которой мы не знаем!
Муж вскоре ушел обратно в отряд, а я пробыла в «Экономии» до первого прихода наших войск.
Мне теперь двадцать два года, но горя в жизни я повидала столько, что его с избытком хватило бы на несколько человеческих жизней.
Впрочем, я ведь не одна!
Записал Савва Голованивский[96]
Танки давили людей
Расправа с евреями – мирным населением и военнопленными – в городе Дебальцево
Гитлеровцы в своих жестокостях дошли до предела бесчеловечности. Они зверски умерщвляют народы временно оккупированных советских районов.
Ужасом веют рассказы людей, случайно вырвавшихся из фашистского ада.
Не без содрогания, с неудержимым гневом в сердце к фашистским выродкам, я слушал рассказ выбравшегося из оккупированного немцами украинского города Дебальцево[97] советского гражданина Каца М. Ю.
Вступив в город, эта разбойничья банда, учинила поголовное ограбление населения. Отбирали все, что попадалось под руку. Не гнушались даже детскими игрушками и старым тряпьем.
Все еврейское население взяли на учет и под угрозой расстрела заставили носить белую повязку на левом рукаве. Вскоре началась кровавая расправа с беззащитными стариками, детьми и женщинами – евреями. Однажды ночью пьяная банда немцев в тех домах, где проживало еврейское население, устроила страшный погром. Они врывались в дома мирных людей, избивали и убивали. Стон, предсмертные крики долго стояли в ту ночь в воздухе.
Оставшихся от расправы евреев они погрузили на машины и, как потом стало известно, их за городом расстреляли.
В другой раз немцы, после очередного погрома, на грузовых автомашинах свезли большую группу евреев в противотанковый ров, где начали с ними зверски расправляться. Мужчин, женщин и детей раздевали догола, избивали и полуживых бросали в ров, засыпали их соломой и поджигали.
Грудных детей отнимали от матерей и живыми бросали в огонь. Молодежь подвергали медленным пыткам. Вначале им отрезали нос, пальцы, руки, ноги. Другую большую группу евреев под видом заключения в концентрационный лагерь загнали на площадку, огороженную колючей проволокой. Люди, не понимая, что с ними хотят сделать, с ужасом смотрели на кровавые приготовления палачей. Немцы с тупым хладнокровием убийц на всем ходу пустили в обезумевшую от страха толпу людей танки. Танки своими гусеницами давили людей, стреляли из пушек, пулеметов.
Другой советский гражданин, бывший в плену у немцев, очевидец их зверств, товарищ Никулин мне рассказал:
Гитлеровские охранники с пленными красноармейцами творят неслыханные издевательства. Как правило, они евреев-бойцов отделяют от других красноармейцев. Тот каторжный режим постепенной смерти, который они установили для пленных, к евреям они применяют в полном объеме.
Мне приходилось наблюдать ужасную сцену зверского отношения к евреям-бойцам.
Однажды, ради потехи, пьяные гитлеровские тюремщики вывели двух евреев и под угрозой оружия заставили их ползать на четвереньках и лаять по-собачьи и мяукать по-кошачьи. Немцы тут же стояли и цинично смеялись, заставляя наблюдать эту нечеловеческую сцену и других пленных.
В следующий раз они заставили двух истощенных и измученных чуть живых евреев драться друг с другом, и, когда они стали сопротивляться, палачи избили и пристрелили их.
Так гитлеровские мерзавцы расправляются с еврейским населением.
А. Иванов[1944]Рассказы М. Ю. Каца и НикулинаЗаписал А. Муровский[98]
Братская могила десяти сирот в степи
У самой железнодорожной станции Купянск, на пути из Харькова в Донбасс, возвышается небольшой «курган». Под ним покоятся останки десяти еврейских сирот, погибших от немецко-фашистских снарядов два с половиной года назад во время эвакуации их полтавского детского дома. В течение всего времени пребывания здесь немцев местные жители обманывали их, говоря, что это – «курган» издавна. Оккупанты поэтому не разрыли горку. Когда Красная Армия освободила Харьков и Донбасс, из далекой Алма-Аты, где находится эвакуированный полтавский детский дом, прибыла делегация от воспитателей и детей детдома и с помощью органов восстановленной советской власти поставила на братской могиле превосходный памятник с начертанными именами погибших детей. Вот их имена: Иосл Лернер, родился в Люблине, двенадцати лет; Рива Ридерман, родилась в Люблине, десяти лет; Велвл Моргенштейн, родился в Хрубишове, двенадцати лет; Мотл Хайкин, родился в Варшаве, девяти лет; Мойше Вайнберн, родился в Кельцах, десяти лет; Гершл Фишбейн, родился в Кельцах, двенадцати лет; Монек Гершман, родился в Варшаве, двенадцати лет; Малка Типовицкая, родилась в Холме, девяти лет; Мойше Гроссман, родился в Кракове, одиннадцати лет; Исаак Айзиксон, родился в Кракове, десяти лет…
Все они дети польских евреев. В конце 1939 года родители их бежали из разрушенной Польши на восток. Родители погибли в пути, а детей приютила советская власть. Вместе с сотнями других детей беженцев их отправили в Полтаву в хорошо организованный детский дом. Но и здесь кровавый враг – немецкий фашизм настиг их. Детский дом в полном составе и полном порядке был эвакуирован специальным поездом на восток. На пути, у станции Купянск, поезд атаковали гитлеровские аэропланы, которые снизились и обрушили на поезд с детьми смертоносный огонь. Десять[99] детей пали мертвыми; многие были ранены. Мертвых спешно похоронили у станции. Детские руки засыпали могилу и образовали «курган». Поезд пошел дальше под специальной охраной советских самолетов. Полтавский детский дом нашел приют в Алма-Ате. В делегации, прибывшей из далекого Казахстана в Купянск, находятся также две сироты, получившие тогда ранения, – двенадцатилетняя Рива Бернштейн из Бриска и тринадцатилетний Мотеле Зальцман из Варшавы. От имени своих сотен товарищей, воспитывающихся сейчас в Алма-Ате, Рива Бернштейн и Мотеле Зальцман почтили братскую могилу детей и возложили на нее венок.
У края степи, у самой станции Купянск возвышается курган-могила. Он будет вечно напоминать о зверствах гитлеровских бандитов, немецко-фашистских детоубийц.
[1944]Записал Н[афтали] Г[ерцевич] КонПер. – Д. Маневич[100]
Уничтожение евреев Мариуполя
Дневник Сарры Глейх
17 сентября. Наконец, через месяц после приезда из Харькова я начинаю работать в Мариупольской конторе связи. Дома все время разговор об отъезде. Старики не хотят ехать. Фаня записала нас всех в эшелон завода, но нет уверенности, что возьмут всю семью. Самое главное, как посадить стариков. Я смогу выехать с конторой, которая, безусловно, будет эвакуироваться.
25 сентября. В Мариуполе тихо, не бомбят, люди успокаиваются, это очень многих толкает на мысль, что отъезд необязателен, тем более что вид одесситов, эвакуированных в Мариуполь и не имеющих пристанища, наводит на мысль, что лучше сидеть на месте, чем ехать куда-то голодать и сидеть в холоде. Кажданы колеблются, ехать ли им в Новосибирск. Маничка против поездки, Гданя настаивает на отъезде. Хотят отправить Катюшу с Ганочкой и М. Ф., а самим оставаться в Мариуполе.
1 октября. Фаня, Рая и Фира – жены военнослужащих – ходили в военкомат, им ответили, что никакой эвакуации нет, могут выдать посадочный талон без эваколиста, а вообще считают, что ехать не нужно, до весны в Мариуполе эвакуации не будет.
6 октября. Сегодня в одиннадцать часов утра Кажданы выехали в Новосибирск. Маша оплакивает их отъезд, она уверена, что они не доедут, их убьют по дороге, так как поезда бомбят.
7 октября. Ночью с 6-го на 7-е налет немецких самолетов, бомбы сброшены в порту. Тревога была непродолжительная.
Утром опять налет самолетов. Вывозят войска и раненых из госпиталей. Очень много убежавших от бомбежек из Бердянска и Мелитополя.
Вечером Фира Штернштейн получила извещение о гибели мужа в боях под Осипенко. Завтра утром Штернштейн уезжают с эшелоном «Азовстали». Завтра же отправляется эшелон завода Ильича. Но Фаня говорит, что мы попадаем в следующий.
8 октября. Ночь прошла тихо, все разошлись на работу, магазины торгуют, но в городе чувствуется какая-то напряженность.
Начальник конторы Мельников вызвал меня, сообщил, что 10 октября эвакуируемся, что нужно подготовить документы, можно взять семью, значит, так или иначе отъезд обеспечен. В десять утра началась беспорядочная стрельба, кто-то пришел и сказал, что в городе немцы. Все бросились бежать. Бегу домой. Самолет на бреющем полете обстреливает из пулемета город, пули цокают у самых ног. Толпа призывников с котомками за спиной кинулась врассыпную по домам.
8 двенадцать часов дня 8 октября немцы в городе. Дома – все, кроме Фани, которая на заводе, куда пошла утром на работу. Жива ли она? А если жива, как доберется сюда, ведь трамваи не ходят. Бася у Гани, которая больна брюшным тифом. В шесть часов вечера Фаня пришла с завода пешком, на заводе немцы с двух часов дня, а рабочие и служащие завода сидели в бомбоубежище, артиллерийскую стрельбу приняли за зенитки. Случайно кто-то узнал о приходе немцев в город. Директор завода пытался организовать отряд, раздавали оружие, но, кажется, ничего не вышло. Говорят, что секретаря Молотовского райсовета Гербера немцы убили в кабинете райсовета. Председатель горсовета Ушкац успел уйти.
9 октября. Дома абсолютно нечего есть. Пекарни в городе разрушены, нет света, воды. Работает пекарня в порту, но хлеб только для немецкой армии. Немцы расклеили вчера объявления, обязывающие всех евреев носить отличительные знаки – белую шестиконечную звезду на левой стороне, – без этого выходить из дому строго воспрещается. Евреям нельзя переселяться с квартиры на квартиру, Фаня с работницей Таней все же переносят свои вещи с заводской квартиры к маме. Часть вещей она отдала Рояновой, матери Васи. Поселилась Фаня у нас, хотя папа считает, что она должна быть с Рояновыми.
11 октября. Приход немцев сразу сорвал маски. По городу расклеены объявления, написанные от руки, – призывающие к погромам. Черносотенцы ожили. [Теперь, когда население разграбило все, немцы издали приказ, карающий за грабеж расстрелом, и предлагают населению нести все обратно, но этого, конечно, никто не делает. Немцы возвращают радиоприемники, но с ограничением – имеют право получить приемники обратно только украинцы.]
12 октября. По приказу, еврейское население должно избрать общину в количестве тридцати человек, община отвечает жизнью за «хорошее поведение еврейского населения», так гласит приказ; глава общины – доктор Эрбер. Кроме Файна никого из членов общины я не знаю.
Кроме того, еврейское население должно регистрироваться в пунктах общины (всего зарегистрировано девять тысяч евреев), каждый пункт объединяет несколько улиц, наш пункт – ул. Пушкина, 64, – этим пунктом ведают Бору, бухгалтер, юрист Зегельман и Томшинский. Фаня должна специально идти на завод регистрироваться, председатель общины завода – доктор Белопольский, Спиваков – член общины. Головой города назначен Демченко, кажется, он работал в коммунальном отделе горкомхоза. На заводе голова Будневич, живет по соседству с Рояновыми.
Фаня была у них – Шура и Лева (муж Ани) и сосед их Каюда 10 октября ушли из города. Массовых репрессий пока нет, наш сосед Траевский говорит, что еще не прибыл отряд гестапо, потом будет иначе.
13 октября. Ночью у нас были немцы. В девять часов вечера началась зенитная стрельба. Мы все были одеты. Владя спал, папа вышел во двор посмотреть, есть ли кто-нибудь в бомбоубежище, и наткнулся на трех немцев, они были во дворе, искали евреев, соседи стояли в нерешительности, не зная, что делать – указать или не указать на нашу квартиру. Появление папы разрешило вопрос – папа привел их в квартиру. Тыча в лицо наганом, спрашивали, где масло и сахар, потом стали ломать дверцы шифоньера, хотя шифоньер был открыт, забрали все у Баси, она была у Гани, Ганя – одна, Бася там день и ночь, потом перешли к нашим вещам, к двенадцати часам [ночи] мы остались буквально в чем стояли, двое грабили без передышки, взяли все, вплоть до мясорубки.
[Один из них никого не трогал, только наблюдал, пытался не пускать их в мамину спальню, где спал Владя, и незаметно от них прятал вещи и передавал их мне, указывая жестом, чтобы я их спрятала; он был трезв, а двое пьяны совершенно.]
Увязав все в скатерть, ушли. В доме все разбросано, раскидано, разбито. Решили не убирать, если придут еще, пусть видят сразу, что у нас уже им делать нечего. Утром узнаем, что в городе – повальные грабежи. Грабеж продолжается, и днем забирают все – подушки, одеяла, продукты, одежду. Поодиночке не ходят – три-четыре человека, их слышно издалека – сапоги гремят [по тротуарам].