Финское солнце Абузяров Ильдар
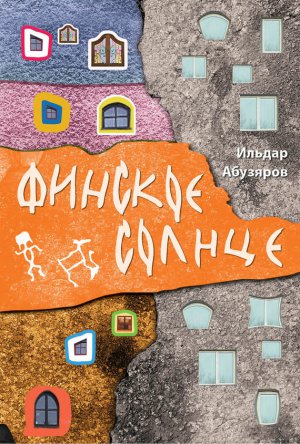
– Мусор наиболее близок смерти. Это сама смерть, данная нам в зримых образах, – разглагольствовал он. – Некоторые психологические переживания ощущает каждый, выбрасывая что-либо в помойное ведро. Настоящее переживание смерти дается тебе каждую секунду твоего бытия, когда ты выкидываешь частицу себя, частицу прожитой тобою жизни на мусорную кучу. Стрижешь ли ты ногти, или сдираешь скребком старую кожу на пятках, смывая с себя вечером запахи дневного бытования.
Но есть оппозиция понятию «мусор» – это понятие «сокровище», – продолжал вещать Аско. – В нем сохранена идея «неисчезания». Мы с вами есть борцы с деструкцией и смертью материи ради духа человеческого. Мы превращаем мусор в сокровища, в наши сокровища! Мы, сортировщики мусора – санитары рода человеческого, хранители памяти и наследия.
Что такое наша жизнь в конечном остатке? – возвращался к базовым понятиям Аско. – Наша жизнь – это груда мусора, наша жизнь – это вещи и люди, с которыми мы соприкасались и которые впоследствии перестали нам служить. Они становились нам не нужны, и мы в том или ином виде от них отказывались, с ними расставались. И они превращались – для нас – в отработанный материал! Некоторые сразу после краткой встречи, а другие постепенно и мучительно долго. Но, каким бы мучительным ни было расставание, оно наступает неизбежно.
А что такое прожитый день? – вопрошал Аско. – Пакетик кофе на завтрак, обертка от сосиски, скорлупки от яиц, огрызок яблока и кожура мандарина?! Это помятая кровать и скомканные звуки радио… Это старый билетик на трамвай номер два… Это воспоминания и фотографии, которые, будто банные листы, прилипают к астральному телу…
То, что запечатлевает наш глаз-фотокамера, моргая веком, словно затвором, всё это лишь мусор и больше ничего. Мы видим на фотографии различные вещи, но это то, что люди скоро выбросят или уже выбросили к тому времени, когда мы рассматриваем фотографию или открытку. Единственное, что остается – живые воспоминания. Но они не фиксируются. В этом смысле «сокровища» и «мусор» находятся по одну сторону оппозиции: это всё вещи «других» и «для других». А по другую сторону обретаются личные необъективные воспоминания.
– Да-да-да! – страстно соглашалась Тююкки, на глазах становясь новым адептом учения местного философа и социального критика. – Когда я выкидывала диван, сам диван мне жалко не было. Мне было жаль звуков, которые он издавал. Жаль скрипов, потому что они смутно напоминали мне о счастливых часах с Йоссиком. Я долго не могла заставить себя расстаться с вещами покойного мужа, потому что они – история нашей жизни и нашей любви. А в детстве я не могла выкинуть старые рваные носовые платочки, потому что они становились мне дороги.
Инспектор Калле слушал речи Аско с куда как меньшим энтузиазмом. Он вдруг вспомнил, как мучительно быстро они расстались с Папайей. Местная по-этесска Папайя, заподозрив местного экзальтированного поэта Авокадо в плагиате, пришла к Калле и потребовала немедленно начать расследование. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, они с Папайей тут же, прямо на письменном столе с заявлением, полюбились.
Ради литературной карьеры Папайя готова была переспать с кем угодно. Стимулируя расследование, она ложилась в постель к Калле каждый день. Но потом Папайя нашла более удачный вариант развития карьеры и раздвинула ножки перед руководителем поэтической студии Гуафой Йоханновичем. Ведь он пророчил Папайе место профессора в литературном институте! От Папайи Калле осталось несколько помятых листков бумаги с поэтическими клятвами в вечной любви и верности и стихами про возвышенные чувства «до самого гроба».
– Остается один вопрос – для чего всё это? Почему так устроена жизнь? – вопрошал Аско и тут же сам отвечал: – Она так устроена, чтобы мы не держались за нее, как за ценность, но одновременно ценили каждую мелочь. Жизнь – это тягомотина, тоскливое беспросветное облако, которое словно поднимается от сжигаемого временем бытия, как от горящего мусора, и заволакивает всё вокруг, приглушая рецепторы, стирая чувства. Мусор возникает, прежде всего, как метафора длительного усредненного серого бытия – бессобытийности.
Что же касается особых сокровищ, тех вещей ручной работы, что пытаются выдать за искусство, за высшее достижение человеческого духа, то я скажу прямо: всё, что производят местный писатель Оверьмне, художник Кистти и скульптор Барокко, тут же становится мусором. Они плодят мусор, марая бумагу и холсты. По их вине искусство просто тонет в мусоре и само превращается в мусор. Все, что высказано деятелями так называемого искусства Оверьмне и Кистти, – шлак и мрак. Любое личное высказывание – это сплошная ложь, сплошной бесполезный мусор.
Настоящее искусство безлично. Настоящее искусство – простая вещь, которая наполняется теплом и светом обывателя, тем самым приобретая ценность. И неважно, тумбочка это или скульптура Микеланджело, картина Рембрандта или ночник. Каждая квартира – это музей, музей величия духа человеческого, музей вашей личной истории, музей вашей любви и дружбы, ваших побед и поражений, вашей бытовой экологии и гигиены.
Аско говорил, а Тююкки вспоминала, как ходили они с мужем Йоссиком по магазинам и покупали разные вещи. Как выбирали кровать и стенку. Самые простые предметы мебели и быта, казалось бы, но как тщательно и любовно они их выбирали!
– Эх… – выдохнула она наконец. – Все они – священные реликвии моей жизни. Если бы я раньше знала ваше учение, я бы никогда не выкинула вещи покойного мужа.
– При каких же условиях мусор становится сокровищем? – спросил, не выдержав, Калле.
– При условии любви, – ответил Аско, даже не глянув в сторону сыщика. – Так верная женщина засушивает цветы от любимого. Она никогда не выбросит на свалку, не избавится от того, что связывало ее с любимым. Конечно, если она по-настоящему его любила.
После душевного разговора с Аско Тююкки поспешила вступить в новое сообщество – в клуб любителей мусора. А Калле, воспользовавшись ситуацией, попросил всех адептов учения Аско помочь бедной немощной старушке и новоиспеченной сестре найти личные вещи, которые она неосмотрительно выбросила. Вся мусорная туса отправилась на поиски, и вскоре появились результаты. Дырявые варежки, которые они нашли, были вязаны с особой любовью. Их Тююкки связала для своего супруга, когда они вместе ходили на лыжах. А в таких ситуациях, ковыряешься ты лыжной палкой в тлеющем мусоре или в белоснежных сугробах, варежки и вообще рукавицы – вещь просто незаменимая.
Взяв эти варежки у Тююкки под расписку, Криминалле отправился в лабораторию. Выезжая с мусорного полигона, Калле увидел на краю гигантской свалки заброшенные дома. Точнее сказать, не дома уже, а остовы с торчащими над мусором печными трубами. Когда-то здесь была небольшая деревушка, но свалка со временем так разрослась, что поглотила ее со всеми потрохами. Сначала жителей, как тараканов, выгнал ядовитый дух. А потом мусор заполонил все улицы, переулки, огороды и дворы.
Одни дома сгорели, другие были разобраны. Остались лишь печи, которые у финнов Поволжья считаются священными. В этих семейных очагах приносили жертвы домашним духам и родовым покровителям, через них общались с богами, молились и просили заступничества у предков.
Косточки после жертвоприношений складывали в узелках на полочки и в ниши огромных печей: то, что предназначено богам, не должно быть тронуто, осквернено или разрушено.
Картина погибшей деревни навевала лютую тоску. Закатное финское солнце выглядело блином на раскаленной докрасна сковороде, которую только-только вынули из печки. Недалек был час, когда мусорная свалка поглотит и весь Нижний Хутор.
Проведя с помощью Паулли экспертизу, Криминалле выяснил, что к дырявым варежкам помимо Тююкки прикасались еще трое. Введя полученные результаты в базу данных, он обнаружил, что это были руки только что освободившегося из тюрьмы бедолаги и замухрышки Упсо, рецидивиста Урко и мусорщика Урно.
«Ясен перец, мусорщик Урно коснулся их, когда закидывал мусор в машину, а вот Упсо только вышел из тюрьмы. Ему наверняка нечего было есть, вот он и покусился на пакеты с мусором».
Имея неопровержимые доказательства, Калле мог смело брать мелкого преступника Упсо и выдвигать обвинение. Только вот стоило ли? Сажать только что освободившегося человека лишь за то, что он украл пакеты даже не с едой, а с мусором? Сажать его за то, что он украл мусор, в то время как Мерве ворует миллионами, – бесчеловечно и подло. Опять же горожане возмутятся и опять обвинят во всем ментов. Скажут, что менты – приспешники власти и ее цепные псы, сажают молодежь из-за всякой ерунды.
И тут Криминалле осенило, почему Мерви, придя к власти, первым делом завладел мусорными полигонами и санкционированными свалками и понастроил мусоросжигающие заводы, так называемые экопарки. И почему во всем мире огромные мусорные мафии контролируют целые страны и диктуют властям свою волю. При помощи гигантских печей Мерви колдует и влияет на судьбу всего Нижнего Хутора! Ему в лапы попадают личные вещи с потом и слезами, ногти и волосы всех без исключения жителей Нижнего Хутора. Недаром в древности зубы, обрезки ногтей, волосы и средства личной гигиены поволжские финны хранили в специальных тайниках, чтобы никто не добрался. А сейчас все выбрасывают вместе с обычным мусором, что позволяет Мерве влиять на любого человека.
Криминалистического опыта и образования Калле вполне хватало, чтобы вспомнить о принципе контагиозной магии, согласно которому вещи, раз пришедшие в соприкосновение, сохраняют связь на расстоянии. Если такую вот проклятую вещь закопать на дороге, где все ходят, получится нечто вроде магического капкана, в который легко может угодить любой житель Нижнего Хутора. Тогда опытный колдун легко поработит бедолагу или расправится с ним. Захочет – нашлет порчу, а захочет – и проклянет. У Калле давно сложилось ощущение, что Мерве злобно ненавидит всех горожан и через средства массовой информации унижает их и проклинает. Тут Калле вспомнил, что одновременно со свалками и мусоросжигающими заводами Мерве прихапал дорожные предприятия с заводами шлакоблочными и битумными. Асфальт ведь делают из битума.
«Вот куда идет переработанный мусор, – рассуждал Криминалле. – Из него делают дороги и стройматериалы, подкладывая туда проклятые вещи и другие магические предметы. А потом эти стройматериалы влияют на простых горожан, множа их несчастья. Люди ходят по дорогам, сделанным из мусора, и живут в заколдованных мусорных домах».
Теперь понятно, как мэр Мерве из простого лесного колдуна-карта стал хозяином большого города! И как удерживал свою власть. Через сжигаемые в печи личные вещи горожан, через чужую любовь, приносимую в жертву, он общается с богами и предками. Он нагоняет на Нижний Хутор мрак коррупции и держит жителей в черном теле и полной зависимости от его воли.
От такого открытия Криминалле чуть не подавился куриной косточкой, которую обсасывал в процессе размышления. Вот взять хотя бы злосчастный «Дом» – о нем в народе рассказывают черт те что. Может, он тоже построен из шлака с мусорного завода? Может, так вот в жизнь его обитателей и вмешиваются неземные силы? Может, они мстят обитателям Нижнего Хутора и «Дома», направляя их печальные судьбы?
Едва только сыщик Калле Криминалле стал рассуждать о «Доме» и о том, что следует срочно нанести мощный удар по мусорной мафии и написать служебную записку, и подготовить доклад о нарушениях, замеченных на свалке… Едва только сыщик задумался, как бы обстряпать это дельце с умом – ведь если он в открытую выступит против системы, пойдет против колдуна Мерви, то вряд ли долго удержится на своем посту, вряд ли вообще останется в живых… Едва он стал обдумывать практические шаги, как сам «Дом», точнее, его жильцы вмешались в воображаемую пока борьбу сыщика Калле и мэра Мерви.
Жильцы «Дома» просто завалили полицейский участок жалобами, что из квартиры самогонщицы Синники нестерпимо смердит. Мало того, что Синники варит самогон и продает местным синякам, так еще с недавних пор она начала таскать весь хлам и мусор к себе в дом. Жаловались на ужасный неистребимый запах и Нера, и Кайса, и Сирка, и Люлли. Все соседи Синники не раз уже писали на нее доношения, но особо усердствовали в этом деле чистюли Венники и Ванни.
Выслушав розовощекого помощника Ментти, сыщик Калле тут же предположил, что старуха на почве учения Аско сошла с ума и теперь тащит к себе всё, что другие выбрасывают! Ведь Аско, прикупая горючую смесь у Синники, наверняка прозудел ей уши своим учением.
«Раз уж я мусор, то мне мусором и заниматься», – решил Криминалле и отправился к старухе Синники по заваленной мусором набережной. Пыль, поднимаемая ветром, заволакивала бледное финское солнце – на открытых гладях ветер всегда неистовствует, – норовила залепить и ранить крошками-соринками глаза, чтобы Калле заплакал и не видел под ногами ни битого стекла, ни пустых зажигалок, ни рваных пакетов, ни прошлогоднюю листву.
Этот мусор, эти ошметки жизнедеятельности, эту опыль и падаль можно было счесть симптомами разрушения Нижнего Хутора. Смрад и сор, заполонившие улицы и набережную, были квинтэссенцией гражданской войны, которую вели жители Нижнего Хутора с властями и друг с другом. Были замесью и завертью будущих страданий и разрушений, как предвестники великой беды, уже сейчас ранили сыщика Калле в самое сердце, заставляя катиться неосознанные слезы.
«Впрочем, бедных немощных бабушек, всех этих любительниц и рассадниц мусора, еще можно понять, – рассуждал Криминалле, стоя в подъезде «Дома» и глядя на свалку старья на лестничной площадке. – Голодное военное детство, хроническое недоедание, затем времена сплошного дефицита, когда все приходилось добывать в очередях с интригами и с боями или из-под полы».
«Если в молодости не удавалось прилично одеваться и наедаться досыта, это непременно скажется в старости», – благосклонно настраивал себя Криминалле, поднимаясь по лестнице и перешагивая через тюки с хламом. К запаху он уже немного привык. «А социальное жилье всегда так попахивает», – подумал он, нажимая грязную кнопку звонка.
Благодушное настроение Калле разом улетучилось, стоило Синнике приоткрыть дверь квартиры. С перекошенным от хлынувшей вони лицом Криминалле показал Синнике удостоверение. И то ли из-за злого лица, то ли из-за грозного удостоверения Синника решила тут же во всем признаться.
– Если вы про это дело Тююкки, то Упсо здесь ни при чем! – заявила она. – Это я попросила его напасть на Тююкки. Эта стерва в молодости увела у меня мужика, Йоссика, и прожила с ним всю жизнь. Я ждала, когда она помрет, чтобы привязать его к себе, но эта ведьма бедного Йоссика извела. Я собирала весь мусор в надежде, что мне что-то достанется со стола Тююкки и Йосси. А когда она стала выбрасывать его вещи, я наняла Урко, чтобы он их перехватил, прежде чем их свезут на свалку к этому нечестивцу Мерви! Хотела, чтобы и мне что-то досталось от сладкой жизни Тююкки и Йоссика. Чтобы и я вкусила миновавшей меня радости.
– Дурдом, – вынес вердикт Калле и через голову Синники заглянул в квартиру, заполненную смердящим хламом.
Не-ет, сажать за решетку двух людей из-за пакетов с мусором, это уже чересчур! Лучше посвятить себя борьбе с нечестивцем Мерви! Сосредоточить все свои силы и бороться всеми способами.
Столпившиеся на лестничной клетке соседи Синники тоже примолкли, погрузившись в невеселые раздумья. Кастро и Люлли, Конди и Нера, Пертти и Исскри, Холди и Никки, Пиркка и Иллки, да и все собравшиеся в подъезде жители «Дома», услышав слезливое признание Синники, переменились к ней. Глядя на Калле и Синники, многие подумали, что последняя, в отличие от Папайи, хотя и не делает маникюры каждый день и не носит кружевные митенки, зато умеет любить всем сердцем. Они с нежностью смотрели то на Калле, то на Синники, хотя еще секунду назад готовы были руками Калле разорвать старушку на части.
Но теперь все жалели Синники, которая прожила с Йоссиком душа в душу целых тринадцать лет. А потом явилась молодая Тююкки и увела мужа из семьи. Мало того, что он бросил разбитую годами и парезами жену, так он еще начал с ней судиться из-за квартиры в доме, намереваясь выкинуть супругу и дочь на улицу.
Следователь Калле уже решил было закрыть дело и убраться восвояси, но тут нюх опытного сыщика зафиксировал запах, который ни с каким другим не спутаешь. Запах, на который у него за годы работы следователем выработалась особая чувствительность. Запах разлагающегося человеческого тела. Быстро протиснувшись в квартиру, пройдя мимо загроможденного хламом коридора, мимо сломанных лыж Яли Иккаренена, мимо склада навеки погасших телевизоров и коробки с винными пробками, Калле зашел в комнатенку, заваленную старыми тюками и мешками, и там нашел тело местной рок-звезды Рокси Аутти.
– Что здесь делает это тело? – зажав нос, строго прогундосил сыщик.
– Я… я н-не знаю, – побледнев, проблеяла Синники. – Он зашел похмелиться и полечиться пару дней назад. Он дышал тяжело, словно загнанная лошадь, держался за сердце и говорил, что ему очень плохо. Просил лекарства… то есть спирта. Я думала, он выпил самогону и тихо ушел себе. А он, оказывается, остался…
– А мы-то думали, что он уехал на гастроли в Майями, – горько воскликнул Антти, друг и фанат Рокси Аутти. – Странно только, что вы не заметили его у себя в квартире.
«Ничего странного, – подумал Калле. – Немудрено человеку потеряться на такой свалке».
До всех потрясавших город той весной событий, до ограбления Тююкки и гибели Рокси той весной не было дела только девочке Уллики. Ее голова и сердце были заняты совсем другим. Девушку переполняла, даже, пожалуй, раздирала любовь к преподавателю курса «Вера и любовь» Петерику Ряссанену.
Не зная, как признаться, Уллики решила подарить Петерику самое дорогое, что у нее было – мишку с оторванной ножкой и одним глазом-пуговицей. С этим мишкой она спала, сколько себя помнила, с самого детства, и вот теперь решила подарить его Петерику как символ своей преданности. По принципу контагиозной магии сила, направленная на предмет, предполагает, что аналогичное влияние будет произведено и на другой предмет, как-то связанный с первым.
Итак, Уллики романтично прогуливалась в мусор-о-клок по Мусор-стрит, сжимая в одной руке пакет мусора, а в другой – старого плюшевого медвежонка, которого вовсе не собиралась выкидывать. От этого хождения туда-сюда в ожидании мусоровоза она даже впала в некую прострацию и перестала приглядываться к мальчикам, благородно помогающим своим матерям. Единственная, собственно говоря, пацанья обязанность: ведь если еще и мусор не будут выкидывать, так совсем на шею сядут и поедут.
Сегодня Улли решила во что бы то ни стало открыть пастырю душ человеческих Петерику свои чувства. «Лишь бы священник не засиделся за своей диссертацией, лишь бы пришел сегодня на Мусор-стрит», – умоляла Улли провидение до тех пор, пока нос к носу не столкнулась со своим предметом.
– Что, и вы тут?! – выходя из прострации, спросила Уллики, чувствуя, как сердце заходится заячьим прыг-скоком.
– А где же мне еще быть в мусор-тайм? – удивился священник.
– Ну, я думала, вы пишете свою научную диссертацию о влиянии стихов Алексиса Киви на религиозные мотивы в поэзии современных поэтов Манго, Авокадо и Папайи.
– Знаете, мисс Уллики, как-то у меня накопился мусор, и я, как честный гражданин этого города, рассортировал его по пакетикам, сложил в целлофановый мешок и вышел на Мусор-стрит. Мне сказали, что машина должна вот-вот приехать. Я ждал полчаса, ждал час, ждал полтора. А потом положил мешочек у подъезда в надежде, что мусорщики его сами заберут. С утра, Уллики, я решил взглянуть, что там с моим пакетом. И знаете, Уллики, что я вам скажу: у крыс был прекрасный ужин при свечах.
В общем, у этого Петерика было тонкое западное чувство юмора. Ряссанен приехал в Нижний Хутор как миссионер, проповедовать темным финским язычникам христианство и первым делом устроился в школу к Уллики преподавателем курса «Основы религии». Он считал, что, в отличие от взрослых, закосневших в своем язычестве, на незрелые умы еще можно как-то повлиять.
– А почему при свечах? – посмеявшись для приличия, поинтересовалась Улли.
– Видите ли, Уллики, в моей квартире слишком высокие потолки. Я вначале думал, что это хорошо. Но когда вдруг погасла лампочка, я полез на табуретку, чтобы поменять ее и проверить пробки. Но вы же знаете, как говорят: если пробка вылетела, значит, и бутылка откупорена, и джин уже вылетел. Вылететь-то вылетел, но оказалось, что всё может вылететь в трубу. Оказалось, что в моей квартире всё держится лишь на честном слове хозяев. После того как я рванул провода, чтобы не упасть с табуретки, упала люстра. А она, оказывается, была той гирей, что удерживала стену. А электрический провод – нитью, которой она была пришита к другой стене. В общем, я ужинал при свечах. А потом и крысы.
Да, своеобразное чувство юмора было у Петерика. Но даже с ним его большие глаза оставались трагическими.
– А где вы спали в ту ночь, Петерик? – спросила Уллики. Теперь она уже не знала, стоит ли смеяться над шутками учителя.
– Знаете, Уллики, я решил пережить эту ночь в ванне с теплой водой. По крайней мере, в ванной остались на месте стены и дверь, так как они скреплялись кафелем. Со свечой я залез в ванну, а с утра вдруг обнаружил, что не вижу собственных ног. Вода была рыжей-рыжей, как свернувшаяся кровь, так что я даже испугался, не лишился ли за время ужина со свечами не только стены, но и ног.
– Ну чтобы вам в следующий раз не было так ужасно спать, – нашлась Уллики, вынув из-за спины игрушку, – я хочу подарить вам мишку, с которым спала все шестнадцать лет моей жизни. Вы не смотрите, что он с оторванной лапой и одним глазом. Во-первых, он мягкий и теплый, а во-вторых, надежно бережет от ночных кошмаров.
У Уллики был такой юный возраст, в котором еще не бывает ничего своего. У нее еще не было мужчины, и потому она вкладывала в каждую вещь любовный смысл.
– Это вам… – Она протянула мишку учителю.
– Спасибо, – улыбнулся Петерик. – Очень, очень трогательно!
– Я рада, что вам понравилось! Я так надеялась! – еще шире улыбнулась Уллики.
– Очень мило, – повторил Петерик. – И такой красивый бантик. – Он потрогал пурпурную ленточку на мишкиной шее.
– Я сама его повязала особым магическим узлом, – призналась Уллики, покраснев пуще ленточки.
– Спасибо, Улли, – натянуто улыбнулся миссионер. – Ну мне пора возвращаться к диссертации…
– О’кей, а я пойду, помогу маме испечь пирог. Если хотите, могу угостить вас завтра…
Но Петерик Ряссанен не обратил на последние слова Улли особого внимания.
«И что мне с ним делать?» – подумал он о плюшевом мишке, едва расставшись с ученицей, но мозг тут же переключился на другие темы. Его голова была просто забита мыслями о заблудших душах, о биржевых котировках, о течении Гольфстрим, о стихах Киви и еще о целой куче мировых проблем.
Переполненный этими мыслями, больше по рассеянности, чем по циничности, он забросил старого мишку в подъехавший мусоровоз вместе с прочим мусором. И мусорный мишка с пурпурным бантиком поехал в печь нечестивца Мерви, чтобы повлиять на эту и последующие любови Уллики. Ей предстояло познать мусорные одноразовые отношения и долгие годы спать с никуда не годными мужиками. Со всеми подряд, то с одним, то с другим.
История пятая. На трамвае за водяникой и голубикой
– Перезагребанная «двойка», – уже третий час ругался юноша Субти.
Конечно, можно было бы перейти на другую сторону путей и сесть на трамвай номер один. Тем более что трамвайное движение в Хуторе организовано по кольцу: через один мост вагоны шли в нижнюю часть города, а через другой – в верхнюю. Или наоборот, если угодно. Один маршрут – по часовой стрелке, второй – против. В каждой части города было по двенадцать остановок. А если проехать всё кольцо, то, считай, все двадцать четыре.
Но ленивому Субти уж больно не хотелось спускаться вниз, в грязные районы бедноты и гопоты, если можно всего за несколько минут доехать по верху. Зачем, скажите, терять драгоценное время и проезжать двадцать лишних перегонов, когда надо проскочить всего три. Еще, чего доброго, застрянешь в адской пробке. Или попадешь в какую-нибудь передрягу.
Если бы Субти не был таким инфантильным, он бы знал, что маршрут номер два во избежание заторов отменили, и теперь по Нижнему Хутору курсирует только маршрут номер один. А по встречным путям сплошным потоком едут машины. Так что если тебе охота проехать к своей возлюбленной Гранде, будь добр, пройди прежде все круги нижнехуторского ада, спустись сперва в нижний город, а потом уже поднимись в верхний. Словно ты не Субти, а Данте какой-нибудь.
Субти как раз накануне вечером прочитал какого-нибудь Данте с комментариями и теперь ехал к своей обожаемой профессорше Гранде, поговорить о поэзии в исполнении маэстро Данте и философии в изложении монстра Мерло-Понти. Субти просто не терпелось поскорее увидеть Гранде, чтобы поделиться своими впечатлениями и комментариями к комментариям.
– Не жди! – крикнул ему пробегавший мимо на лыжах Яли Иккаренен. Он использовал стальные пути как лыжню. – Второй маршрут отменили и кое-где уже сняли рельсы.
– Понял! – ответил Субти. – Теперь ясно…
«Интересно, к какому из адских кругов ближе заречная часть Нижнего Хутора?» – подумал он в ту же секунду и тут же решил, чем себя занять во время муторного путешествия. Поток мыслей – это вам не трамвай, его не остановишь.
От мыслей может лишь отвлечь, да и то на время, красно-желтый с колокольчиками, будто на карнавале в Равенне, переполненный первый маршрут с грозным кондуктором Пекле и меланхоличным водителем Риксо у реостата.
Субти поспешил на другую сторону путей, задавая себе новый вопрос. Если второй трамвай ходил против часовой стрелки, а его отменили, значит ли это, что время в Нижнем Хуторе уже никогда не пойдет вспять? И какие еще последствия эта выходка Мерве будет иметь для Нижнего Хутора?
Маршрут номер два был, как уже сказано, кольцевым, но недавно мэр решил его упразднить. Якобы потому, что из-за трамвая в центре возникали пробки и работники Хаппоненов не могли вовремя добраться до своих офисов. А значит, производительность труда сильно падала.
Конечно, мэр Нижнего Хутора Мерви, решая проблему пробок, мог бы с тем же успехом отменить маршрут номер один. Но этого ему не простили бы любители старины из кружка, возглавляемого историком Кюэстти. Все же «единичка» почиталась исторической гордостью горожан, ибо Нижний Хутор был первым городом России, где пошел электрический трамвай. Трамвайное движение было открыто здесь аж в 1886 году. Некоторые историки в своих изысканиях дошли до того, что называли маршрут номер один самым старым трамвайным маршрутом в мире. Или, на худой конец, вторым.
«Тогда бы его назвали трамвай номер два», – резонно возражал на Первом и Втором всемирном историческом соборе трамваеведов историк Кюэстти.
«Его не назвали вторым, потому что лучше быть первым на деревне, чем вторым в мире», – вполне обоснованно отвечали ему светила науки в лице профессора Эмпи и профессорши Гранде.
«Вы уж определитесь поскорее – первый или второй», – нервничал мэр Мерви, который был почетным председателем форума трамваеведов.
Дай волю мэру, он убрал бы оба маршрута. И проголосовал бы за третий вариант. На своих прессухах мэр с пересохшим после вечерних попоек горлом заводил любимую монотонную песню о монорельсе и метро бусах. Мол, неплохо было бы убрать мешающие трамваи и построить метрополитены верхние, нижние и средние. Чтобы набраться опыта в организации городского транспортного движения, Мерве повадился ездить на курорты Франции и Чехии и не раз побывал даже в бразильском городе Куритибе.
Да-да. Пока горожане мучились в переполненных трамваях, мэр летал по миру, набирался опыта, останавливался в лучших отелях, а на конференциях в лучших ресторанах со знанием дела рассуждал о метроходах и метролетах.
Кондуктор Пелле ничего не знала о том, что первый маршрут – гордость города и горожан. Она, естественно, считала салон трамвая своей вотчиной и распоряжалась там, как в личном подсобном хозяйстве.
– Пройдите в глубь салона! – кричала она на Пертти. – Воздух везде одинаковый.
– Не загораживайте проход лыжами, – требовала она у Яли Иккаренена, – и не суйте всем в рот и в глаза свои лыжные палки! Они не инвалидное удостоверение и не трость, они вам жизнь не облегчат.
– Чего здесь столпились, как бараны у ворот? – расталкивала она могучими локтями сельских жителей Сеппно и Унто. – Людям же выйти надо!
– А ты что развалился в кресле, как старый дед?! – орет она, подлетев к Топпи.
Топпи притворяется спящим. Секунду назад он приоткрыл глаза и увидел тучную женщину пенсионного возраста, которая, ни минуты не сомневаясь, направилась к нему и стала тыкать в нос зажатым в огромном кулаке удостоверением, а потом показывать надпись на стекле: «Места для пассажиров с детьми, беременных женщин и инвалидов».
Но Топпи не видит, что написано у него за спиной. Он не умеет читать затылком. К тому же у Топпи вновь закрыты глаза. Он делает вид, что сон его неодолим, но это ему не помогает.
– Не видишь, женщине плохо?! – угрозно нависает Пелле над Топпи.
В страхе Топпи вскакивает и освобождает место для тетки, которая вовсе не собиралась садиться, потому что должна была выйти на предыдущей остановке.
Женщину, которой нужно срочно выйти и которой плохо оттого, что она забыла слово «остановка», зовут Лямпи.
– Ужас, ужас! Хватит, хватит! – закрыв глаза и зажав уши, визжит Лямпи на Пелле.
А та, загородив проход, толкает ее на освободившееся место.
Голос у Пелле тоже зычный и поставлен не хуже, чем у театральной актрисы Акте. Монет в сумке столько, сколько у цыганки на переднике. А ведет она себя порой, как цыганка, определяющая судьбу: может насиженного местечка лишить, а может и вовсе на улицу выставить.
– Глазки мне тут не строй, билет давай оплачивай! – требует она у Нийло, засмотревшегося на ее толстые капроновые колготки. Причем с такой интонацией, будто тот кот блудливый или пес шелудивый.
– Не тронь кнопку вызова, не видишь – она сломана, – шипит она на Пшикко. – Водитель и без тебя знает, где надо остановить. Кнопочников развелось…
Через шею и плечи Пелле перекинута кожаная портупея, она же сумка. Порой Пелле больше походит не на цыганку, а на комиссара с маузером.
– Ваш партийный билетик, товарищ? – спрашивает она у Паасо так грозно, будто он изобличенный враг народа.
– Пожалуйста. – Тот протягивает билет с таким невинным видом, будто хочет сбросить или открыть все карты. – Вот, я уже покупал.
– Я что должна вас всех в лицо помнить?! – огрызается Пелле. – Вас вон сколько катается, а я тут одна тружусь.
– А это кто у меня тут притаился? – тычет она локтем в спину Осмо, отчего тот даже кашлять начинает. – И не чихайте тут на других. Мне ампул, чтобы прививки от гриппа делать, никто не выдает.
– Вы просто прелестны в своем амплуа, – посылает ей комплимент дамский угодник Нийло.
– Мерси, – Кондукторша тут же становится ласковой. – Вот если бы все были такими понимающими!
– Вы бесподобны и божественны, – уточняет Нийло.
– Мерси, мерси! – Пелле делает что-то вроде реверанса.
Пелле и впрямь неподражаема. Она кого угодно заговорит и застращает. Захочет – загипнотизирует и без штанов оставит. А захочет – помилует и, может, даже кастрировать не станет. Вот она уже направляется к старику Юххо, чтобы встряхнуть пригревшиеся старческие косточки.
– Дедушка, не спать! А то так всю молодость проспите! – визжит она прямо в ухо старику.
– Это же Юххо, – вступается за деда Ойли, когда Пелле уже готова ухватить того за плечо. – Все знают, что у него инвалидное удостоверение.
– Ну и что? Пусть он пенсионер и инвалид, но это не дает ему права кататься тут с утра до ночи, не показывая удостоверения.
– Но зачем вы так кричите? Он же все равно вас не слышит, – не уступает Ойли.
– А ты, значит, тут самая умная, да?! – грозно вопрошает Пелле.
– Да уж поумнее некоторых! – не тушуется бравая Ойли.
Диалог неуступчивой Ойли и напористой Пелле может перерасти в серьезный конфликт, а то и инцидент с травмой, но тут трамвай вдруг резко тормозит, и всех пассажиров сбивает в тесную кучу на передней площадке.
Это водитель трамвая в последний момент заметил субтильного юношу Субти, решившего перебежать пути прямо перед вагоном.
– У вас свободно? – спрашивает Субти у Урко, протискиваясь сквозь плотные ряды пассажиров.
Урко сегодня при параде: в костюме и с галстуком. Дополняют элегантный прикид кроссовки, натянутые на босу ногу. На голове у Урко вязаная пижонская шапочка-пидорка. На свободное сиденье Урко положил букет азалий, которые Субти сначала принял за растрепанные пионы. Потому что вид у Урко, несмотря на элегантный пиджак и строгие спортивные штаны, всё-таки несколько расхристанный.
– У вас свободно? – чуть громче переспрашивает Субти.
– Что вас конкретно интересует? – просит уточнить и формализовать Урко.
– У вас место для кого-то занято?
– Занято, но уж точно не для вас! – Урко пытается оставаться в рамках вежливого разговора.
– А для кого? – на этот раз просит уточнить Субти.
– Вон для того элегантного мужчины! – Уже заводясь, Урко указывает на пробирающегося сквозь толпу Упсо. – Ясно, чувырла?!
– А-а, теперь понятно! – Субти, пытаясь сохранить лицо, делает вид, что удовлетворен.
– Но даже если было бы свободно, я б тебя нипочем не посадил рядом с собой! – Урко уже не может остановиться. – Место есть, но не про твою честь! Понял, урод?
Субти, раздраженный хамством Урко, недовольно хмыкает носом и отходит, не вступая в дебаты, подальше от Урко и поближе к студентам философско-политологического и филологического факультетов Антти и Ахтти.
– Вы что-то хотели у меня спросить? – Урко поворачивается в сторону Ситро.
– Вовсе нет, – вяло улыбается Ситро.
– Все в порядке? – Урко чувствует себя альфа-самцом, отстоявшим территорию.
– У меня да.
– Точно? – переспрашивает на всякий случай Урко, уже ощущая себя хозяином салона с правами не меньшими, чем у Пелле.
– Да-да, все в порядке, – хихикает Ситро.
– У меня тоже. – Урко расплывается в улыбке, сверкая фиксой. Широкая улыбка рассчитана на симпатичных девушек, что табунятся на задней площадке.
Одна из этих девушек – Пиркка. Впрочем, она уже давно не девушка, а молодая мама. И едет не одна, а со своим сыном Иллки. Сегодня Пиркка везет своего малыша не в детский сад, а на свидание к отцу. Нет, Хаакки, отец Иллки, отнюдь не уголовник со стажем, как отважный Урко. И срок ни разу не мотал. Он сидит у себя дома, обставившись компьютерами и мониторами, как маленькими окошечками в мир. Полное его имя Хааккери, но близкие называют его по свойски. Пиркка и Хаакки разошлись, когда их общему ребенку не было и года, всё из-за тех же компьютеров. И глаза Пиркки больше никогда не видели бы Хаакки, но как объяснишь сынишке, почему он при живом и здоровом отце ни разу не встретился с ним. И тогда она, преодолев гордость, набрала номер бывшего супруга.
– Не хочешь хоть раз повидаться со своим сыном? – сразу спросила она.
– Почему ты спрашиваешь об этом именно сейчас? – напрягся Хаакки, которому как раз подвернулась интересная задачка.
– А когда я должна об этом спрашивать? – удивилась Пиркка.
– Но сейчас у меня нет ни сантима, чтобы доехать до вас, – выдвинул аргумент Хаакки.
– Не вопрос, – нашлась Пиркка. – Мы сами к тебе приедем.
И вот Пиркка, снова преодолевая гордость, везет сына на свидание с отцом. Уже второй раз за неделю.
А первое началось как-то неловко. Хаакки стушевался, не зная, что сказать сыну и как себя с ним вести. Но Иллки, недолго думая, подбежал, обнял папу, прижался к нему всем телом и сказал:
– Папа, я тебя очень сильно люблю. Сильнее всех на свете.
– Я тебя тоже люблю сынок. – Хаакки неуклюже обнял сына.
– Ура-а! Мама, папа меня тоже любит! – завопил счастливый Иллки.
От увиденного Пиркка чуть не заплакала. Растишь, растишь ребенка, вкалываешь до ночи в пиротехническом отделе магазина игрушек… А тут какой-то козел, который за шесть лет не удосужился не только увидеть, но даже позвонить, вдруг становится для сына самым любимым человеком…
Впрочем, Пиркка преодолела гордость еще раз, пообещав сыну регулярные встречи с отцом. Это когда Иллки сказал ей перед сном, что сегодня, мол, был самый счастливый день, потому что он наконец увидел папу.
И вот теперь Пиркка везет сынишку на свидание с папой Хаакки.
Хельми тоже везет ребенка. Но не мальчика, а девочку. И не к папе, а к психологу Психикко.
Дело в том, что Хельви совсем плохо учится. Ну никак не хочет постигать азы арифметики и заковыристой грамматики поволжско-финского языка.
Хельви последняя в классе по всем предметам. Хельми приходится тратить целые дни, чтобы дочь хоть чуть-чуть продвинулась в учебе. Научилась складывать палочки и писать буквы по прописям. Но уж больно тяжело даются Хельви соединения между буквами, да и слова в строчку никак не ложатся. Буквы то вылезают сверху, то падают ниже, а то и вовсе ложатся боком. А в математике Хельви путает плюс и минус, и когда ей с натяжкой ставят тройку с минусом, она думает, что получила пять с плюсом.
Озабоченная рассеянностью дочери, Хельми отвела ее к Психикко. Ведь сама Хельми училась всегда хорошо. И на работе Хельми очень сосредоточенна и внимательна, безошибочно сводит кредит с дебетом в приходно-расходных ордерах. В счетах-фактурах Хельми отпускает всегда точное количество хрустящих цифирок-палочек-соломинок, никогда не ошибается и верно разносит по счетам. Ей приходится много работать и вести бухгалтерию в нескольких фирмах, чтобы как-то прокормить семью. Мужа Хельми недавно потеряла. Он нахамил кому-то неудачно в трамвае номер два – вот его и убили.
Психикко долго занималась с Хельви. И однажды ей удало сь вытащить из девочки, что та не хочет хорошо учиться, потому что не хочет взрослеть. Хельви как-то спросила маму, почему папа умер.
– Состарился и умер, – сказала Хельми, не желая пугать дочку трамваем номер два. Еще не хватало, чтобы у ребенка возник комплекс общественного транспорта плюс клаустрофобия.
– А почему он состарился? – спросила Хельви.
– Все люди взрослеют и стареют, – ляпнула Хельми.
– И ты тоже однажды умрешь? – едва проговорила Хельви.
– Ты тогда уже будешь большой и самостоятельной, – ободряюще улыбнулась Хельми.
Теперь Хельви боится, что, когда она вырастет, мама умрет. Потому детская душа и сопротивляется взрослению. Хельви, как заметила Психикко, просто отказывается взрослеть. Психикко вообще считает, что все болячки идут от детских травм. Если из семьи ушел отец, ребенку трудно доверять людям и привязываться к новому человеку. А потом будет трудно полюбить и стать счастливым.
Но пока Хельви маленькая, она счастлива. Она не знает, что у нее будут проблемы с мужчинами. Она раскачивается на разболтанном сиденье, болтает ножками и напевает. А потом переходит на считалку: «Эники-беники ели вареники»…
Энники и Бенники больше всего любили ходить в гости к Сырники и Вареники, потому что сестры Сырники и Вареники и их матушка Оладушки лучше всех умели управляться с ползучим тестом.
– Ты представляешь, – говорит Энники, – масло сливочное подорожало.
– Да-да, – вздыхает Бенники. – А на прошлой неделе – мука и яйца. Цены растут, как на дрожжах. Все дорожает, а зарплату не поднимают.
Энники и Бенники работают в детском саду «Родничок» воспитательницами. А Сырники и Вареники работают в том же детском саду поварихами. А еще Сырники и Вареники учились когда-то вместе с Энники и Бенники в одном классе, а потом и в педагогическо-кулинарном техникуме. Их туда устроила Оладушки, заведующая детским садиком и по совместительству матушка Сырники и Вареники. Собственно, поэтому в холодильнике достопочтенного семейства Оладушки всегда полно диетических, полезных и нежных продуктов. Они их корзинками выносят из садика, потому что некоторые детишки все равно плохо кушают.
Дом Оладушки – полная чаша. Она любит, когда по вечерам собираются подружки дочерей и все вместе пьют чай с вишневым вареньем. А еще Оладушки любит слушать девичьи разговоры и досужие домыслы Энники и Бенники, Сырники и Вареники.
– Ой, девочки! – начинает, бывало, пустой, но занятный разговор Вареники. – Что это случилось с нашим магазином? Сегодня с утра там не было ни йогуртов, ни сметаны, а я так не могу. Мне для жизни обязательно нужно на завтрак либо йогурт, либо сметану. Иначе я начинаю нервничать и не могу работать. А ещё эти прожорливые козлы! Едят и едят целый день!
Это она намекает на детишек из детского сада «Родничок».
– И не говори! – соглашается Сырники. – Это, наверное, потому, что продавщица Толстула наконец выходит замуж. Вы уже слыхали?
– Как интересно! Расскажи скорее, расскажи! – требует Бенники.
– Но гораздо интереснее другое, – замечает Вареники. – Говорят, Лямпи разводится в пятый раз.
– Кошмар! Что за мужики пошли?! – ахает Энники.
– При чем здесь мужики? – осаживает ее Сырники. – Если Лямпи разводится в пятый раз, это еще не значит, что мужчины виноваты. Хотя, возможно, что именно эти пять мужчин – исключение из правил.
Но сегодня Энники и Бенники едут на трамвае в гости не для того, чтобы слушать пустую болтовню, обсуждать мужчин и есть блинчики. Хотя и для этого тоже. Сегодня ровно пять лет с тех пор, как прозвенел последний звонок и отгремел первый выпускной. А спустя пять лет они всем классом договорились встретиться на квартире тети Оладушки. И теперь Энникки и Беники напряженно вглядываются в лица мужчин.
– Смотри-смотри, – говорит Энники. – Вон тот с золотым зубом, что так зырит, это случайно не Тарья? И костюм у него приличный, и цветы при себе.
– Да нет, вряд ли! – сомневается Бенники. – Видишь, у него татуировка тюремная на руке. Скорее, это Упсо. А Тарья был порядочный мальчик и никогда бы не пошел на преступление.
Энники и Бенники так напряженно обсуждают незнакомца, потому что Тарья вроде как… единственный мальчик-одноклассник, оставшийся в живых и на свободе. Все остальные либо спились и умерли от внешних и внутренних травм, либо попали в места не столь отдаленные. В темницы, так сказать, надземные. Вот почему сердца Энники и Варенники напряженно бьются при виде лиц мужского пола. Энники и Бенники еще не знают, что Тарьи тоже нет в живых.
Да, почти все мальчики из класса погибли, а они, четыре подруги, остались и, собравшись вчетвером, как и прежде, могут обсуждать и делить мужчин.
Всю учебу они были скромными и целомудренными, смотрели на мальчиков издали. На их долю не выпало бурных романов. Им явно не хватило романтических историй.
Вот и теперь, словно вспомнив молодость, они с интересом прислушиваются, о чем разговаривают их соседи по задней площадке трамвая – Антти и Ахтти. Не их ли нарядами восхищается восторженный студент филологического Ахтти, и не их ли прически критикует вчерашний студент философского Антти?
У Антти тонкие медные очки с минусовыми линзами и короткий ежик. У пухлощекого Ахтти, наоборот, волосы длинные, вьющиеся, а очечки – с толстыми плюсовыми линзами и в роговой оправе.
– Автобус – ересь в городе! – кипятится Антти. – У него минусовая провозная способность и жуткий выхлоп. Это всё устаревшие технологии. А метробус – тот же автобус, только идет по выделенной линии. В городе нужно развивать скоростной трамвай. Не сокращать, а множить маршруты, чтобы охватить ключевые точки транспортного потока. Скоростной трамвай и экологичней, и надежней, и провозная способность у него выше.
– А мэр говорит, что Куритиба давно развила у себя метробус. И что этот транспорт – один из самых чистых и лучше прочих приспособлен к жизни большого города. – Восторженный Ахтти вслед за мэром восхищается знойным бразильским городом.
– Он так потому говорит, что ему выгодно строить автомобильные развязки. Поди посчитай, сколько бетона залито подставными подрядными организациями. А сколько арматуры заложено под бетоном, а? – спорит Антти. – Кроме того, все эти развязки строятся фирмами, которыми владеют и руководят либо жена, либо дети мэра.
– Да, прелестные у него детишки и жена сексуальная, – продолжает восхищаться Ахтти.
– Развязки не решают, а только усугубляют проблему. Чем больше развязок, тем больше машин. Они проскочат в одном широком месте и неминуемо образуют затор в узком. Нужно не развязки строить, а перехватывающие парковки. Над трамвайными знаками повесить «кирпич» для машин, а центр делать пешеходным и доступным для всех горожан. Чтобы и беременные женщины, и инвалиды-колясочники поняли, что город – среда удобная и существует для них. Улицы должны приглашать на рандеву и промине и молодых, и старых.
– Ну скажешь тоже! «На рандеву и промине», – Ахтти восхищен и идеей Антти. – Муниципалы делают все, чтобы пересадить людей на автомобили. Не только газоны, но и тротуары исковерканы машинами. Для людей, не имеющих автомобилей, вообще ничего не делается. Только сплошной урон. Какие уж тут велосипедные дорожки. Сейчас пройдешься по городу, так не только гари нанюхаешься, но и весь пропылишься, – вздыхает Ахтти. – А потом нам вешают на уши лапшу про комфортную среду обитания.
– «Город равных возможностей», блин! – заходится от злобы и ненависти Антти. – Да ведь мэр хочет и автотранспорт прибрать. Сделать автоперевозчиков частными, то есть своими, не давать работать конкурентам и поднять плату за проезд. А прибыль – себе в карман. А с трамваем так не получается, потому что рельсы городские.
Рельсы в Нижнем Хуторе и вправду пока еще городские. Поэтому утром в первом маршруте кого только не встретишь.
Вон на переднем месте кемарит Малле. Ей каждый день приходится вставать очень рано, чтобы отвезти одного ребенка в садик, а другого в школу. Теперь она едет на службу. Малле, как всегда, не выспалась. Если бы она ехала с работы, чтобы забрать ребенка из садика и отвезти его в кружок, то ее раздражало бы такое количество народу. Но сейчас она почти никого не видит и не слышит, досматривает последние сны. А рядом с Малле клюет носом рыбак Вялле. Он едет с ночной рыбалки.
А вот Папайя, в простонародье Вирши, сегодня совсем не спала. Но ей, в отличие от Малле, и не хочется. Если честно, Папайя всю ночь провела в поэтической студии «Фрукты» на «Вершине блаженства» – так зовется местный ночной клуб, в котором по средам собираются «Фрукты». И, надо сказать, вчера как раз обсуждали последние стихи Папайи. Ведущий студии «Фрукты», мэтр и мастер Гуафа Йоханнович (не путать с Гауфом!) похвалил их. Сказал, что они пахнут, как душистые цветы, и что они сочны, как тыквочки, персики и вишенки. Кому как угодно. Хвалебные речи Гуафы заставили Папайю покраснеть и впасть в эйфорию. Потом Папайя еще долго, до утра, бродила с Гуафой Йоханновичем по улицам Нижнего Хутора.
Дома у Гуафы Йоханновича были жена и трое детей, так что он не мог позвать Папайю к себе на чай. Дети могли проснуться от шума, и, памятуя это, Гуафа Йоханнович даже на улице разговаривал с Папайей полушепотом. Он страстно шептал, что у нее большой поэтический талант и что, когда она отучится в студии, ее ждет блестящее будущее, что он видит ее ректором какого-нибудь Литературного института имени Горького. Института, который можно будет сделать филиалом студии «Фрукты» и переименовать в институт имени Сладкого. А утром Гуафа Йоханнович под сладкие речи – для первой все должно быть номер один – посадил Папайю в вечернем платье на трамвай первого маршрута.
Теперь Папайя старается подобрать выше подол своего черного в рыжую крапинку вечернего платья и подоткнуть его под короткую шубку, чтобы какой-нибудь увалень Унто ненароком не наступил на него, а Сеппо, везущий свои овощи на городской рынок, не поставил на него корзину с картошкой.
Девушка мечтательно застыла в своем вечернем платье и кружевных митенках у окна, а ее воображение дорисовывает там, за окном, ковровую дорожку вместо заснеженной мостовой. Пальцы ног Папайи еще помнят рыжие бакенбарды маэстро Гуафы Йоханновича. Поэтому Папайе легко представить себя звездой местного финского ю-тьюба, шагающей по рыжей ковровой дорожке.






