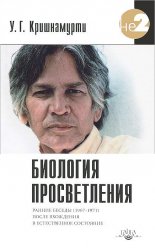Быть Сергеем Довлатовым. Трагедия веселого человека Соловьев Владимир
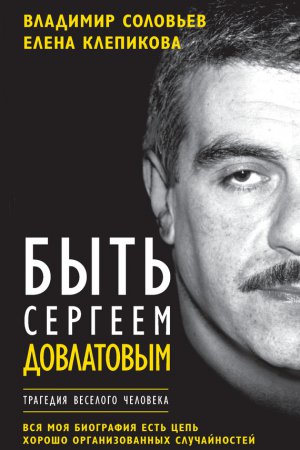
– Я волнуюсь, – ответила бы Лена, продолжая чистить картошку.
Однажды все-таки, когда Сергей возвратился домой поздно, вызвав тем самым у Лены справедливые подозрения, она запустила в него куриной ножкой и попала в висок.
– Хорошо, что я купил свежие куриные ножки, а не замороженные, а то бы мне конец, – сказал Сережа.
Еще одна Сережина история с главным героем Соломоном Шапиро:
Братьев Шапиро пригласили на ужин ветхозаветные армянские соседи. Все было очень чинно. Разговоры по большей части шли о величии армянской нации, о драматической истории армянского народа. Наконец хозяйка спросила:
– Не желаете ли по чашечке кофе?
Соломон Шапиро, желая быть изысканным, уточнил:
– Кофе по-турецки?
У хозяев вытянулись физиономии.
Изя Шапиро вспоминает не только свои истории с Довлатовым, но и те, которые знал понаслышке, а Сережа был притчей во языцех в нашем куинсовском русском землячестве.
Сергей был необычайно щедр – не по-еврейски, а по-кавказски. Рядом на лестничной площадке жила мать-одиночка с 12-летней дочкой, а та мечтала о велосипеде. Однажды поздно вечером Сергей поехал в магазин, купил велосипед и ночью поставил перед соседней дверью. И не признался, что это он.
История вполне в духе Сережи, но чувствовался в ней какой-то изъян в смысле правдоподобия, ибо не из первых рук, и я сбрасываю ее Лене Довлатовой, не сообщая источник. И мгновенно получаю ответ.
«Володя, вот это и есть тот самый миф, который создали вокруг настоящей истории. Но не Сережа, заметьте. Потому история получается довольно пошловато-святочная.
На самом деле было совсем не так. Действительно, в доме по соседству жила семья наших знакомых. Две сестры. Одна уже давно жила в Америке. Другая приехала недавно. У обеих было по дочке, примерно одного возраста. У девочки, жившей в Америке давно, был велосипед. Но у нее был плохой характер. И он выявлялся в отношениях с двоюродной сестрой тоже. И Сережа однажды это увидел. Как раз дело было с велосипедом, который был только у одной. Тогда Сережа решил купить обиженной девочке велосипед. Но мы тоже были, мягко говоря, небогаты. Поэтому Сережа решил купить подержанный. И чтобы выяснить, как это сделать, обратился к Соломону Шапиро. Тот принял историю близко к сердцу. И, будучи тоже человеком широким, пошел с Сережей велосипед покупать.
Покупку ни под какую дверь не подкладывали, а со словами, что какие-то знакомые избавлялись от уже ненужного предмета, вручили девочке.
Вот как на самом деле все обстояло.
А вам самому нравится, что Сережа „был не по-еврейски, а по-армянски“ щедр? По-моему, это проявление антисемитизма. Как и одна рюмка водки в день перед обедом врачами квалифицируется как алкоголизм.
Засим обнимаю вас с Леной. Лена».
Не знаю, как быть. Сообщить Изе Шапиро, что он антисемит?
Вот еще несколько его историй, где его самого нет, а главные фигуранты – Сережа и его брат Соломон Шапиро.
Когда Соломон собрался ехать в Россию и предложил Сергею встретиться в Питере с его двоюродным братом Борисом, большим прохиндеем, и передать ему что-нибудь, Довлатов испуганно замахал руками:
– Ни в коем случае! Он тебя ограбит!
Сергей не любил ничего банального, включая посещение музеев. Прожив десять лет в Нью-Йорке, он ни разу не был в Метрополитен-музее. Соломон, человек окультуренный, регулярный ходок в театры и музеи, пристыдил его и уломал-таки поехать с ним в Метрополитен. Они уже спустились в подземку, взяли билет, вышли на платформу, и тут Сергей с криком «Нет, не могу я это сделать!» рванул обратно, так никогда и не побывав в главном музее Америки, к ужасу Соломона, чья культуртрегерская миссия провалилась.
У Соломона на дне рождения одна одесситка, ярая матерщинница, желая польстить Сергею, сказала:
– Так смеялась, когда читала, что обоссалась!
– Я и не знал, что моя проза действует как мочегонное средство, – сказал Сергей.
Сергей Довлатов и Соломон Шапиро стоят на 108-й улице и беседуют. Соломон замечает рядом, в опасной к ним близости, собачьи какашки и предлагает Сергею отойти в сторонку, чтобы ненароком не вляпаться.
– Да не вляпаемся. Не обращай внимания. Продолжаем разговор.
Соломон, однако, настаивал. Тогда Сережа, не выдержав, растаптывает какашку ногой:
– Всё! Это уже произошло и осталось позади. Продолжаем разговор!
В другом варианте этой истории Довлатов вынимает из кармана чистый носовой платок и покрывает им собачье дерьмо.
Когда у Сергея начались проблемы со здоровьем и подозревали рак мочевого пузыря, его повезли на тест и должны были поставить катетер. Эту процедуру проводила русская медсестра, которая узнала Довлатова.
– Вы писатель? – спросила она, устанавливая катетер.
Превозмогая боль, Сергей закричал:
Да-а-а-а…
Тревога оказалась ложной.
– Рак пятится назад, – сообщал всем Довлатов.
В «Записных книжках» эта фраза отдана Лене Довлатовой.
Я уже писал, что с английским у Довлатова были сложные отношения: будучи перфекционистом, он стеснялся говорить на языке, который знал не в совершенстве. Искренне удивлялся, как я ориентируюсь на хайвеях по дорожным знакам: «Это ж надо успеть их прочесть на ходу, а потом перевести с английского на русский!» Еще говорил: «Дай бог понять одно слово из целой фразы. Хорошо еще, если это существительное или глагол, а если прилагательное или, хуже того, междометие?» Когда он хвастал своей американской любовницей и Изя ему сказал, что так он заодно подучит английский, Сережа ответил, что выучил пока что одно только предложение благодаря этой нимфоманке: «Fuck me hard», – вы, наверное, помните эту историю.
А вот другая история, опять-таки от Изи Шапиро, который удивился, узнав, что Довлатов боится ездить в метро и попасть в передрягу.
– Такой большой и сильный! Я маленький – и не боюсь.
– Дело в моем английском, – загадочно ответил Довлатов.
– Какое это имеет отношение к драке?
– Самое прямое! Когда дерешься, надо выкрикивать какие-то английские слова, а какие – я не знаю.
– Так вы его по-русски покройте, – нашелся Изя.
– А что, это мысль… – сказал Довлатов.
А Соломон Шапиро вспоминает, как встретил однажды Довлатова на 108-й улице с запиской в руках, которую дал прочесть Соломону.
Что сделать сегодня.
1. Позвонить Карлу Профферу.
2. Купить апельсиновый сок Норе.
3. Сделать ксерокс.
4. Не забыть не поздороваться с Моргулисом.
Сноска в тексте: Карл Проффер – один из Сережиных издателей, а Михаил Моргулис – тоже издатель, самодельный, с которым Сережа был на ножах.
А теперь слово Лене Довлатовой, у которой я сверяю выжатый из вспоминальщиков апокриф:
«Доброе утро, Вольдемар.
Ну и истории. От Соломона Шапиро? О чем так увлеченно мог Сережа говорить с Соломоном, чтобы заставить себя вступить в собачьи экскременты, лишь бы не прерывать такое событие? Накрыть носовым платком – больше в образе. И стилистически ближе.
Насчет списка дел. Сережа их писал в записной книжке, которую я называю книгой. Про это уже было не раз писано. Но это ладно. Пусть создаются мифы. Тем более они имеют право существовать в семействе Шапиро, с которыми мы с Сережей были долго в близких отношениях. Вот только мелкие детали все-таки выдают, что эти истории принадлежат человеку, который не обращает внимания на эти детали. В записке сказано между прочим, что надо купить „сок Норе“. Говоря отцу „Донат“, Сергей всегда называл Нору мамой.
Уверена, что Изя не называл свою маму „седенькой такой старушкой“. Изя все-таки не похож на работника конструкторского бюро, коллекционера анекдотов, рассказываемых в излюбленной ими манере: под Зощенко.
Мне кажется, чем короче такие истории, тем они лучше.
Простите, Вольдемар, за крисисизьм.
Лена читала эти воспоминания? Она все в них одобрила?
Только не обижайтесь на меня. Я ведь по-дружески, как вы и хотели, отметила мелкие несообразности.
Обнимаю, Лена».
Вольдемар Соловьев – Лене Довлатовой.
«Лена, на что мне обижаться? Наоборот, очень-очень вам благодарен. Это же не мои истории – за свои я отвечаю. Но довлатовские мифологизмы важны, чтобы сделать паузу в серьезном и драматическом драйве книги.
Все поправки, Лена, будут учтены – я для того вам и посылаю эти мемуаризмы, чтобы вы их откорректировали. Может быть, иногда стоит дать сплетню-легенду, а потом вашу поправку, чтобы оттенить легендарность Сережиной личности. Превращение человека в миф – процесс, который заслуживает если не анализа, то демонстрации. Это все, за редкими исключениями, доброжелательное мифотворчество – в отличие от поклепов завистливо-стукаческого жанра Ефимова или ревнивых вымыслов Попова.
То есть – опять-таки со ссылкой на Сережу – „вредный стук“. А то, что я посылаю вам, – безвредные, уважительные, дружеские всплески, выдавливаемые мною из вспоминальщиков.
Если не будете сопротивляться, буду и дальше проверять у вас некоторые детали.
Ваш ВС».
Вот отвергнутая Леной история, которую я все-таки приведу – не цензурировать же мне Сережу!
Все, наверное, думают, что мы сидим с Леной на кухне и ведем интеллектуальные беседы, обсуждая раннюю философию Бердяева. А у нас разговоры протекают примерно так (изображая раздражение):
– Ну я же тебе сказал купить «Тропикану», вот бля…
Множество историй связано с престарелым Андреем Седых, когда-то литературным секретарем Бунина, сопровождавшим его в Стокгольм за Нобелевской премией, а потом редактором «Нового русского слова», где работала Лена Довлатова, но вынуждена была уйти после того, как Сережа стал редактором конкурирующего «Нового американца». Среди Сережиных подколов редактору «Нового русского слова» был такой:
– Ты уже Седых и Старых, будь же Умных наконец!
Борьба дошла до точки кипения, когда Андрей Седых печатно обозвал Довлатова «вертухаем», а Сережа в отместку назвал свою таксу Яковом Моисеевичем (настоящее имя Андрея Седых). Однажды в этот конфликт подзалетела сотрудник «НРС» Светлана Шапиро, которая винила во всем Довлатова: тот избрал именно ее «горевестником» для передачи Седых одного неприятного ему материала. Это было на следующий день после панихиды по отцу Светы, на которую Сережа не пришел по «уважительной» причине: «Стоять рядом с этой жабой Седыхом!» Тот действительно походил на жабу – не в бровь, а в глаз! Подробности опускаю, но это была еще одна причина для растущей неприязни Светланы к Довлатову.
Когда мы приехали в Америку осенью 1977 года, Андрей Седых хорошо нас принял, обласкал и напечатал расширенный вариант статьи – два подвала, сокращенная версия которой появилась в «Нью-Йорк таймс»: 750 слов – регламент этой ведущей газеты мира для внештатных авторов. Полоса была поделена пополам: одну половину занимала статья академика Сахарова, а другую – наша с Леной о нем. Статья сочувственная, но с пессимистическими прогнозами о возглавляемом им диссидентском движении. Под общей шапкой «By Sakharov. And About Him». К сожалению, мы оказались правы в своих предсказаниях.
Что тут началось! Русская публикация вызвала скандал, «Новое русское слово» чуть ли не каждый день печатала ответные статьи и в заключение дискуссии, хотя по жанру это было скорее аутодафе, опубликовала наше пространное заключительное слово. Андрей Седых снова принял нас в своем кабинете и сказал, что больше никто нас печатать не будет.
– А вы? – спросил я.
– Я – буду, – последовал незамедлительный ответ.
– Ну, что ж! – сказал я Лене, когда мы вышли из редакции. – Нам ничего не остается, как стать американскими журналистами.
Что и произошло. Нас печатали главные американские газеты и престижные журналы, на волне успеха наши статьи стал распространять крупнейший газетный синдикат, и мы даже оказались в числе трех финалистов Пулицеровской премии в категории «комменты». А потом один за другим стали издаваться наши политологические триллеры – авансы достигали шестизначных чисел, и Довлатов пытал нас, сколько именно мы получили за книгу про Андропова – 100 000 или 999 999 (увы, куда ближе к первой отметке).
А тогда, в год нашего приезда в Америку, Андрей Седых в свои 75 (ровесник моего давно умершего отца) был еще о-го-го – в полном здравии и здравом уме. Это потом он стал сдавать и, хотя каждый день появлялся на работе, ошарашивал сотрудников вопросами типа:
«Не забыли переслать гонорар Льву Давыдычу?», не подозревая, что Троцкий давным-давно в могиле.
Мы с Леной Клепиковой (сольно) и с Довлатовым вовсю уже, по нескольку раз в неделю, печатали в «Новом русском слове», слегка переделав под газетный жанр, наши радиоскрипты. Отношение к Седых у Довлатова смягчилось, хотя он продолжал отпускать в его адрес шутки, но скорее добродушные, чем злые: карикатура сменилась шаржем. Раскопал где-то цитату из статьи молодого Седых, вряд ли сам сочинил за него: «Из храма вынесли огромный портрет Богородицы». А уж в «Новом русском слове» мы находили ляпсусы, один почище другого: «На юге Франции разбился пассажирский самолет. К счастью, из трехсот человек, летевших этим рейсом, погибли двенадцать!» Либо в связи с болезнью старого литератора статья под названием: «Состояние Родиона Березова».
Было – не было, но Соломон Шапиро напомнил мне о встрече 80-… уж не знаю, сколько именно летнего Андрея Седых с Сергеем Довлатовым в расцвете лет.
– Как жизнь молодая, Яков Моисеевич? – приветствовал Довлатов ветерана русской журналистики.
Смешно, да? Знал бы Сережа, что Андрей Седых перевалит за девяносто и переживет его на четыре года.
Раздел IV. Жизнь после смерти
Жизнь после смерти
Все интересуются – что там будет после смерти?
После смерти – начинается история.
Сергей Довлатов
Уже после некролога, который я опубликовал в «Новом русском слове», я почувствовал недостаточность публицистического либо мемуарного слова, чтобы понять такого сложного и трагического человека, каким был Довлатов. Отсюда выходы в соседний жанр, которым мы с Леной Клепиковой владеем и предпочитаем всем остальным: прозу. То же самое с Бродским, о котором я сочинил два романа – «Три еврея» и «Post mortem». Нам – каждому по отдельности – не миновать было две эти самые крупные литературные фигуры. В воспоминаниях мы писали о том, что знали и помнили, в прозе – о чем догадывались и что угадывали в Довлатове и Бродском. К памяти подключалась интуиция, фактограф сменялся художеством. А как-то я даже прорвался в далекий жанр и сделал двухчасовое кино «Мой сосед Сережа Довлатов» с участием в нем самого Довлатова (в записи) и обеих Лен – Лены Довлатовой и Лены Клепиковой. Фильм несколько раз показывали по ящику, одновременно вышло видео, а потом и диск. Премьера на большом экране состоялась в популярном клубе в Манхэттене – зал был не просто полон, его пришлось удлинить вдвое, сняв перегородную стенку, – впервые в истории этого клуба. Это был первый фильм о Довлатове – о его содержании читатель может судить по обеим обложкам видео (среди иллюстраций) и по приводимой рецензии писателя и журналиста Вадима Ярмолинца в «Новом русском слове». Упоминается этот фильм и в рассказе «Заместитель Довлатова», герою которого я дал его авторство, хотя сам рассказ о другом: как уболтать женщину, используя знакомство с Довлатовым.
Обращение к прозе мы с Леной Клепиковой объясняли тем, что лот художества берет глубже публицистического анализа. Именно поэтому самый блестящий аналитик русской литературы Юрий Тынянов бросил литературоведение и критику и стал писать о Пушкине и Грибоедове романы. Но это все-таки не единственная причина нашего с Леной сольного обращения к прозе. Скажу за себя.
Какие-то догадки, предположения, гипотезы я никак не смог бы выразить мемуарно без прочной опоры на реальные факты. Вдобавок причина даже не юридического, а скорее морального свойства. Ну, как описать широко известного в наших узких кругах интеллектуального антисемита под его собственным именем? Под своим именем он тоже представлен в этой книге – с тем, что он полагает «антисемитизмом высокой пробы» и что Довлатов считал частью его говнистости, а мне представляется оригинально, стильно выраженным клише и баналом: человек он, безусловно, одаренный. Короче, в таком упрощенном виде он не годился для изящной словесности, а потому понадобилось дать ему более серьезные аргументы и сам его образ углубить. Вот так и возникла повесть «Еврей-алиби», где Довлатов дан под своим именем, зато антагонист авторского персонажа – биографически перелицован и под псевдонимом.
И наконец, случай, который возник в процессе создания этой книги и стоил мне многих нервов. Когда образовалось небольшое окошко в нашей работе, я перелопатил весь мой архив, находящийся в немыслимо бардачном состоянии – в отличие от Сережиного, который он содержал в образцовом порядке, борясь с хаосом внутри себя. Зато я знал, что искал. Копии писем Довлатова, оригиналы которых его адресат – Юнна Мориц – уничтожила (будто бы по его просьбе). Не уверен, что я нашел все – цейтнот! – но и те, что нашел, привели меня в бурный восторг. Чувствовал себя Генрихом Шлиманом, раскопавшим древнюю Трою. Письма – изумительные! Лучшие в эпистолярном наследстве Довлатова! Самый лакомый кусок в нашей книге! А какой сюжет между двумя выдающимися представителями русской литературы. Такой прорыв в работе! Показываю Лене Клепиковой и отсылаю Лене Довлатовой, а сам бросаю все и начинаю сочинять новую главу «Уничтоженные письма». И тут вдруг на экране зажигается оранжевый конвертик: письмо от Лены Довлатовой: «Спасибо за письма. По-моему, замечательные…» Я уже приводил это письмо, и не раз.
А дело было так. Тогда в Москве я писал большой роман, где был «Эпистолярий», даже два – большой и малый, а потому клянчил у знакомых письма, делал с них копии и возвращал обратно. Юнна дала мне Сережины письма с нехорошей и несправедливой припиской, а потом ни за что не хотела брать обратно. Межличностные отношения меж ними порваны (почему – тоже сюжет) и были восстановлены только годы спустя в Нью-Йорке с моей помощью.
Так вот, найдя копии уничтоженных писем, я пребывал в эйфории и кайфовал, перепечатывая их и сочиняя преамбулу. Праздник посреди трудов праведных. Работал до поздней ночи, а наутро разверзлись хляби небесные: Лена Довлатова передумала и возражает против публикации этих писем. Первый и, надеюсь, единственный конфликт между нами не только за время нашего содружества по этой книге, но и по жизни – за всю нашу дружбу.
– Лена, я вас не узнаю! Вас как подменили! – кричу в телефон.
Материально письма принадлежат Юнне Мориц – как бумага, на которой они написаны, но коли письма уничтожены, то ей не принадлежит больше ничего. Однако содержание этих писем – интеллектуальная собственность правообладателя, то есть Лены Довлатовой.
После долгих и мучительных переговоров Лена разрешила мне приводить цитаты из этих писем, но не письма целиком.
– Пусть так, – ищу я лазейку. – Тогда уговор: кроме приведенных цитат, эти письма как бы не существуют вовсе, потому что уничтожены и известны только нам с вами. Я оставляю за собой право использовать их в своей прозе. Как и задумывалось, когда брал у Юнны. Сочиню по ним докурассказ. Не возражаете?
– Я не могу возражать, Володя. Это ваше право как писателя.
Спасительная идея!
Вот я и говорю, что проза бывает вынужденной, спасительной, когда нет никакого другого выхода. Как в этот раз.
Везет же некоторым с соседями
Нью-йоркский писатель Владимир Соловьев много лет жил по соседству с Сергеем Довлатовым и лишь через десять лет после его смерти рассказал об их отношениях в фильме «Мой сосед Сережа Довлатов». Для меня этот фильм стал иллюстрацией к небольшому очерку Соловьева «Довлатов на автоответчике» из большого сборника прозы Соловьева, вышедшего в России. Автор скромно называет этот фолиант «килограммом прозы». Не будучи Золя или Диккенсом, я отношусь к этому килограмму с предельной серьезностью.
<…> Неизбежное, если так можно выразиться, достоинство фильма в том, что он сделан человеком, который хорошо знал Довлатова, был вхож в его дом и посвящен в его частную жизнь.
Повидав не один писательский дом-музей, я поймал себя на том, что, глядя соловьевский фильм, проявил самое что ни на есть невоздержанное любопытство к быту Довлатова. В квартире, где он жил с женой Леной, дочерью Катей, сыном Колей и старушкой матерью, у классика не было кабинета. Он пристроил рабочий стол в углу, «обуютив» его любимыми снимками и рисунками.
Стол с пишущей машинкой содержится Еленой Довлатовой в образцовом порядке. Получается музей-уголок, вокруг которого идет своим чередом обычная жизнь. Отсюда ощущение, что владелец этого стола может в любой момент войти в комнату, появиться в кадре. И то же чувство возникает, когда Соловьев с Еленой беседуют на кухне, где так часто чаевничали соседи-литераторы.
Откуда этот эффект присутствия? Я думаю, он возникает исключительно благодаря той обыденности, которую задает всей съемке Соловьев. Он относится к классику без толики пиетета, а зашел к Довлатовым со своим оператором Валерием Письменным запросто, именно как сосед заходит к соседу!
Но здесь есть и толика ощущения прямой общности с писателем-современником, вынужденным заниматься журналистской поденкой. Соловьев вспоминает довлатовскую мечту, в которой я не нахожу и толики иронии – Сергею звонят со «Свободы» с предложением написать сценарий очередной радиопередачи, а он посылает звонящего в совершенно безвозвратную даль: «Иди ты, Юра…»
Я не хотел бы пересказывать двухчасовой фильм, тем более перед его премьерой. Ее организуют совместно русский отдел Бней-Циона и клуб «Оскар», и пусть каждый зритель сам ищет в фильме достоинства и недостатки. <…>
В фильме есть несколько новелл в высшей степени интересных. <…> Прямолинейный и потому очень эффектный рассказ супруги создателя фильма Елены Клепиковой о ее еще ленинградском знакомстве с Довлатовым. Клепикова работала в редакции «Авроры», и на ее глазах молодой писатель прошибал лбом китайскую стену, возведенную вокруг печатных органов официальной советской литературы. Но вот что невероятно интересно: если в «Ремесле» перед нами предстает безусловная жертва режима, то в рассказе Клепиковой Довлатов сам говорит о вещах, вполне объективно тормозящих его проникновение в «сферы». Он называет себя «писателем-середнячком», «хорошим третьим сортом», «мухой-однодневкой». Он повторяет, что он не писатель, а рассказчик. Восхищаясь Фолкнером, он подыскивает себе эквивалент попроще – Куприна.
Это – момент истины. Довлатов состоялся как значительный писатель уже в иммиграции. Мастерство, достигнутое здесь, в Америке, на порядок выше старого, советского. Там он учился. Клепикова говорит, что у читающего Ленинграда были свои признанные стилисты: Марамзин, Битов, Попов. Так, может быть, поэтому и не печатали? Зная, сколько там печатали откровенной дряни, понятно, что не это главная причина, но это наверняка способствовало непечатанию при звучащей чуть-чуть не в унисон иронической интонации автора, чуть-чуть неортодоксальном взгляде на жизнь. Впрочем, тут, конечно, все сложнее. Составных – хоть отбавляй, в том числе и совершенно сознательная травля некоторых авторов не за прегрешения перед властью, а просто в назидание другим. Чтобы слушались.
Первый раз Довлатов иммигрировал из Ленинграда в Эстонию и здесь пережил следующий удар – набор его сверстанной книги рассыпали по указанию свыше.
Клепикова рассказывает о писательской встрече тех лет в Таллине, где входящий в силу советский поэт Александр Кушнер горячо убеждает ее в том, что путь, по которому идут Марамзин, Бродский, тот же Довлатов, порочен. Что нужно печататься в СССР. Мало того что нужно, но и можно! И его, Кушнера, опыт подтверждает это. Потом они оказываются в доме, где рассказчица сталкивается с Довлатовым. Писатель, чья заветная мечта напечататься в СССР только что была буквально рассыпана вместе с набором его книги, сидит на полу в окружении тьмы опустошенных бутылок.
«Передо мной был человек, переживший катастрофу, – вспоминает Клепикова. – И было совершенно очевидно, что этот человек – не какой-то опустившийся алкоголик».
Цитирую Клепикову по памяти, но смысл именно такой. И конечно, эта катастрофа в полной мере оправдывает то, что о своем трагическом писательском опыте в Ленинграде, а потом в Таллине он писал другой рукой, с другим жизненным опытом.
Повторяю, эта новелла – блестящая.
Такой же интересной мне показалась новелла об отношениях Довлатова и Бродского, «нобеля», купающегося в лучах всемирной славы, и «писателя-середнячка», у которого даже не было своего кабинета. Мы знаем, что высшим американским литературным достижением Довлатова была публикация его рассказов в одном из самых престижных литературных журналов Америки – «Нью-Йоркере». Публикации в «Нью-Йоркере» поспособствовал «нобель».
Но «нобель», обожествленный миллионами поклонников и десятками критиков, был тяжелым человеком, любившим показать, «кто в доме хозяин». И отсюда – немного шокирующая мольба Довлатова: «Иосиф, унизь, но помоги!» Ирония? Лишь отчасти, после рассказа Соловьева о том, как «нобель» заставил два часа торчать пришедших к нему Сергея с Еленой на улице, поскольку принимал более важного посетителя. Классики жили вполне заземленными страстями, обидами, тщеславием. И какой извращенной представляется вполне ординарная для них мысль – кто о ком напишет! Соловьев безжалостно доводит до нас слова Довлатова о том, что-де Бродский – сердечник и, стало быть, писать, скорее всего, будет о Бродском он – Довлатов. А у меня всплывает в памяти плакатик в вагоне нью-йоркской подземки с двустишием Бродского на английском. Цитирую по памяти: you are tough, and I am tough, but who'll write whose epitaph? («Ты – крут? И я крут, но кто кому напишет эпитафию?») Кто-то скажет, что я перегибаю. Тут эпитафия использована лишь для усиления образа крутости. Но ведь именно эпитафия!
Оба думали об этом, ибо эпитафия – еще один способ, пусть и с крепким некрофильским душком, приобщения к литературной вечности. Ожидания Довлатова, пусть меня простят за натяжку в слове «ожидания», не оправдались. Он ушел из жизни раньше Бродского, и Бродский, насколько мне известно, не отметил этот уход никакой «сопроводительной». Видимо, «небожитель» понимал, что калибры разные, что речь идет о писателе-середнячке, хорошем третьем сорте, мухе-однодневке… Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Хотя эта мысль о мухе-однодневке, прозвучавшая в соловьевском фильме, не оставляет меня. По словам Елены Клепиковой, Сергей очень остро ощущал созвучность своей прозы своему времени, умонастроениям современников. Это безусловно так. Кто еще так точно описал нашу эмиграцию 70-х? Ее смятение в новой стране, ее неспособность порвать с покинутой родиной, страшную обиду на нее и страшную тоску по ней. Кто еще, кроме Довлатова, так точно показал умонастроения русскоязычного Нью-Йорка того времени? Оглядываясь по сторонам, не обнаруживаю ни одной значительной фигуры. Никого, кроме Сергея Довлатова. И это автоматически ставит вопрос – насколько же состоятельна горькая самохарактеристика, прозвучавшая из уст несчастного, постоянно отвергаемого просителя в редакции советского литжурнала?
В заключение хочется, приличия ради, вернуться к персоне автора фильма – Владимиру Соловьеву. И отметить, что его работа <…> дает так много поводов для размышлений о его соседе – Сереже Довлатове.
Вадим Ярмолинец,
«Новое русское слово»
Нью-Йорк, 9 февраля 2001 г.
Владимир Соловьев
Заместитель Довлатова
Начать с того, что ему приснился отвратный сон, который он, слава богу, тут же забыл, но осадок остался, как оскомина во рту. Идя в уборную, в темноте он наступил на кота, который слабо протестующе пискнул, и это его непротивленчество слегка даже раздражало: предыдущие его коты были агрессивные, вели себя с ним на равных и уж точно, если бы не цапнули за ногу в ответ, то хотя бы зашипели. А этот вообще не знал, что такое шип. В уборной он пытался вспомнить сон, но тот ему никак не давался. Потом, очищая коту креветки над раковиной (кот их ел с руки, сидя на кухонном столе), он довольно болезненно, до крови, поцарапал палец – проклятие! Ни помазать йодом, ни закончить чистку креветок он не успел – зазвонил телефон. Он побежал снять трубку, но оказалась реклама. Как они смеют вторгаться в его частную жизнь и предлагать всякую херню? Пока он бегал к телефону, кот успел выудить из раковины неочищенную креветку и, конечно, сразу же вырвал все, что съел, – пришлось чистить облеванное им место, а чайник заливался соловьем, он его выключил и приготовил наконец себе завтрак: хлопья с сухофруктами и кофе. О чем же был этот мерзкий сон, подумал он и тут же обжег нёбо кипятком. Снова зазвонил телефон, но он решил не подходить ни в какую: кто может звонить в такую рань? опять реклама? Надо бы включить автоответчик и просеивать звонки – лучше секретаря не придумаешь. Но телефон прямо надрывался, и он в конце концов снял трубку, решив, что вдруг это Нина или из студии: какие-нибудь перемены в расписании. Но на другом конце кто-то упрямо молчал, несмотря на его многократные «алё». Так было уже не раз в последнее время, иногда ему даже казалось, что он слышит чье-то легкое дыхание, и строил догадки, кто бы это мог быть. Нельзя сказать, что потусторонние эти звонки нервировали его – наоборот, вызывали острый интерес. Он перебирал в уме имена тех, кто – гипотетически – молчал и дышал в трубку. На этот раз он не выдержал:
– Будь ты проклят! – И швырнул трубку на рычаг.
Кофе остыл, он добавил кипятка в пивную кружку, из которой всегда отхлебывал, но тот потерял свою крепость, настроение испорчено, как и завтрак, он ждал следующего звонка, которого не было и не могло быть: ей было еще рано, валяется в постели. Может, самому позвонить? Но такого уговора у них не было. Никакого уговора не было, но звонила только она – он мог нарваться на мужа. Но муж уже ушел на работу, поцеловав ее, сонную, на прощание. Интересно, у них был утренний секс, самый сладкий и бессознательный, в полусне, какого у него с ней не было никогда и не могло быть, они ни разу не просыпались вместе. Так урывками, где и когда придется. Или ее муж, даже если у него встает по утрам, бережет свои силы, чтобы выглядеть на экране свеженьким как огурчик? Они с ним работали на одной телестудии, были, считай, конкурентами, и тот был куда популярнее у зрителей, хоть и крутой такой, самонадеянный легковес. Само собой, резко правый, либералов называл леваками. Да еще компанейский травильщик анекдотов. Странно, что он даже не подозревает об их связи. Муж узнает последним? Либо не узнает вовсе? Или подозревает, но не допускает себя до волнений? Он весь такой – чтобы всегда комильфо: не быть, а казаться – его принцип. Хотя кто знает, что у него творится внутри?
Кот подошел к столу, встал на задние лапы, слабо мяукнул. Понять его можно: хоть и чувствовал себя, наверное, виноватым за то, что стибрил из раковины неочищенную креветку, а потом подавился и все вырвал, но желудок его теперь пуст. Придется снова дать ему креветок – хотя бы несколько, пусть сам процесс их очистки он терпеть не мог. Но кот был такой родной, безропотный и красивый, что отказать ему он не мог. А кому он мог отказать?
Их роман начался с отблеска чужой славы: она отдалась ему скорее из любопытства, чем по страсти, – он близко знал Довлатова, когда они вместе подхалтуривали на радио «Свобода», и Сережа ему покровительствовал. Можно и так сказать: он был младшим современником писателя, который посмертно вошел в славу, хотя, с его точки зрения, эта слава превышала талант, о размерах которого сам Довлатов не строил никаких иллюзий и очень бы удивился своей всенародной популярности у себя на родине, которую вынужден был покинуть из-за литературного непризнания и вызовов в гэбуху, хоть не был ни диссидентом, ни даже инакомыслящим. Эмиграция и преждевременная смерть этой славе много способствовали, но было в довлатовской прозе нечто, чего не хватало отечественной словесности. Ниша пустовала, статуя нашлась, Довлатов занял свое место. С рассказов про Довлатова, а их у него был вагон и маленькая тележка, и начались его отношения с Ниной, хотя, стыдно признаться, познакомились они на юбилее ее мужа в итальянском ресторане с пышным названием «Палаццо», где он ел, обжигаясь, креветки fra diavolo. Там они и уговорились как-нибудь встретиться, чтобы он дорассказал ей про Сережу, а она была фанаткой его прозы, все, что его касалось, живо ее интересовало. Так завязались у них отношения и разговорами не ограничились. В опровержение известной мысли Ларошфуко, что есть немало женщин, которые не изменяют своим мужьям, но очень мало таких, которые изменили бы только однажды, Нина изменила первый раз и больше, судя по всему, не собиралась, не из таких, да и возраст не тот, за тридцать, а когда он спросил ее о семейной жизни, сказала:
– Лучше не задавать вопросов.
Он и не задавал, хотя вопросы вертелись на языке, но кто не спрашивает, тот не рискует узнать больше того, что знать следует. Во многом знании много печали…
С утра зарядил весенний дождь – не то чтобы ливень, но противный такой, когда жизнь становится постылой. Не жизнь, а предсмертие. Отцветали яблони, сливы, вишни, земля была в белых и розовых лепестках, зато вовсю цвели разноцветные рододендроны, лиловая и белая сирень, синяя глициния, радуя глаз и раздражая своими запахами носоглотку, – у него вдруг обнаружилась аллергия, он принимал аллегру, которая ему не очень помогала. Или эта его аллергия была не на запахи, а на собственную ускользающую жизнь?
Значит так: их роман с Ниной, едва начавшись, был на исходе. Сначала были исчерпаны его воспоминания о Довлатове, а сам по себе он не представлял большого интереса для Нины. Замужний секс был для нее более-менее достаточен, сексуального голода она не испытывала. То, что ему доставалось, скорее ласка, чем страсть. Если в любви всегда один целует, а другой подставляет щеку, то Нина была, безусловно, принимающей стороной. Вот почему он так боялся, что эта связь вот-вот оборвется. Тем более со стороны было в этой связи что-то нехорошее – будто он добирал в любви то, что проигрывал ее мужу на телеэкране. И то правда – этой «стороны» не было, никто не догадывался о том, что они романились. И не должны были. До поры до времени. Но они-то сами знали! С тех самых пор, как у них началось, они жили этой двойной жизнью, и его это смущало.
А ее?
Он давно хотел поговорить с Ниной всерьез. Но после того как рассказал ей все, что знал о Довлатове, у них на разговоры не оставалось ни сюжетов, ни времени. Их встречи были краткими и нечастыми. А хотел он предложить Нине уйти от мужа, которого она все равно, похоже, не любит, и детей у них нет и не предвидится, и выйти за него, хотя не был уверен, что она его хоть чуточку любит. А если она вовсе безлюбая? Асексуальная? Нет, совсем уж бестемпераментной, то есть фригидкой, ее не назовешь. Нельзя сказать, что она в этих делах перехватывала инициативу, разнообразила позы и была такой уж физкультурницей, но ласкова до изнеможения. Взаимного. Но может быть, она была такой же нежной и в постели с мужем, которого не любила? Вряд ли она отдавалась ему совсем уж без божества, без вдохновенья и никак не ответствовала. Неправда, что ревнует муж, а не любовник, – он ревновал Нину к ее мужу дико. Стоило только представить ее с ним за этим делом. И он не был уверен, что эта ревность сошла бы на нет, если бы Нина, как он хотел, порвала с мужем и сошлась с ним. А прошлое – куда его деть? Что дурака валять: он влюбился по уши. Как никогда в жизни. Хотя кой-какой любовный опыт к своим сорока двум и накопил. Но прежние связи выглядели теперь незначительными и необязательными, как будто он просто тренировался перед встречей с Ниной, оттачивая любовные навыки. Репетиции, не больше. Увести Нину от мужа стало его идефиксом. Но как ей это сказать? С чего начать? А какой скандал! На студии все без исключения будут на стороне Нининого мужа и решат, что не по любви, а из зависти. А что подумает Нина, когда он предложит ей уйти от мужа?
Отбарабанит он сейчас свою передачу «Чужое мнение» – у него сегодня гость из Москвы, будет осторожничать и вилять, договорились, что ни одного вопроса о политике, никакого подкола, понять их отсюда можно, они все под приглядом, за бугор пускают, но в намордниках, – а сразу же за его передачей Нинин муж столкнет лбами каких-нибудь здешних русских на актуалку, и зрители будут звонить в студию и присуждать очки, кто победит, – ну, не дешевка ли? А он вернется домой и станет ждать ее звонка.
А что, если и в самом деле сексуальный реванш на творческой почве? Не полностью, конечно, а частично? Ведь он ее мужа терпеть не мог, а его славу считал дешевкой, на зрителя. Правда и то, что до зависти он себя не допускал, а заработки приблизительно равные. Как это у него с Ниной началось? Они вместе ушли с какого-то русскоязычника в манхэттенском пентхаусе, он предложил ее подбросить, а по пути продолжал рассказывать байки про Сережу и даже пообещал свозить ее на его могилу в Куинсе (чего так пока и не сделал). Они оказались почти соседями, но когда подъехали к ее бруклинскому таунхаусу, довлатовская тема еще не была исчерпана, и он предложил заскочить к нему выпить кофе. Какая-то подмена в этом, конечно, была – будто она не к нему пришла, а в его лице к заместителю своего любимого писателя. Закончив довлатовскую сагу, он замолчал, она сама погладила его по щеке, сочувствуя потере друга, хотя с Сережей они не дружбанили, а приятельствовали, да и возрастные категории разные. Дальше пошло само собой, спонтанно, благо муж в командировке, как в классических анекдотах, но прятаться в шкаф ему не пришлось. Вот они и стали встречаться – их роману уже пара месяцев, но он на исходе. Если ему не придать новую форму, он кончится так же внезапно, как начался.
Передача у него вышла смазанной, унылой, липовой. Он и так перестраховался, а гость все равно весь в напряге, боясь лишних вопросов, – как зомби. Чего они приезжают оттуда в таком мандраже? Они скоро совсем разговаривать разучатся. Вроде бы не прежние времена, никого не бросают в тюрьму за инакомыслие, правда, время от времени неугодных людей убирают физически. Но не этого – известный кинорежиссер, из неприкасаемых. Пока что. Перед передачей тот ему откровенно сказал, что теперь у них в стране такое правило, что-то вроде сделки: мы их не замечаем, они нас не трогают. И действует: оставили друг друга в покое. Открытый эфир, само собой, не подключали, дабы не было подковыра со стороны зрителей. Нет, лучше иметь дело со своими, здешними, как делает Нинин муж. Они встретились с ним на выходе, поздоровались за руку. А что им, переходить в рукопашную? Догадывается?
Когда он вышел из студии, лило как из ведра – или из-за этого у него сегодня такое паршивое настроение? Весь промок, пока бежал сквозь стену дождя к машине, хотя поставил близко. Честно, он боялся разговора с Ниной. Может, отложить? Оставить как есть? Руля из Нью-Джерси в Бруклин, он просчитывал в уме варианты этого разговора. Будь что будет. Водки осталось на самом донышке, он выпил прямо из горла, мало даже для согрева, и в ожидании Нининого звонка отстучал статью для здешнего еженедельника, которого профессиональные журналисты чурались, называя бруклинской стенгазетой, но платили там чуть больше, чем в остальных. Все едино – халтура: еженедельно две телепередачи и две статьи (другая для калифорнийской газеты). Вот его разница с Нининым мужем, который вкладывал в работу живу душу, а скорее притворялся, придавая значение не столько работе, сколько себе на этой работе, и задирал нос. А он отбарабанивал свое – и будь здоров. Когда-то он служил в штате ежедневной нью-йоркской газеты, но не сработался и теперь всем говорил, что на вольных хлебах ему лучше, что на самом деле было не так. Одна медицинская страховка чего стоила! Иногда перепадал заказ из Москвы на его главную тему – о русском преступном мире в Америке, чтобы вбросить компру на соперника в российские СМИ. Если кому-то кого-то надо изобличить с помощью американского журналиста, его хата с краю. А компромат у него всегда под рукой, то есть в компьютере, он варганил такие книжки по-быстрому, бабки сшибал хорошие: Москва платила в разы больше Ню-Йорка. Так он и держался на плаву, отовсюду набегало.
Нина работала дизайнером и одновремененно ответственным секретарем в еще одном русском еженедельнике (а было их в Нью-Йорке с дюжину), филиальчике крупного московского издания, которое отмывало таким образом деньги, что было в порядке вещей: не пойман – не вор. Еженедельник был на порядок выше бруклинской стенгазеты, но когда ему – кстати, через Нину – предложили к ним перейти, он отказался, предпочтя более высокий гонорар более высокому престижу. Можно было, конечно, поторговаться, но была еще одна причина, почему он отказался: не хотел подводить менеджера еженедельника, которая к нему не ровно дышала и даже были поползновения с ее стороны, вполне ничего, молоденькая, но он к тому времени уже увяз в своих отношениях с Ниной. Хоть нью-йоркское русскоязычное коммюнити и разрослось в последние годы, достигнув чуть ли не полуторамиллионной отметки, но в журналистском мире все друг друга знали, и романы в основном завязывались в его пределах – то, что Довлатов в свое время называл «перекрестным сексом», и он очень боялся, что в конце концов просочатся и слухи об их с Ниной связи.
Он позвонил редактору своего еженедельника, получила ли она статью, но секретарша сказала, что у той люди.
– А я что, не человек? – пошутил он. – Передайте ей, что статью я отослал.
Сбегать, что ли, за водкой? Но хоть жажда его и мучила, он боялся пропустить Нинин звонок. Они никогда не сговаривались на точное время, но самое удобное сейчас, когда муж ведет свою популярнейшую в городе телепередачу. Среди русскоязычников, само собой. Поэтому он отшил случайного знакомого, который хотел поделиться с ним о только что вышедшей книге Владимира Соловьева «Post mortem» и сказал, что это убийство поэта. Тем более на прошлой неделе он брал у автора интервью – Соловьев всячески открещивался от героя, доказывая, что его книга не о Бродском, а о человеке, похожем на Бродского.
– Вы боитесь юридической ответственности? – был вопрос из Чикаго.
– Литература – это прием, – уклонился Соловьев от прямого ответа. – Писать о самом Бродском – это прямоговорение, и уже потому хотя бы не в кайф.
Нине роман Соловьева не понравился: бьет на сенсацию, сказала она. Как там в Москве и Питере, а здесь роман стал событием в безлитературной жизни.
Он все-таки включил автоответчик и сбегал за водярой – пил ежедневно, но в запой не ударялся, хотя и был соблазн в последнее время: из-за неопределенности их с Ниной отношений. Хотя куда определенней! Но это физически, а в смысле устойчивости и продолжительности? Почему-то матримониальный вариант казался ему своего рода гарантом их любовной связи. Вот сегодня с ней и поговорю, решил он.
На автоответчике мигал зеленый огонек, и по закону подлости это оказалась как раз Нина:
– Жаль, что тебя нет. Но сегодня ничего не получится. Так что не звони мне, пожалуйста.
Он тут же набрал ее – ему повезло, застал на выходе – и начал уламывать встретиться.
– На нейтральной территории, – было ее условием.
Сговорились в «Старбаксе» – как раз на полпути между ее и его домом. Ясное дело, не в русской забегаловке, где их могли застукать – благодаря ТВ, он лицо узнаваемое. Для храбрости он опрокинул полстакана: сейчас или никогда! Дождь все еще шел, но уже вполсилы. Поэтому отправился пешком – десять минут ходьбы. Ну и душегубка – в отличие от московских, нью-йоркские дожди не приносили свежести и облегчения. Какое-то шестое чувство – «инстинкт пророчески слепой» – подсказывало ему, что сегодня не тот день для выяснения отношений, а тем более для таких крупных объяснений, как он задумал, но и тянуть было дальше некуда, тем более странно, что Нина настояла на нейтральной территории, а не пришла к нему, пользуясь отлучкой мужа, который наверняка задержится после передачи. Поговаривали о его романе с гримершей, Нину он спросить постеснялся, да и откуда ей знать. Если бы знала или подозревала, ему было бы очень кстати ввиду предстоящего разговора.
Нина уже ждала его – прекрасная, как всегда. Макияжем не пользовалась, русые с рыжезной волосы чуть вились, зеленые глаза под темным разлетом бровей, летние веснушки на слегка курносом носу, губы детские, слегка припухшие, сочетание невинности и чувственности. К черту все эти описания:
- Все, что пришлось мне пропустить,
- Я вас прошу вообразить.
Он знал Нинино лицо назубок, но никогда не мог на него насмотреться. Да и времени всегда было в обрез – не до осмотров. А ее маленькая, сводящая с ума грудь с розовыми сосками! Он набрасывался на нее, как с голодного края, ненавидя кондомы – хоть бы раз напрямую соприкоснуться с ее узким, нерожалым влагалищем. Он жадно обцеловывал ее там, всасывался как можно глубже, мечтая всадить свой истосковавшийся член без резинки, – и ни разу, никогда, ни одного минета в ответ. И слава богу – он был бы потрясен, случись такое. Неужели и муж касается ее укромностей губами? Он никак не мог представить, что их с мужем связывает: ее, самую тонкую женщину на свете, и того – болтушку, пошляка, анекдотчика. Единственное, что он однажды позволил себе спросить, спят ли они вместе или раздельно. Нина странно на него посмотрела и ответила нехотя:
– У каждого своя комната. – И добавила: – Если тебя это интересует, пока у нас с тобой, мы с Толей не спим. Да ему особенно и не надо.
В душе он ликовал: она своего Толю не любит! Да и тот к ней ровно дышит. Все, что их связывает, – брачные узы десятилетней давности. А это скорее расхолаживает, чем возбуждает. Сама Нина – не нимфоманка. К тому же у него любовница – вряд ли он часто впаривает жене. А если у них давно забуксовало и они на грани развода?
– А ты знаешь, что у него интрижка на стороне?
Пусть подловато, но он не давал ее Толе обет молчания.
– Догадываюсь, – усмехнулась Нина. – А что, это уже повсеместно известно?
– Слухами земля полнится.
И все равно сегодня не тот день, чтобы решать что-нибудь серьезное. Желая большего, можно потерять что имеешь. Но и удержаться он уже не мог: сейчас или никогда!
И он выпалил ей свое предложение: оставить мужа и выйти за него.
– Ты с ума сошел! – рассмеялась Нина. – А я, наоборот, хотела тебе сказать, что пора нам кончать эту бодягу. Как выяснилось, адюльтер – не мой жанр. Ни романов не хочу, а уж тем более второго замужества. Знаешь ведь, второй брак – это победа надежды над здравым смыслом. Где гарантия, что он будет удачнее первого?
– Гарантом – моя любовь, – полушутя-полусерьезно сказал он.
– Это мы уже проходили, – цинично ответила Нина. – Ты думаешь, пошла бы я замуж, если бы мне то же самое не говорил Толя? – И немного грустно: – Все, наверное, упирается в меня. Одной любви для брака недостаточно. Получается улица с односторонним движением.
– Ты никогда никого не любила?
– Только платонически. Твоего Довлатова, например. Но мы разминулись во времени. Я была малявкой, когда он умер. Ты – взамен.
Ну, не патология ли – быть у любимой женщины заместителем Довлатова? Да к тому же временщиком.
– Сережа пользовался успехом у женщин.
Красивый, высокий, бархатный голос.
– Не в этом дело. Он был безумно талантлив, – сказала Нина, как все довлатовские фанаты, сильно преувеличивая. – Но это вовсе не значит, что я бы захотела с ним близких отношений. Писателя лучше знать по его книгам. Ты, кстати, так и не сводил меня на его могилу, как обещал.
– Хочешь – завтра?
Чем не повод для продолжения отношений? Еще не все кончено – пусть в качестве Сережиной замены. Лучше так, чем никак. Тем более Довлатова она воспринимала исключительно на уровне текста. Видела бы его живьем! Не устояла бы. Он умел пленять именно такие, по-детски чистые и чувственные натуры.
Или она хочет кладбищенским походом завершить их любовное приключение?
Предложил ей заглянуть к нему, но она мягко отказалась: у нее дела.
Назавтра они отправились на могилу человека, с которого началось их знакомство. Время от времени он водил сюда его фэнов, а как-то даже сделал двухчасовое видео о Довлатове, начав его именно с этого еврейского кладбища, а потом развернув судьбу Довлатова ретроспективно: от посмертной славы до безвестной жизни в гуще русской иммиграции, опустив главную причину всех его несчастий – алкоголизм. Запои у него были страшные – не приведи никому Господь. И про это он тоже рассказал Нине – ее остро интересовало все, что касалось Довлатова. Нет, все-таки она влюблена в покойника – с этого у них началось и этим теперь кончается.
Памятник был бездарный, а профиль на Сережу вовсе не похожий. Поверху были положены по еврейскому обычаю камушки, а внизу – по русскому – стояли в вазе свежие цветы. Одно противоречило другому. Цветы не полагались на еврейском кладбище, а что означали камушки, никто из русскоязычников не знал. Такие же он видел когда-то на могиле Кафки в Праге, но никаких цветов там, понятно, не было. Будучи полукровкой, Сережа лежал в интернациональном отсеке кладбища. Его мать – тифлисскую армянку – тайно, за большие откаты, похоронили в ту же могилу: таково было железное желание Норы Сергеевны – вдова не решилась ослушаться. «Я потеряла не сына, а друга», – сказала мне Нора Сергеевна с надрывом, и тут до меня дошло, как Сережа был одинок в жизни, несмотря на обилие знакомых, родственников и собутыльников.
– Но была женщина, которую он любил? – с надеждой спросила Нина.
– Да, – согласился я. – Его первая жена.
Остаточные явления были, но он ее давно разлюбил. Их ничего больше не связывало. Она из него качала деньги и даже приписала ему отцовство своей дочери.
– Ты пересказываешь его прозу.
– Его проза насквозь автобиографична. Он не умел выдумывать, только смещал реальность.
– Ты его не любил?
– Не могу сказать. Но и особой любви между нами не было. В отличие от других, я ему не завидовал, и он это ценил, говорил, что я такой единственный.
– А чему завидовать?
– Все-таки выходили крошечными тиражами книжки, потом «Нью-Йоркер» стал печатать, начались переводы на другие языки. Слава к нему уже подбиралась, а он возьми и помри.
– Как он умер?
– Хуже некуда. По чистой случайности. Пил он по-черному и уползал тогда в свою нору – к любовнице в Бруклин. Там ему и стало плохо. Два латинос в «скорой помощи» из страха привязали его к носилкам, вот он и захлебнулся в своей блевоте.
И тут он вспомнил свой сегодняшний сон.
Снилось, что Парамонов берет у него машину, а возвращая, в ужасе шепотом сообщает, что в багажнике тело Довлатова. Такое могло только присниться – у него «фольксваген» с крошечным багажником. А в реальности Парамонов однажды сказал, что его раздражает незаслуженная слава покойника: «Не дает покоя покойник»… что-то в этом роде, почти в рифму.
Рассказать Нине?
Только не здесь, рядом с его могилой.
А ему Довлатов дает покоя? Вот он влюбился в женщину, которая отдалась ему только потому, что он был знаком с Сережей, и развлекал ее байками о нем. Если только не из мести мужу – Толино б***ство освободило ее от супружеских обязательств, почему самой не попробовать вкус измены? Попробовала – и разочаровалась. Выходит, это их последняя встреча? Лучше фона не придумаешь – кладбищенский ландшафт…
Они пошли к выходу, читая по пути еврейские имена на памятниках с могиндовидом. Говорить не хотелось. Или это могильная атмосфера склоняла к тишине?
Почему ему приснился этот сон, да еще с Парамошкой, к которому Довлатов относился раздражительно и на вопросы о его антисемитизме отвечал, что это только часть его общей говнистости. Впрочем, тема говна часто всплывала в его разговорах. Стоило ему начать ворчать на капризы престарелой Норы Сергеевны, та ему говорила: «Скажи спасибо, что говном стены не мажу». А сам Сережа часто говорил о «говне моей души», соединяя, как сказали бы формалисты, высокое с низким: «Все говно моей души поднялось во мне». Ни о чем этом он не рассказал Нине. Почему? Угождая ей и не желая смещать сиропный образ? А Довлатов был разный. Но кто не разный? Разве что Нина, но он в нее влюблен, а влюбленным свойственно идеализировать объект любви. Неужели они расстаются навсегда?